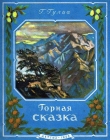Текст книги "Федор Волков"
Автор книги: Константин Евграфов
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 20 страниц)
А Аннушка пыталась понять Федора – и не могла. Вспомнила она итальянскую оперу, красиво все было, а о чем пели актеры, так того и понять нельзя было: не по-русски… Вспомнила и немецкий театр, куда ходила с Федором. Смешно было, а возвысило ль это душу ее, такого она вспомнить не могла.
Далеки, ох как далеки были от нее туманные грезы Федора, и сам он вдруг стал для нее далеким и совсем непонятным. Словно и говорил-то он все это не для нее, а себя распалял и убеждал, чтоб утвердить окончательно в новой мере. Не этих слов ждала она. О чем говорил Федор, вышагивая по комнате и размахивая руками, Аннушка уже не слышала. Потом Федор мыслями в себя ушел, и так далеко, что когда опомнился, ахнул: сколько же они молча-то сидели!
– Батюшка приехал. – Аннушка пошла встречать отца.
Как рад был Федору Петр Лукич! Не знал, чем и потчевать дорогого гостя.
И когда признался Федор, что не прельщает его произвождение и что-де купорос варить – ума много не надо, совсем в замешательство привел добрейшего Петра Лукича. Когда ж о новой мере ему напомнил, Петр Лукич и вовсе понимать его перестал. Подумал только: шутит Федор Григорьевич, разыгрывает его, старого. И засмеялся.
– Ну-ка, наливочки, Федюшка! – предложил по-старому просто. – Сед я стал, кормилец, для таких-то шуток.
И еще раз подумал Федор: непросто, видно, разорвать привычный круг коловращения, и что-то ждет его впереди, коли самые близкие люди понять его не хотят или просто не могут. А как же понять преуспевающего заводчика, который доходы свои немалые на скомороший грош променять норовит! Одно имя ему – сумасброд, и место его – с тяглецами и оплеталами в ярославском остроге.
И, как ни странно, мысли эти не только не испугали Федора, не привели в смущение, но напротив – еще более укрепили в вере своей: показать же людям надо, сколь погрязли они в мелочной суете и в невежестве беспробудном, разбудить их души от той дремучей спячки, в коей пребывают.
– Не-ет, это не шутка, – задумчиво сказал Федор, продолжая свою мысль уже вслух. – Не хлебом единым жив человек… Да что толковать-то об этом!
И чтоб более не видеть расстройства Петра Лукича да Аннушки, поблагодарил он за хлеб-соль и решил учителей своих проведать.
Наутро собрался в дорогу. И вот сидели теперь они, Петр Лукич и Федор, друг против друга в горнице, и сказать им было нечего.
– Стало быть, объединили земли, – глухо повторил Петр Лукич и спросил уже без всякой надежды: – А может, все-таки?.. – И не договорил, махнул рукой. – Бог тебе судья, Федор Григорьич. Делай как знаешь.
На том и простились. Аннушка и провожать не вышла.
Купец Мякушкин, вышедший когда-то из «дела» Федора Васильевича Полушкина «за недостатком средств», чтоб окончательно не обнищать, занялся «варением скотской крови» в бывшем кожевенном амбаре, что стоял на Никольской улице. Привычны были обыватели к родным миазмам и носов не зажимали. Однако, когда Мякушкин произвождение свое на полную силу пустил, поняли, что от такого зловония не только их здоровью вред, но и самой жизни урон причиниться может. И тогда сотские донесли в магистрат: «Всегда безмерный смрад происходит, и воздух так им заражен, что близ оного дома живущим людям не токмо на двор и на улицу выходить, но и жить поблизости весьма трудно…»
Магистрат приказал «варение» уничтожить, а сотских строго-настрого обязал: «Ежели в которой-либо сотне смрадный воздух произойдет, в том магистрату доносить в самой скорости».
Вот этот-то обширный амбар, построенный еще при государе Петре Алексеевиче, и приметил для себя Федор. Сразу ж и сторговал его на лето у довольного купца за пять рублей, с тем, однако, чтоб Мякушкин «препятствиев ему никаких не чинил».
Рьяно взялся Федор за свою затею, и на первом же семейном совете поняли братья, что слово старшего непоколебимо.
– Капитал у нас общий, потому и располагать мы им должны сообща, – объявил он братьям. – Решил устроить я театр не для баловства и потехи, не ради шутовства и зубоскальства, на то и без нас охочих комедиантов предостаточно. Хочу я, братья, попытаться вразумить сограждан своих, чтоб обратили они взор свой внутрь себя, чтоб забыли о злобе, ненавистничестве, зависти, алчности и хоть чуть подобрели душой. Не может же человек добра себе не желать! – Федор помолчал, потер пальцами лоб. – Так вот, капитал. Задумал я немедля же свой театр строить – в Полушкинской роще. Деньги нужны, и немалые. Для того и прошу каждого сказать свое слово: общим ли капиталом меня держать будете иль разделиться захотите? Коль делиться замыслите, я все одно в своем деле крепкий зарок дал. К помещикам, купцам клич брошу, авось помогут: не ради себя стараюсь и прибытков больших не вижу.
– А что ж заводы-то, Федя, в распыл, что ли, пустим, иль как? – не мог понять Алешка.
– Ни в коем случае! – остановил его Федор. – Заводы я тебе немедля же передаю, под твое управление. О том и Берг-коллегию надлежит уведомить. Согласен?
Алешка хмыкнул и пожал плечами.
– Коли для дела нужно, что ж, я согласен.
– А где ж актеров-то брать будешь? – спросил Гришатка.
– Актеров? Бог милостив – найдем.
На том и порешили.
Актеров нашли. Почти все они были приказные, потому и времени имели в избытке. В присутствие являлись они в семь утра, а в два часа пополудни уже уходили, коли наезжавшие ревизоры не сажали их под арест. Жалованье получали скудное, а повышение шло туго. Чтобы дослужиться до чина канцеляриста, нужно было сначала послужить писчиком, потом копиистом, затем – подканцеляристом!..
О купце Федоре Волкове-Полушкине приказные были наслышаны. Что же теперь-то он затеял? Они пришли к Волковым прямо из присутствия. Чинно уселись за огромным дубовым столом: Иван Дмитревский, он же Нарыков, он же Дьяконов, Иван Иконников, Яков Попов, Алексей Попов, Семен Куклин да приставший к ним брадобрей Яша Шумский. Ребята подобрались один к одному – лет по семнадцати-двадцати, не по годам рослые, неунывающие.
Самый молодой – Ваня Дмитревский, еще чуть помоложе Гришатки. И на юношу-то он вовсе не был похож – с черными бровями вразлет, большими серыми глазами и ямочкой на подбородке походил он на красивую девочку, которая постоянно краснела и опускала глаза, прикрывая их пушистыми ресницами. Так за чаем с домашними ватрушками знакомился Федор с новыми товарищами, с которыми задумал души людские от скверны очищать.
Гришатке же более всех полюбился Яша Шумский – непоседливый малый с большими ушами и ослепительной улыбкой. Он сразу же и показал, на что способен был, – пошевелил ушами.
– Все мы Адамовы детки, а что грешно, то и смешно, – и еще раз уши его дрогнули.
Все рассмеялись.
– Этого в Ярославле никто больше делать не может, – пояснил Ваня Иконников. – Ежели смотрельщиков удивить надо сверх меры, выпускай Якова – без слов удивит!
Яков да Алексей Поповы и Семен Куклин уже в доме купца Серова представляли. «Не боги горшки обжигают», – думал Федор. Главное, понял он, что друзья-товарищи его новые не ради корысти пришли к нему, но за укрухами хлебными, – видно, каждый по-своему о том же думал, о чем и Федор. Только одни лишь ощущали тайну какую-то, объяснить которую и не пытались, а иные утешались уже тем, что постигнуть успели.
Поделился с ними Федор задумкой своей и добавил:
– Особливо же запомните – не на святки и масленую зову вас народ потешать. Потешек не обещаю вовсе. Хочу великую книгу бытия открыть людям, чтоб читали они по ней и о себе помышляли: что есть они в мире этом: существа ли бессловесные или же люди, добро творящие. Уразумели сию истину?
И по тону Федора, и по тому, как вздрогнули на его скулах желваки, поняли гости: не шутит старшой Волков, крепко, видно, уверовал в истину свою. И в Федора поверили – в его решимость, в тот неведомый мир, который он хотел открыть перед ними и который обещал неизмеримо больше, нежели комедиантские игрища потехи ради.
Не станет же купец вот так, за здорово живешь, состояние свое в распыл пускать!
Выбрал Федор на пригорке, чтоб Волгу далеко видно было, красивое место для нового театра, нанял мастеров – и с богом! Потянулись в Полушкинскую рощу подводы с лесом и камнем, с песком и железом. А за усердие и прилежание посулил Федор работникам награду сверх уговора. Сам же с новыми товарищами своими за амбар Мякушкина принялся. К тому времени еще двое молодых ярославцев к Федору пристали: Семен Скачков из посадских да малороссиец Демьян Галик.
Весело работа пошла. И все ж, сколь ни мыли, ни скребли, ни купоросили кирпич этот, никак тяжкий дух от кислой кожи и вареной крови истребить не могли. Поняли тогда, откуда дух этот идет: вся земля вокруг пропиталась этим смрадом, а стоки, что к Волге шли, багровой ржой закуржавились. Пришлось вокруг амбара слой земли снимать, потом засыпать содой и все это свежим дерном покрывать. Даже купец Мякушкин в смущение пришел.
– Не мне б с тебя деньги-то брать, Федор Григорьич, вздохнул он, – а тебе заплатить за услугу такую. Да бедность наша! Прости уж…
И чтоб как-то все же совесть свою очистить, дал Федору из запасов своих несколько штук парусины, которая теперь за ненадобностью ему была. «На завесы сгодится, – прикинул Федор. – С худой овцы – хоть шерсти клок».
Сцену над полом приподняли, чтоб смотрельщики шеи не тянули и чертям было сподручнее в преисподнюю проваливаться. А глиняный пол утрамбовали и загладили. Поручил Федор помощникам скамьи для смотрельщиков мастерить, жирники клепать из жести, а сам сценой занялся – решил кое-какие механизмы приспособить: не терпелось ему показать смотрельщикам спектакль.
Легче всего можно было поставить «Кающегося грешника» – и пьеса знакомая, и актеры, которые уже представляли ее, имелись. Только задумал поставить ее Федор по-своему: чтоб глядя на действо, смотрельщики больше не о гневе божьем, а о совести своей помышляли.
Переписали сумароковского «Хорева», и Федор раздал товарищам списки, чтоб изучали трагедию и могли объяснить каждую персону: каковы ее роль и назначение в игре.
Федор ходил к Верещагину, который диктовал ему перевод Франциска Ланга, Федор же старательно записывал. Франциск призывал актера учиться у природы. Только, пояснял он, в природе этой многое еще «грубо и не отделано». Потому «на обязанности искусства и лежит, в видах более верного достижения цели, придать всему блеск и изящество».
Обо всем рассказал в своей книжице автор: о ступнях и ногах, о коленях и бедрах, о коленопреклонении и способе садиться, о руках и локтях и кистях рук, о глазах и голове – обо всех членах, участвующих в игре. Но, видно, понимая, что о его правилах подумать могут, предупредил: «Пусть читатель не думает, что я измышляю каких-то марионеток», и еще раз напомнил: «Из всех правил превыше всего – правила природы, чуждые аффектации и подражания».
Это правило с чистым сердцем и принял Федор, не забывая при этом и об «изяществе».
Грешника в «Покаянии» Федор решил играть сам. Черта «отдал» Яше Шумскому, лучше которого, пожалуй, никто и не смог бы сыграть нечистого. Ну а Ване Дмитревскому на роду было написано представлять Ангела.
Репетировать начали еще в доме Волковых, а когда наконец амбар превратился в театр, перешли в него и уж там настоящими актерами себя почувствовали.
Потолок в амбаре выкрасили лазурью, по которой разрисовали легкие белые облачка. Стены покрыли белилами, и по бокам Федор нарисовал два просторных окна, за которыми зеленели ветви дуба с желудями.
– Чтоб смотрельщики простор чувствовали и дышали вольно, – пояснил Федор.
Жирники вдоль стен и на сцене давали довольно света и того уюта, при котором можно было отрешиться от тех забот и суеты, что остались там, за каменными степами театра, и не мешали постигать суть действа, тайну искусства.
И когда друзья впервые зажгли все светильники и поднялись на сцену, робость их охватила – и это при пустом-то театре! Набрал Федор полную грудь воздуха и вывел длинно:
– А-а-а!..
Замолчал. Прислушался – звук, побившись о стены, медленно растаял.
– Хорошо! – Шумский не удержался и, не соразмерив голос свой, ухнул с сатанинским завыванием: – Духи зла! Ко мне в подмогу!..
Сжал ладонями уши Ваня Дмитревский, взмолился:
– Яков, так ведь ты не только Грешника, а и Ангела в трепет вгонишь!
– В трепет приводить смотрельщиков будем, – Федор прошелся по сцене. – Придется тебе, Яша, утишить несколько свой голос. Не рыком пугать станем – словом. К горлу обыватель наш привычен. Соблазнять будешь лестью и хитростью, а они негромогласны. И не только Грешника соблазнять надобно – самого смотрельщика!
Ангела Федор решил спускать с небес на облаке. Сам же отказался от черных лент с поименованными прегрешениями. Вместо этого решил на белый плащ набросить черную накидку, которую и сбросить по очищении от грехов.
Договорился Федор и с иереем Стефаном, обещал тот дать на богоугодное зрелище своих церковных певчих. Кажется, все было готово, оставалось получить разрешение и пригласить гостей.
Определение Ярославской полицмейстерской канцелярии не заставило себя ждать. Получил Федор казенную бумагу, точно такую же, какую выдавали в ту пору всем охочим комедиантам: «Приказали: к ыгранию камеди допустить, только при том смотреть, чтоб в той камеди богомерских и протчих непристойных игр не было, также шуму и драк не происходило, чего ради команды иметь при дворе, и о том в каждую к афицерам послать приказ».
Сообща решали, кого пригласить на первый спектакль. Полицмейстера Федор пригласил, когда ходил за определением. Написали приглашения ярославскому воеводе Михаилу Андреевичу Бобрищеву-Пушкину с женою, Майковым, ректору Верещагину. Пригласил Федор и работников своих, которые желание иметь будут. Иерей Стефан – глаза и уши митрополита – сам напросился. Канцеляристы своих сослуживцев позвали. Ну а прочие, сколь поместится: первый-то спектакль – бесплатный.
Занавеса в театре не было, Федор не видел в нем необходимости: актеры со сцены уходили за шпалеры. Над потолком тоже висела шпалера. Умные люди придумали эти шпалеры, за них что угодно спрятать можно. Вот и певчих Федор разделил на две стороны: за левую шпалеру дискантов усадил, за правую – басы. А чтоб сразу же взять смотрельщиков за живое, велел он, не торопясь, двигать по небу облака. Затея удалась: у порога уже застывал смотрельщик и не мог понять, что же происходит. А когда, присмотревшись, понимал наконец-то, в чем дело, молча садился на лавку, чувствовал: хоть и пуста была сцена, но действо уже вершилось.
Все места заняли смотрельщики и даже в проходах стоять остались. Для почетных гостей Федор велел поставить перед лавками стулья. И когда уселись все, угомонились, запел ангельский хор. Действие началось.
Не бил хвостом по доскам Яша Шумский, не надрывал уши смотрельщиков диким криком, ластился он к Грешнику и соблазнял его, как если бы какой ярыжка соблазнял своего товарища трезвенника пивом с солеными бобами. И не ломался Грешник – Федор Волков, мучился человеческими страстями. И Ангел вел себя по-ангельски: голоса не повышал, божьими карами не грозил, а мягко уговаривал, словно несмышленое дитя. И приметил Федор в лицах смотрельщиков некую задумчивость.
Вознеслась душа Грешника на небо, а тело его осталось лежать бездыханным в чистом белом плаще. Старался не дышать Федор, чтоб смотрельщиков не смутить, а сердце так и молотилось в груди, рвалось на волю. И когда услышал робкие рукоплескания (не привыкли еще к ним), глубоко вздохнул и стал медленно подниматься.
После спектакля пригласил к себе Федор почетных смотрельщиков на вечерний чай. Никто не отказался, только отец Стефан сослался на службу. А уж очень хотелось Федору узнать, что думает, а стало быть, что и расскажет он владыке о спектакле.
– Знатно скроено, дитя мое, – обласкал Федора взглядом Верещагин. – Словно бы и карой божьей сверх меры не стращал, а душу живу пронял!
– Пронял, Арсений Иванович, истинно до самых костей пронял! – поддержал Иван Степанович Майков. – Вы вот там у себя в семинарии все испугать смотрельщиков норовите. А он уж и так запуган сверх всякой меры. От страха уж и не помнит, что делать ему надлежит. А вот Федор Григорьич с товарищами и напомнил ему: оберни шею-то свою закостеневшую да на себя погляди. И казни себя сперва судом своим. Так ли я говорю, Михаил Андреевич?
Воевода, массивный, глыбистый, хитро улыбнулся.
– Так, Иван Степанович, именно так! Думаю, Федор Григорьевич делом своим большую службу городу сослужит: коли каждый станет судить себя судом своим, мне, воеводе, и власть не нужно будет употреблять. Да и супруге моей будет спокойнее, а то она очень уж жалостливая у меня. Не так ли, голубушка Мария Ефимовна?
– Каждый имеет право на надежду, батюшка Михаил Андреевич, – тихо ответила Мария Ефимовна. – Господь никому в этом не отказывает. Почему же люди должны быть жестоки? Это несправедливо.
– Зла не существует в природе, – поддержал Марию. Ефимовну Верещагин. – Вспомните священное писание: «И увидел бог, все, что он создал, – хорошо». Стало быть, в первооснове своей мир светел, а не темен, осмыслен, а не бессмыслен, хорош, а не плох. Верно, Иван Степанович, человека не пугать надо, а показать его падение, чтоб чрез страдания свои очистился он от греха.
Мария Ефимовна благодарно кивнула Верещагину.
– Я тоже так думаю, Арсений Иванович. Не надо бояться других, надо за себя не бояться. А в этом нам судья – совесть наша. Об этом, так думаю, и напомнил нам Федор Григорьевич. Я не ошибаюсь?
– Ах, Мария Ефимовна, – улыбнулся Федор, – именно об этом я и хотел напомнить людям. И если вы так и поняли, то мне более и желать нечего!
Воевода Бобрищев-Пушкин обвел всех взглядом.
– Кстати, о совести. Вот Федор Григорьевич своим коштом театр строит. Театр для всего города. А что ж сам город?
– А и в самом деле, господа… – Иван Степанович даже встал. – Я так думаю, должны мы по совести бросить клич к помещикам и купечеству. Общее дело и творить всем миром надо. Так ли я говорю?
– Это будет только справедливо, – поддержал молчавший до сих пор Майков-младший.
Ивану Степановичу и поручили, «как Кузьме Минину», пожертвованиями заняться.
– Спасибо за доверие, господа. И вам спасибо, Федор Григорьевич, за отменную усладу. Уже тем хороша она, что мысли пробуждает. И надеемся, порадуете нас в скором времени еще чем. Благодарны будем.
С тем и простились.
Актеры сидели в соседней комнате не дыша и все слышали: не хотел Федор на общую беседу их приглашать, чтоб не смущать отцов города. И теперь, как только захлопнулась дверь за последним гостем, высыпали они в горницу и стояли молча.
– Ну, что ж, товарищи вы мои, – Федор обвел их сияющим взглядом. – Чай, сами все слыхали. А теперь – за «Хорева»!
Митрополит выслушал отца Стефана, и глаза его затянуло пеплом.
– Говоришь, не страхом божьим, а совестью человеческой прельщал христолюбец наш?
– То всем ведомо, ваше преосвященство.
– Всем… А ведом ли ему-то гнев божий?! – На скулах митрополита заиграли серые желваки, но он сдержал себя, сказал спокойно: – Иди с богом, отец Стефан. И прилежно гляди за этим умельцем…
На «Хорева» уже продавали билеты: первые ряды – по гривеннику, задние – по шесть копеек. Большие расходы были и на амбар, и на новый театр, и на костюмы, и на всякую мелочь. Хоть малую толику, да оправдать нужно было. И смотрельщики не ворчали и не скупились, сами считать умели, что сколько стоит. Спасибо еще Верещагину – семинаристов-музыкантов дал, да иерей Стефан снова певчими своими помог. Можно б, конечно, и без всего этого обойтись, но Федор хотел, чтобы каждый спектакль был для смотрельщиков не только школой, пробуждающей добрые чувства, но и праздником.
Все ж после «Покаяния» понял Федор, что без занавеса не обойтись: смотрельщика постоянно удивлять надо! И когда на «Хореве» стали медленно раздвигать занавес, смотрельщики тихо ахнули. Представились им дальние крепостные стены с башнями, над которыми медленно плыли облака. Донесся звук боевой трубы. Дробь барабана то нарастала, то утишалась. А здесь, за прочными крепостными стенами, стояла Оснельда с мамкой своей и не знала, радоваться ей или печалиться.
Шестнадцать лет назад ее отца, властителя этих мест Завлоха, победил князь Кий и стал управлять Киевским государством. Завлох же сбежал, оставив во дворце свою малую дочь Оснельду, где она выросла и полюбила младшего брата Кия – Хорева. И вот теперь Завлох собрал войско, подошел к стенам Киева и стал требовать дочь, угрожая войной.
Кий согласен дать Оснельде свободу. И уже не кровавый бой видится влюбленным, а свадебное пиршество. Кажется, нет перед счастливым Хоревом никаких препятствий на пути к своему счастью.
А Кий препятствовать не будет нам ни в чем,
И брань окончится любовью, не мечом, —
заверяет он Оснельду. Но подлый интриган боярин Сталверх, тайно влюбленный в Оснельду, доносит Кию, будто Хорев намеревается перейти на сторону Завлоха. И подозрительный Кий отказывается вернуть отцу Оснельду. Война неизбежна, и киевское войско должен вести против отца своей возлюбленной Хорев, которого начинает мучить искушение: предаться ль чувству иль исполнить до конца свой долг гражданина. И он решает – долг пред отечеством и государством превыше личных интересов и страстей.
Федор, играя Хорева, не видел лиц смотрельщиков, чувствовал только, будто все в нем напряглось до предела. Тишина стояла такая, что слышно было, как тихо потрескивают жирники.
Волков то взрывался до крика, то переходил на шепот, то укорял, то просил прощенья. Голос его метался среди стен и не находил выхода. Сделав длинную паузу, он обратил свой безумный взор на Кия, и Кия – Ваню Иконникова – страх взял.
А ты, несчастный князь, возьми с собой то тело,
С которым сердце быть мое навек хотело,
И, плачем омочив лишенное души,
Предай его земле, над гробом напиши:
«Девица, коей прах в сем месте почивает,
И в аде со своим Хоревом пребывает,
Которого она любила в жизни сей, —
Хорев, ее лишась, последовал за ней!»
И ударив себя кинжалом, испустил Хорев дух свой…
И не помышляли вовсе ни Федор, ни друзья его, сколь шуму наделают они в Ярославле своим «Хоревом». На другой день только и разговора было по городу, что о невиданном дотоле зрелище. И уж совсем верить не хотели те, которые не были в театре, что плакал Волков-старший над Оснельдою настоящими слезами.
А вечером, вернувшись от соседей, Матрена Яковлевна принесла и другие вести.
– Ой, Федюша, – загоревала она, покачивая головой, – как бы забавы твои до истинных слез тебя не довели… Не вмешиваюсь я в твои дела, однако гляди.
– А что такое, матушка? – удивился Федор. – Кажется, супротив порядку ничего не делаю. Я же людям только добра желаю и добру этому учу.
– Так-то оно так. Да ведь люди-то разные. Иных-то ведь и не втолкуешь, что добро, а что – зло!
Понял Федор, не договаривает что-то матушка, и напрямую об этом спросил.
– Да чего уж тут: Матрена вон Кирпичева снова воду мутит! Жалобу в магистрат на тебя грозится написать.
– Ей-то что еще надо?
– А то, что будто ты рабочих своих в театре играть заставляешь и на новый театр гонишь работать!
– Но ведь нет же этого! Что за чепуха…
Федор прекрасно знал, чем грозит использование рабочих не по назначению: закон карал за это быстро и сурово.
– Чепуха какая-то, – не поверил все же он. Однако, чтобы предупредить угрозу Кирпичевой, в магистрат сходил. Объяснение приняли без сомнений, но Федору дали понять, что заводчик прежде всего должен иметь усердие к произвождению, а не забавами забавляться. На что Федор резонно заметил, что их пять братьев, у коих хватит сил и расторопности и произвождение иметь, и театр содержать, до которого магистрату нет никакого дела, а законами это не запрещено.
Между тем наступала зима, и представлять в амбаре уже было нельзя – он не отапливался. И все же успел Федор до холодов поставить «Гамлета» А. П. Сумарокова. Это был последний спектакль в первом театре Волкова.
Теперь Федор торопился закончить к новому году свой новый театр. Отстроенный по его чертежам и планам, он не выделялся изяществом. Был приземист и широк по фасаду, зато вместителен и удобен для смотрельщиков. За сценой устроил Федор для актеров свободное помещение, где могли бы они переодеваться и гримироваться. Поставил несколько небольших зеркал – специально из Москвы привезли.
И чем ближе к концу стройка подходила, тем больше задумывался Федор: что ж показать землякам своим на открытии? Из того, что уже ставил в амбаре, не хотел. Нужно было что-то праздничное, яркое, с пением, музыкой и танцами. И непременно перед театром – фейерверк! Не такой, конечно, как тогда на коронации, но чтобы чувствовали люди праздник и день этот запомнили.
И вспомнил тогда Федор, что с сумароковскими трагедиями он привез еще какие-то переводные пьесы – с немецкого, французского и итальянского. Просмотрел их Федор в ту пору на ходу – не терпелось русские трагедии смотрельщикам показать. Стал перебирать Федор переводы, и вдруг бросилось в глаза такое знакомое: «Милосердие цезаря Титуса, или Милость и снисходительство», сочинение итальянского поэта Пьетро Метастазио! Та самая опера, только на русском языке, которую он слушал тогда, в Москве, на коронации Елизаветы Петровны. Лучше и быть не могло, чтоб не забывали смотрельщики о добре, милосердии, о суетности мира сего.
Вспомнив, как слушал эту оперу в Москве, Федор будто уже видел свое детище, слышал чудесные мелодии и почувствовал себя счастливейшим из кудесников.
Желтые литые свечи оплыли в массивном бронзовом шандале. В углу спаленки тускло мерцала лампадка, смутно высвечивая тонкие нервные пальцы Спаса нерукотворного. Где-то в невидимом подпечье, разомлев от тепла, лениво, но неумолчно скрипел сверчок.
Сенатский экзекутор Игнатьев, не поворачивая головы, нащупал рукой длинные узкие щипцы для снятия со свечей нагара.
«А оной город обширности немалой, – перечитывал он свой доклад Сенату, – состоят к тому же в том городе и торги имеются весьма немалые и повседневные, причем и народу находится городских и приезжих и уездных многое число; всего по справке с Ярославской провинциальной канцелярии во оном городе одного купечества по нынешней ревизии состоит близ шести тысяч душ».
Начало ему понравилось. Он потянулся, довольный, и осторожно снял со свеч нагар. В палате посветлело.
Игнатьев поднялся из-за стола. Огромная тень его закрыла полстены и сломалась на потолке. Заложив руки за спину, экзекутор размеренно вышагивал из угла в угол. Ни одна половица не скрипнула под его грузным телом. Вытянув вперед темное горбоносое лицо, обрамленное изжелта-седыми космами, сенатский экзекутор вспоминал: не забыто ль что, не обошли ль его где, ревизора по винному откупу, хитроумные купцы да льстивые целовальники, которые, присягая, хоть и крест целовали, да кто ж его из православных и не целовал-то!..
Много прожил Игнатьев и многое повидал на своем веку. Службу свою начал еще при великом государе Петре Алексеевиче. Служил истово и рьяно, видя пользу свою только в служении отечеству. При Петре же Алексеевиче и экзекутора получил – шестой класс по табели о рангах, коллежский советник. И хотя по заслугам его невелика должность, да только со смертью великого государя до бóльших чинов так и не дослужился.
При Елизавете Петровне определен был в Сенат. Одиноко жил на белом свете старый Игнатьев – ни семьи, ни друзей. Один покровитель был у экзекутора, дружбою с которым он исстари дорожил и потому напрасными просьбами и жалобами не тревожил: сиятельный князь Никита Трубецкой. Только когда очень уж больно было ему от тоски и одиночества или сжимали его сердце чувства возвышенные и трепетные, с которыми не мог он совладать в одиночку, только тогда, призвав на помощь все свое мужество, он брал перо и красивым, в завитушках, почерком выводил на гербовой бумаге первую фразу: «Моему всемилостивому государю, генерал-прокурору, его сиятельству князю Никите Юрьевичу Трубецкому!» После чего перо откладывал в сторону и долго ходил взад-вперед, придавая своим неспокойным мыслям строгий и ясный порядок.
Нынче велик был соблазн потревожить его сиятельство, ибо чувствовал экзекутор: то, что он свидетельствовать хочет, будет не только выражением его восторга. Генерал-губернатору следует знать, что за зерно брошено в благодатную ярославскую землю и какие всходы ожидать надлежит. Умен был Игнатьев, и уж что на пользу Отечеству, умел всегда отличить.
Остановился, размышляя, и густые брови его, не тронутые сединой, изогнулись крутыми дугами. «А уважу я князя Никиту Юрьевича славным подарком, коий, я чаю, и не мнился ему. Ан, не ушли в нети дела Петровы, и доколе жив будет хоть один россиянин, доброй памятью отзовется на них его благодарное сердце!»
– Эй, Степан! – крикнул он и стал складывать на столе бумаги.
На лестнице послышались тяжелые шаги, и вошел хозяин Ерофей Данилыч Викулин, владелец полотняной фабрики.
– Извиняйте, Гаврила Романыч, я заместо Степки, – бритое добродушное лицо его расплылось в широкой улыбке. – Степку я за надобностью отослал, а что вашей милости, Гаврила Романыч, угодно, мы и без его управимся. А сейчас пожалуйте за стол. – Он подошел к Игнатьеву, приподнялся на цыпочках и доверительно добавил: – Там, между протчим, дорогой мой Гаврила Романыч, штоф наливочки жена припасла – для гостя!
– Я же не пью, – поморщился Игнатьев.
– Да разве ж ее пьют? – удивился Викулин. – Отведаем! Жена-то на сухих травках да на мороженых ягодках сытила.
– Ну, хорошо, хорошо. Переоденусь только.
– Никак все ж в кеатр собрались? – огорчился Викулин, заметив, что Игнатьев вынул мундир. – Охота ж вам, Гаврила Романыч! Посидели б, потолковали, чем по морозу-то ходить. Про Петербурх бы нам, неразумным, что растолковали…
– Нет уж, уважаемый Ерофей Данилыч, сегодня открытие нового театра. Как же не идти-то? В старом я все трагедии просмотрел. Уж позвольте мне нынче и оперу послушать. И вам бы совет дал заглянуть к Волкову-то. Ведь такого, чтоб на русском языке русские актеры оперу играли, и у нас в столице нет. Мне придется удивлять столичных-то жителей.
Викулин округлил ясные голубые глаза.
– Обидно даже слушать такое, Гаврила Романыч! Хм… Чему ж мне у Волковых учиться? Я хозяин, я фабрику поставил! А Волковы что? Пять братанов с одним наследством справиться не могут. Профукают они наследство-то это, как пить дать профукают! Иль сестра их сводная Матрена отберет. Наше дело сурьезное, и потешки нам ни к чему: делов много. Опять же, какое и уважение к тебе будет, ежели ты, хозяин, на людях навроде скомороха кривляться станешь? Тьфу! – Викулин с досадою махнул рукой и, уходя, еще раз напомнил: – Так мы ждем вас, Гаврила Романыч.