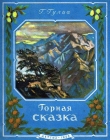Текст книги "Федор Волков"
Автор книги: Константин Евграфов
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 19 (всего у книги 20 страниц)
Пронесли фанерный щит с надписью: «Действие злых сердец», который окружали прыгающие и скачущие музыканты со звериными рылами: свиными, козлиными, верблюжьими, лисьми, бычьими, волчьими… Шествовало Несогласие – забияки, борцы, кулачные бойцы тузили друг друга, боролись, носились промеж себя с цепами, кистенями, дубинами. И визжа и кривляясь, подзадоривали их мечущиеся фурии в отвратительных масках.
И вот уже понесли Невежество – ослиную голову, за которой хор слепцов, положив друг другу на плечи руки, шел гуськом и гнусавил:
То же все в ученой роже,
То же в мудрой коже:
Мы полезнова желаем,
А на пред ученья лаем;
Прочь и аз и буки,
Прочь и все литеры с ряда;
Грамота, науки
Вышли в мир из ада.
Лутше жити без заботы,
Убегать работы;
Лутше есть, и пить, и спати,
Нежели в уме копати.
Крючкотворы пронесли свое черное знамя, на коем белыми буквами было начертано одно слово: «ЗАВТРЕ!» Проковыляла хромая Правда на костылях с переломленными весами; протащили, зацепив крючками, крюкописателей и ябедников; а тут сами крючки приказные ловят сетями людей, и сталкивают их между собой, и идут обобранные с пустыми мешками…
Приплыла к нам на берег собака,
Из заполночнова моря, —
запел хор ко превратному свету. А вот и сам превратный свет: идут, спотыкаясь, задом люди; тащат лакеи огромную открытую карету, в которой сидит лошадь; а вот спеленали древнего морщинистого старика в люльке, и кормит его с ложечки мальчик; а следом старуху несут тоже в люльке, а она смеется беззубым ртом, играет в куклы и сосет рожок; за свиньей, украшенной розами, идет оркестр – дерет горло осел, а ему пиликает на скрипке козел бородатый.
Распустив павлиний хвост, проехала в карете Спесь, окруженная лакеями, пажами, гайдуками; промелькнуло знамя, сшитое из множества игральных карт, – это появилось Мотовство, рядом с которым плетется и Бедность; проходят картежники – бубновые и червонные короли и крали:
Подайте картежникам милостинку;
Черви, бубны, вины, жлуди всех нас разорили,
И лишив нас пропитанья гладом поморили.
Екатерина задумчиво смотрела на бесконечную вереницу пороков, охвативших род человеческий. «За нравы народа мой первый ответ богу, – вспомнила она свои же слова и гордо вскинула голову. – Маскарад сей – прощание с пороками. Отныне они будут вам сниться лишь в дурном сне», – и она приподняла руку, приглашая к молчанию.
Перед окнами появилась серебряная колесница Юпитера в окружении белоснежных пастухов с флейтами и пастушек. За ними следовали отроки с оливковыми ветвями, трубачи и литаврщики, герои на жеребцах, покрытых голубыми бархатными попонами, законодавцы, философы, стихотворцы с лирами, колесница с богиней справедливости Астреей. Звонкие голоса отроков донеслись до слуха императрицы:
Блаженны времена настали,
И Истины лучом Россию облистали.
Подсолнечна внемли!
Астрея на земли…
И, наконец, показалась золоченая с царскими гербами колесница, запряженная шестеркой белых арабских скакунов, везущая великолепную Минерву в красном плаще и золотой короне, овеянной боевыми знаменами. Хор отроков, пастухов, стихотворцев вознес с оркестром ликующую песнь божественной Минерве:
Ликовствуйте днесь,
Ликовствуйте здесь,
Воздух, и земля, и воды:
Веселитеся, народы…
Екатерина встала, и глаза ее наполнились слезами: вот он, долгожданный триумф! Вот она, благодарность народная! Ради этого мига стоило претерпеть и обиды, и унижение, и страх.
Сквозь слезы она заметила на противоположной стороне улицы всадника в овчинном тулупчике нараспашку и сбитой набок шапке. Он размахивал руками и, видно, подпевал хору. Императрица узнала его и благодарно кивнула. Федор, конечно же, этого заметить не мог.
Пять часов без малого продолжалось шествие, растянувшееся по Москве на несколько верст. И весь день носился Федор вдоль него взад и вперед на своем неутомимом жеребце, отдавал команды, приводил колонны в стройность, подбадривал замерзших людей примером своим: снимал шапку с мокрых слипшихся кудрей, распахивал овчинный тулупчик. Ему и в самом деле было жарко.
Пропустив последний хор, вместе с которым воспел славу веку справедливости, Федор посмотрел на балкон дома Бецкого, ничего не приметил в нем, повернул коня и только сейчас почувствовал, как все тело его охватил озноб. Резкий холодный ветерок гнал вдоль улицы с поземкой обрывки цветной бумаги, куски картона, разноцветные тряпки.
Федор нахлобучил шапку на уши, запахнулся плотнее в тулупчик, поднял воротник и тронул коня. Перед глазами мелькали звериные рыла, в ушах стоял шум от барабанов, литавр, разноголосицы.
Как в тумане, доехал до дома, передал жеребца выскочившему на крыльцо солдату. Двери ему распахнул Сумароков.
– Ах, Федор Григорьич, ах, Федор Григорьич! – захлопотал он, помогая Федору раздеться. – А ведь я только вошел. Ну, и спектакль ты устроил, кормилец! Ах, как знатно! – И вдруг увидел, что Федор медленно опускается на колени. – Что это ты, братец?.. Эй, кто там?
Вбежавший солдат помог Александру Петровичу уложить Федора на кровать. И только сейчас Сумароков заметил, что Федор весь горит, лицо его покрылось багровыми пятнами, сухие губы потрескались, глаза лихорадочно блестели. Сумароков послал солдата во дворец за лекарем, а сам стал укутывать Федора в одеяла и тулупы, которые были под рукой. Но Федора так трясло, что Александру Петровичу пришлось сесть рядом на кровать и обхватить его руками.
Привезли лекаря, и тот сразу определил: сильная простуда, горячка. Теперь это было видно и без него.
К вечеру в дом ввалилась вся русская труппа, но Сумароков не допустил даже до комнаты, где лежал Федор, – поворотил назад, чтобы не было больному лишнего беспокойства. Только братья Григорий да Гавриил остались.
– Нечего больного баламутить, – объяснил Сумароков. – Ему покой сейчас нужен. Утро вечера мудренее.
Но утро не принесло утешения. Всю ночь Федор бредил, часто терял сознание. Доложили императрице, и она приказала, не мешкая, отвезти Федора в приготовленные для него больничные кельи Златоустовского монастыря. Прислали крытую карету. Братья укутали Федора в тулуп и отвезли в монастырь.
Очнулся Федор на третьи сутки и не понял, где он. Оглядел низкий сводчатый потолок, увидел в углу красный огонек лампадки, слабо освещавший темный лик иконы, и, услышав чье-то дыхание, скосил глаза. Увидел серое лицо Гришатки с покрасневшими веками. В ушах стоял легкий звон. Федор слабо улыбнулся и попытался пошутить:
– Отпевают, что ли? – И не узнал своего голоса. Григорий широко улыбнулся и облегченно вздохнул.
– Слава тебе, господи. Совсем перепугал. Ты молчи, – и он выскочил из кельи.
Вскоре возвратился вместе с лейб-медикусом. Тот пощупал у Федора лоб, поправил одеяло, осторожно похлопал по плечу.
– Все хорошо, Федор Григорьевич, все хорошо. Самое страшное позади. Организм ваш богатырский все преодолеет. Теперь надо больше есть, восстанавливать свои силы.
Федор попытался пошевелить рукой и, к своему удивлению обнаружил, что это не так просто, – рука была словно не своя.
– Что ж, будем… – договорить у Федора уже не стало сил.
– Вот и прекрасно, – понял его лекарь и позвал Григория с собой.
Федор остался один. Он пытался вспомнить, что же произошло, и не мог. Помнил лишь величественную фигуру Минервы, да звенели в ушах слова хора:
Ликовствуйте днесь,
Ликовствуйте здесь…
Потом – провал! Еще, помнится, ездили они с Антоном Лосенко на Рогожскую к Петру Лукичу и Аннушке, и что поила их там Прасковья-кормилица кислыми штями. Это он хорошо помнил. А потом… Потом все смешалось, поплыло и мягко полетело в далекую темную бесконечность. Федор снова потерял сознание.
Так прошел месяц. Как сквозь сон, помнил Федор, что приходил какой-то старец келейник в черной сутане, поил его насильно каким-то горьким густым отваром, пахнувшим стылой баней. Горечь и сейчас стоит во рту. Запить бы ее.
– Пи-ить… – слабо попросил он, не открывая глаз. И когда к его губам снова поднесли этот противный настой, он сжал зубы и, откуда силы взялись, мотнул головой. Потом открыл глаза и снова увидел перед собой лицо Гришатки.
– Воды… Гриша, – попросил он, чуть не плача.
– Так это и есть вода, Федюшенька, – как маленькому пояснил Григорий.
И Федор увидел, что в бокале была действительно чистая вода, и стал пить жадными глотками, захлебываясь, стараясь быстрее прогнать во рту застоявшуюся горечь. И стало будто бы лучше. Разум стал проясняться. Он напряг память, стараясь вспомнить что-то, и наконец вспомнил.
– Что ж это ты… со вчерашнею сидишь? – спросил он Григория. – Шел бы спать… мне лучше.
Не сказал Григорий, что сидит он уже тут без малого месяц, сжал только зубы, чтобы слезы сдержать от радости, что жив его Федюшка и, бог даст, все обойдется.
– Сколь спать-то можно? – наигранно взбодрился Григорий. – Гаврюшка тут приходил, сидел вместо меня, а я спал.
– Когда ж… приходил-то? – подозрительно спросил Федор.
И Григорий, уловив промашку свою, поторопился успокоить брата:
– Только ушел. Да ты не бери себе в голову. Сам-то спи больше, лекарь велел сил набираться.
И тогда Федор почувствовал вдруг, как сильно проголодался, будто и жевать разучился.
– Поесть бы мне чего… А, Гришатк?..
– Господи! – обрадовался Григорий. – Давно пора!
Он выбежал из кельи и вскоре принес миску ароматного куриного бульона. Федор заглянул в миску и робко спросил:
– А курица где?..
– Так… – Григорий не знал, можно ли сейчас Федюшке курицу-то, а лекаря, как на грех, не было.
– Ты уж давай мне, братка, и курицу.
Ах, как рад был Гришатка! Засуетился, принес и курицу, и хлеба побольше, да и каши, какой ни на есть, Федору вдруг захотелось. Словно заново на свет народился Федор, ел так, что любой крючник мог позавидовать.
Пронеслась злая лихоманка стороной. Однако на волю выходить лекарь запретил строго-настрого. Ну, и бог с ней, с волей, зато разрешил наконец лейб-медикус пускать к нему друзей его. Только теперь и рассказали ему, как славно прошел маскарад; как еще два дня после него ходили по матушке-Москве, веселили народ честной. Довольна осталась государыня. Еще говорили, будто бы было раскидано ее повелением серебра в толпы гуляющих и веселящихся из пяти тысяч бочонков.
Сам сиятельный граф Григорий Григорьевич Орлов приезжал справиться о здоровье от имени императрицы и от своего имени. Вальяжный стал Орлов, будто и родился сиятельным… У больного часы длинны. В эти дни еще крепче сдружился Федор с гравером Евграфом Петровичем Чемесовым и с литераторами Николаем Николаевичем Матонисом и Григорием Васильевичем Козицким, будущим статс-секретарем Екатерины. Они приходили чуть ли не каждый день и по просьбе Федора делили с ним его далеко не монастырскую трапезу: Федор приказал подавать ему от двора обед на пять персон, что и исполнялось неукоснительно.
– А что Рокотов – написал коронационный портрет императрицы? – спросил однажды Федор у своих друзей, вспомнив о встрече в доме Хераскова.
– Написал, – ответил Чемесов и тут же сообразил, о чем хотел спросить Федор Григорьевич. – После вашего маскарада он понял, что лучшего коронационного портрета создать невозможно: в живописном портрете нельзя показать настоящее через прошлое и будущее.
– Тайна искусства велика есть, – уклончиво сказал Федор и улыбнулся. – Изображение превратного мира порою помогает постичь истину.
Доработал наконец Антон Лосенко портрет Федора и, не дожидаясь его выздоровления, принес показать в келью. Засветили множество свечей, и портрет «заиграл» свежестью красок. Долго смотрел Федор на свое изображение и ничего не сказал, только обнял Антона крепко.
– Спасибо тебе… А рад я не столько за портрет, сколько за талант твой. – Федор помолчал и, вздохнув, добавил: – Кто знает, что стало б, ежели б не спал ты с голоса. Может, так и пел бы в хоре, а?
– Как знать, как знать, ежели б не экзекутор Игнатьев, может, так и варил бы ты серу, а?
И друзья рассмеялись.
– Однако портрет очень хорош, – заметил Козицкий, – и я бы не прочь иметь такой.
– Я бы тоже не отказался, – залюбовался портретом Матонис.
– Пока я жив, он вам без надобности, – Федор нежно погладил резную раму, – я вам и на сцене надоем. А вот когда помру…
– Типун тебе на язык! – осерчал Антон.
– Когда помру, – продолжал Федор, – тогда вам Евграф Петрович гравюр наделает. Только ждать вам долго придется.
Увы, ждать пришлось недолго. Через полгода Евграф Петрович выгравирует этот портрет и, памятуя слова Федора Григорьевича, напишет на нем: «Желая сохранить память сего мужа, вырезал я сие лицо, его изображение со вручением оного Николаю Николаевичу Матонису и Григорию Васильевичу Козицкому, по завещанию его самого, любезного моего и их друга».
Эту гравюру Григорий Васильевич Козицкий, став статс-секретарем Екатерины Второй, повесит в своем рабочем кабинете. И всякий раз, когда Екатерина будет входить в него, портрет будет чем-то смущать ее.
– Федя, к тебе мадам, – доложил однажды Григорий и с любопытством посмотрел на брата.
– Приглашай, – спокойно отозвался Федор. В эти дни к нему приходили многие – и актрисы, и просительницы по всякому поводу, и поклонницы его таланта.
Но когда Федор увидел, кто пришел к нему, голова у него закружилась, и, чтобы не упасть, ему пришлось опуститься на стул.
– Аннушка?..
– Не узнали, Федор Григорьевич?
– Боже мой! – Федор с трудом пришел в себя и бросился помогать ей раздеться, усадил на скамью, сел напротив. – Аннушка… Вот ты какая…
– Постарела, Федор Григорьевич?
– Бог с тобой! – Федор даже отшатнулся. – Экая красавица! Дай-ка я посмотрю на тебя. Сколько же лет прошло, а?
– Что это вы захворали-то, Федор Григорьевич? – вместо ответа спросила Аннушка. – Нельзя ж по морозу-то нараспашку скакать. Беречься надо.
– Ты была на маскараде?
– Я на всех ваших спектаклях была, – тихо сказала Аннушка и тихо добавила: – И на всех, почитай, слезы лила…
– Тебе нравится моя игра?
– Не знаю, – вздохнула Аннушка, – я на вас смотрела…
Федор закусил губу, помолчал.
– Дома что? Я ведь по теплу к вам собирался. В бреду даже видение было.
– Что ж дома?.. Батюшка давно уж умер, за ним и Прасковьюшка-кормилица ушла… Учителя ваши тож приказали долго жить…
Каждое слово било Федора по сердцу. Он застонал, и Аннушка опомнилась.
– Что ж это я!.. Больному-то человеку… Давно ж все это было-то!
– А для меня-то внове! – Федор опустился на колени, уткнулся лицом Аннушке в ноги и заплакал.
Аннушка гладила его мягкие каштановые кудри, и по щекам ее текли слезы. Так и молчали они, ни о чем не думая, и обоим было хорошо. Потом Федор успокоился и поднял мокрое лицо к Аннушке.
– У тебя все ли ладно?
– Слава богу – детей ращу… Ты-то все один?
Федор пожал плечами.
– Стало быть, друзей много…
– Нет, сестрица, меньше друзей, меньше потерь… А уж как я рад видеть тебя. Вот выздоровлю и по теплу с приятелем к тебе нагряну. Примешь ли?
– Отчего ж не принять? Ты ж братец мой. Сиротинушка…
– Ах ты, Аннушка моя дорогая! Уж и не поверишь, как я рад тебе, – не скрывал радости своей Федор. – Вот как почки на березках набухнут, так и жди гостей! Надоело мне в келье этой, словно в склепе. Ах, скорей бы почки набухли!
Не успели набухнуть почки на березках. Только прошла у Федора «воспалительная горячка», как обрушилась новая беда: гнойный аппендицит. Это и сломило великого актера.
«На конец, – записал первый биограф Федора Волкова русский просветитель Николай Иванович Новиков, – сделался у него в животе антонов огонь, от чего и скончался 1763 года Апреля 4 дня на 35 году от рождения, к великому и общему всех сожалению».
После смерти Федора на его столе в келье средь бумаг нашли листок, исписанный красивым почерком:
Ты проходишь мимо кельи, дарагая!
Мимо кельи, где бедняк чернец горюет,
Где пострижен добрый молодец на сильно:
Ты скажи мне, красна девица, всю правду,
Или люди-то совсем уже ослепли:
Для чего меня все старцем называют?
Ты сними с меня, драгая, камилавку,
Ты сними с меня, мой свет, и черну рясу,
Положи ко мне на грудь ты белу руку
И послушай, как мое трепещет сердце,
Обливаяся все кровью с тяжких вздохов;
Ты отри с лица румяна горьки слезы;
Разгляди ж теперь ты ясными очами,
Разглядев, скажи, похож ли я на старца?
Как чернец перед тобою я вздыхаю,
Обливаяся весь горькими слезами;
Не грехам моим прощенья умоляю,
Но чтоб ты меня любила, мое сердце!
Иван Афанасьевич Дмитревский, прочитав эту переработку старой песни «Ты проходишь, мой любезный, мимо кельи», вспомнил, как еще в Ярославле пугал ею Яшу Шумского хмельной отец. Видно, больной Федор вспомнил юность свою и решил утешить Якова новой песнью. Дмитревский передал песню Якову. Тот прочитал ее и заплакал над листком: сколь уж времени прошло с той ярославской, блаженной памяти поры, а Федор Григорьевич и этого не забыл…
Попытались найти и похвальную оду Петру Великому, которую писал Федор Григорьевич, да, видно, так и не закончил. Но среди бумаг ее не нашли. Как не нашли и ни одной из пьес, которые сочинял он для сцены и, по скромности своей, мало кому показывал. Сам строгий судья своему труду, может быть, считал он несовершенными, а потому и недостойными строгого внимания. Вспомнили лишь товарищи его, что были средь комедий «Суд Шемякин», «Всяк Еремей про себя разумей», «Увеселение московских жителей о масленице», еще более десяти названий. Судьба ж самих рукописей так и осталась неизвестна…
Скорбели русские актеры, скорбели все, кому дорог был русский театр, рожденный трудами и заботами его Первого актера.
Огорчена была и императрица: она собиралась пышно отпраздновать свое возвращение в Петербург и очень рассчитывала на помощь Волкова. Но, с другой стороны, Волков знал слишком много такого, о чем она хотела бы забыть сама. Так и не решив, огорчаться ей или принять эту весть как перст судьбы, она все ж сделала величественный монарший жест: велела отпустить «к погребению тела дворянина Федора Волкова и на поминовение… 1350 р.» – сумму немалую. Тогда же братья Григорий и Гавриил Волковы внесли в Златоустовский монастырь вклад в сто рублей, о чем и сделана была запись.
Отпевали тут же, в монастырской церкви. В глубоком трауре у гроба стояли самые близкие товарищи Федора, с которыми начинал он свой нелегкий путь через сомнения и препоны, с которыми создавал то, чего нельзя уже было упразднить никакими императорскими указами: Иван Дмитревский, Яков Шумский, Алексей Попов, братья Григорий и Гавриил Волковы. Не отходил от гроба первый русский драматург, чья творческая судьба стала творческой судьбой первого Российского театра – Александр Петрович Сумароков. Осунувшийся, потемневший лицом, он еще не мог понять свершившегося…
Восьмого апреля высшее духовенство, сановные люди и люди всех чинов и званий проводили его до места вечного успокоения в тихом монастырском уголке.
Поминали Федора Волкова в Оперном театре, где сыграл он последний раз Оскольда. Много добрых слов было сказано.
Александр Петрович Сумароков воспоминаниям предаваться не стал, он прочел на смерть Федора Григорьевича Волкова элегию, посвятив ее старому другу и сподвижнику Первого актера Ивану Афанасьевичу Дмитревскому:
Пролей со мной поток, о Мельпомена, слезный:
Восплачь и возрыдай и растрепли власы!
Преставился мой друг; прости, мой друг любезный!
На веки Волкова пресеклися часы!
Мой весь мятется дух, тоска меня терзает,
Пегасов предо мной источник замерзает.
Расинов я теятр явил, о Россы, вам.
Богиня! а тебе поставил пышный храм:
В небытие теперь сей храм перенесется,
И основание его уже трясется.
Се смысла моего и тщания плоды;
Се века целаго прилежность и труды!
Что, Дмитревский, зачнем мы с сей теперь судьбою?
Расстался Волков наш со мною и с тобою,
И с музами на век; возри на гроб его:
Оплачь, оплачь со мной ты друга своего,
Которого как нас потомство не забудет.
Переломи кинжал; Котурна уж не будет:
Простись с отторженным от драмы и от нас:
Простися с Волковым уже в последний раз,
В последнем, как ты с ним игрании прощался,
И молви, как тогда Оскольду извещался,
Пустив днесь горькия струи из смутных глаз:
Коликим горестям подвластны человеки;
Прости, любезный друг, прости, мой друг, на веки. [2]2
Курсив мой. (К. Е.)
[Закрыть]
Скорбели русские актеры…
Русский театр уже прошел к середине XVIII века начальный путь своего развития, когда Федор Волков основал первый русский профессиональный общедоступный постоянно действующий государственный театр. Волков жил и творил в ту пору, когда вынесшая на себе всю тяжесть мрачных времен иноземного гнета, русская национальная культура испытывала необычайно мощный подъем. И тогда со сценических подмостков национального театра раздался страстный голос, протестующий против тирании и деспотизма, призывающий к борьбе с несправедливостью и жестокосердием. Силою своего таланта Волков оживлял тираноборческие фигуры героев трагедий Сумарокова, обнажал перед зрителями их политический смысл и гражданское величие, призывал к подчинению личных интересов законам общества и государства.
Оттачивая и совершенствуя свою игру, как того требовала эстетика классицизма. Волков вместе с тем сумел сохранить на сцене ту естественность в слове и жесте, ту чистоту и непосредственность чувств, которые поражали современников жизненной правдой. И русский театр в дальнейшем опирался на традиции, утвержденные на сцене его Первым актером.
Волков мало прожил, но он успел осуществить мечту своей жизни: высится храм сокровищницы «народного духа» – русского национального театра, и величие его грандиозно и нерушимо, ибо прочно укрепился он на основании, заложенном его великим создателем.