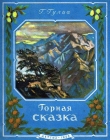Текст книги "Федор Волков"
Автор книги: Константин Евграфов
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 16 (всего у книги 20 страниц)
– Нет, Алеша, о трагедии, – улыбнулся Херасков.
Ржевский вскинул брови, быстрым шагом подошел к окну и постучал согнутым пальцем по стеклу.
– Вот! Там, господа, там сейчас творят трагедию. – Он резко повернулся к Княжнину. – А-а! Не ты ли, Яшенька, упрекал меня в злобствовании, когда слушал мою притчу:
Как истину изгнали
Из града люди вон,
Пороку власть отдали,
Ему восставя трон, —
Насильство и обманы
Власть стали разделять.
Когда сии тираны
Всех начали терзать…
И кто ж теперь прав?
Княжнин спокойно выдержал взгляд Ржевского.
– Угомонись, Алексей, со своими тиранами. А кто ж тогда разогнал презренную Тайную канцелярию? Небось на память помнишь слова императорского указа: «Ненавистное выражение «слово и дело» не долженствует отныне значить ничего…»
– Меня, Яшенька, как и всех православных, с малолетства учили запоминать другие слова: «Не бойся убивающих тело, души не могущих убить, а бойтесь более того, кто может и душу и тело погубить в геенне». А кто же души наши погубил? Кто нашу веру истинную с другими смешал, чтоб и отличия не было? За какую ж мне тогда веру и за какого царя сражаться? Не знаешь? Вот и мы с Гришенькой не знаем. А между тем уже готовимся к походу на Данию, никому не ведомый Шлезвиг воевать станем.
– Вот ты ругаешься, Алеша, – укорил его шутливо Херасков, – а государь тебе Манифест о вольности дворянства дал – езжай в свое поместье, да и живи в полное удовольствие!
– Ну что ты говоришь! Я русский офицер, защитник своего Отечества, а меня заставляют с кистенем на большую дорогу выходить!
Страсти накалялись. Перебирали все указы и манифесты нового императора, которые сыпались, как из рога изобилия; вспоминали все неправды и стеснения, чинимые Петром Федоровичем гвардейцам лично и всему православному роду вообще.
Федор без нужды в разговор не ввязывался, старался больше слушать и понять, чего же хотят все эти такие разные люди, которых связывает не только общее увлечение поэзией, а нечто большее – любовь к Отечеству. И понял пока твердо, чего они не хотят. Этого не хотел и он – жестокости, насилия, несправедливости, всего того, против чего восставал в проповедях-монологах вместе со своими героями, жаждущими справедливости и милосердия. Но не хотеть еще не значит восставать. А ни о каких крайних мерах даже в пылу горячего спора не было обронено ни одного слова. Памятуя о скромности, Федор даже намеком не упомянул Ржевскому об их разговоре. Ждал, не вспомнит ли об этом сейчас сам конногвардеец. Но Ржевский вел себя так, словно разговора этого и вовсе не было.
Впрочем, закончился вечер вполне благопристойно. Ржевский читал свои новые мадригалы, Княжнин – строфы из неоконченной поэмы, Херасков же попросил Федора почитать из его новой трагедии «Пламена».
Расставались все добрыми друзьями. Херасков взял с Федора слово непременно бывать у него, и вместо ответа Федор в знак признательности ласково обнял своего нового товарища.
С этого дня на все время траура Федор стал у гостеприимного Хераскова постоянным гостем. После похорон Михаил Матвеевич возвратился в Москву.
Хоронили Елизавету Петровну через шесть недель после смерти. Петр Федорович чувствовал себя полновластным хозяином империи. И первое, что он поспешил сделать, это заключить с Пруссией мир.
Фридрих II, разгромленный и униженный, отсиживался с жалкими остатками своей армии в Бреслау, боясь показаться на глаза собственным солдатам и своему народу, и ни на что уже не рассчитывал. Даже союзница Англия отвернулась от него. В этот момент к нему и прискакал адъютант Петра III генерал Гудович с письмом, в котором новый русский царь изъявлял врагу России самые добрые чувства и пожелания мира. Так Фридрих был спасен от полного разгрома и в благодарность за эту милость наградил русского царя прусским орденом.
По договору с Фридрихом Пруссии возвращались все завоеванные Россией земли, а шестнадцатитысячная русская армия, готовая к новым победам, соединялась с охвостьем прусской для нанесения удара по вчерашней союзнице России Австрии.
Это уже была пощечина всем русским людям и в первую очередь – армии, полившей своей кровью прусские поля. Вознамерившись отвоевать у крошечной Дании совершенно неведомый и ненужный России Шлезвиг, Петр стал готовиться к походу, назначив главнокомандующим русской армии своего дядю Георга-Лудвига Голштинского. Ради этого похода он отложил даже собственную коронацию, вознамерившись принять корону в роли гениального полководца-победителя. Но это уже была далеко не та игра с крахмальными солдатиками, в которую он часто любил играть в своих апартаментах.
Согнав в Петербург пятнадцать тысяч войска, переодетого в кургузую прусскую форму, Петр стал денно и нощно обучать солдат, офицеров и генералов прусской экзерциции. Даже традиционные русские наказания за провинность кнутами, батогами и кошками были заменены на прусские: теперь били палками и фухтелем – саблей плашмя.
Возомнив себя великим полководцем, достойным учеником Фридриха II, и прозорливым государственным деятелем, он видел свое назначение в том, чтобы повелевать. Он искренне был убежден, что подданные существуют для того, чтобы исполнять его малейшие желания. И сам того не замечал, или не хотел замечать, что становится послушным орудием хитрого и коварного Фридриха, который начал строить русскую политику через своего посланника Гольца.
Если сам Петр Федорович просто не обращал внимания на жену, то Гольц помнил о ее словах, в которых она якобы выразила желание «быть не супругой императора, а его матерью». И не преминул Петру Федоровичу об этом напомнить. И первейшим желанием императора становится: «Раздавить змею!»
Воспитатель наследника Павла осторожный дипломат граф Никита Панин строил перед Екатериной прожекты, в коих ей отводилось место регентши при малолетнем сыне-императоре, и при том регентстве был бы совет государственных мужей по европейскому образцу: граф слишком хорошо помнил регентство Анны Леопольдовны. Выслушивая такие прожекты, Екатерина только грустно улыбалась и загадочно молчала: она не хотела быть ни матерью императора, ни его женой. Она сама хотела быть императрицей. А этого-то Фридрих и боялся пуще всего. Но что мог сделать посланник Гольц с неуправляемым и взбалмошным Петром!
Ранней весной двор переселился в почти достроенный Растрелли Зимний дворец. Распределяя его комнаты, Петр отвел Екатерине Алексеевне самую дальнюю часть дворца. Ее же это как раз вполне устраивало: там ей было удобно встречаться с верными друзьями, а кроме того, ей предстояло родить.
Здесь же, в парадной зале Зимнего дворца, состоялся по случаю подписания и ратификации договора о мире с Пруссией торжественный обед, на котором присутствовало четыреста знатных гостей – высшие сановники империи и иностранные дипломаты. Это было в воскресенье 9 июня. Вот тогда-то и прозвучало, словно пощечина, громогласное «дура!» Петра III в адрес Екатерины, отказавшейся причислить к императорской фамилии голштинских дядьев супруга. С этого момента Екатерина перестала существовать для Петра.
Итак, к походу на Данию все было готово. На пути следования армии подготовлены склады с продовольствием и фуражом, расставлены пикеты, создан совет по управлению государством в отсутствие императора, куда вошел и гетман Кирилла Разумовский. И чтобы набраться сил перед походом после многодневных бесшабашных кутежей, Петр отправляется с двором в свой любимый Ораниенбаум. Екатерина с сыном, великим князем Павлом, остается в Петербурге, в Летнем дворце: Петр продемонстрировал перед всеми полное пренебрежение к жене и сыну. Однако за императрицей был установлен строжайший надзор. Екатерина замкнулась и никого не принимала. Все ее общество состояло из воспитателя наследника Никиты Ивановича Панина, его племянницы Екатерины Дашковой да президента Академии и гетмана Малороссии Кириллы Григорьевича Разумовского, который изредка навещал покинутую императрицу.
И почти каждый день Летний дворец посещал Федор Григорьевич Волков. Он приносил Екатерине новые переводные пьесы, читал ей роли. Они подолгу могли рассуждать о сценическом искусстве, о будущем репертуаре театра, о декорациях, костюмах, даже о гриме. О чем только они не говорили! Петру докладывали об этом, и это его успокаивало.
– Пусть лучше занимается этим дамским занятием, чем сует свой нос в мужские дела, – утешался он, полагая, что поставил наконец-то вздорную «мадам» на свое место. – Она такая же комедиантка, как и этот Волков. Пусть утешается призрачным миром искусства.
А между тем Федор Григорьевич докладывал императрице, что преданные ей сорок гвардейских офицеров и десять тысяч гвардейских штыков готовы, стараниями Орловых и Пассека, к подвигу во имя спасения Отечества. И что две тысячи голштинцев не представляют никакой угрозы.
Екатерина колебалась.
– Следует заручиться поддержкой Панина и командира Измайловского полка Кириллы Разумовского…
– Измайловцы уже с вами, ваше величество.
– Кирилла Разумовский – это не только измайловцы, – размышляла вслух Екатерина, – это вся гвардия… Он – любимец гвардии.
– Ваше величество, десять тысяч штыков – это вся гвардия! Так чего же ждать? Пока император уведет гвардейские полки в Данию?
– Если император пойдет на это, то лишь ускорит свой конец.
– Зачем же ожидать бунт, если можно обойтись без крови?
– Ради бога, никакой крови!
Заговорщики не понимали, чего она ждет. Екатерина понимала: она ждала, когда за нее будут действовать другие, на свой страх и риск. Меньше всего она хотела возглавлять заговор: пусть этим занимаются ее друзья, она уступит лишь воле народа.
Осторожный Никита Панин, настаивавший на избрании императором Павла, кажется, начал сдавать свои позиции. Гетман Кирилла Разумовский сумел убедить его, что гвардия стоит за Екатерину, а с гвардией, как известно, шутки плохи. И следует вначале убить медведя, а потом уж делить его шкуру. Панин согласился с этим, не видя других возможностей избавиться от ненавистного ему Петра. Об этом разговоре императрице поведал сам гетман. И Екатерина просила Федора Григорьевича передать это Орловым и Пассеку. Здесь откровенность была полная – слишком многое ставилось на карту, чтобы утаивать даже малейшие сомнения в чем-то или упускать из виду мельчайшие детали заговора.
– Еще передайте нашим друзьям, Федор Григорьевич. – Екатерина подумала, перелистывая рукопись какой-то пьесы. – В понедельник, семнадцатого, я выезжаю по требованию императора в Петергоф. Остановлюсь не во дворце, в Моиплезире. Это самый отдаленный от дворца павильон. Великий князь с Никитой Ивановичем остаются здесь. Кажется, всё… Да, как ваш брат Григорий – надежен?
– Можно доверять, как и мне, ваше величество.
– Это хорошо, он может отвлечь от нас лишние глаза и уши. Да хранит вас бог!
План был прост. Перед походом гетман Кирилла Разумовский вызовет императора под благовидным предлогом в Петербург. Вот здесь-то Григорий Орлов со своими гвардейцами и сыграет первый и последний акт спектакля.
Но вызывать императора в Петербург не пришлось. Все ускорил случай.
Утром 27 июня император получил из столицы донесение, в котором говорилось о злоумышленных слухах в армии и гвардии: о свержении его, законного императора, и о возведении на престол Екатерины. Был арестован Пассек. Об этом сразу же донесли Григорию Орлову. За что был арестован Пассек, никто не знал. Заговорщики всполошились. Дали знать гетману. Кирилла Разумовский понял – медлить нельзя. А к вечеру из Петергофа прискакал Федор Волков.
– Императрица полагается на волю божью и на вас, ваше сиятельство, – доложил он гетману.
– То дюже гарно. – Гетман велел призвать до очей своих Григория Теплова и адъюнкта академии Тауберта, начальствующего над типографией.
Образованнейший человек своего времени, лично преданный братьям Разумовским, асессор канцелярии академии Григорий Николаевич Теплов не замедлил явиться, и гетман усадил его с Федором Волковым в своем кабинете за сочинение манифеста. Две светлых головы, пользуясь огромной библиотекой графа, рьяно взялись за составление г важного государственного документа.
Манифест был готов, и прибывшему Тауберту было приказано срочно отпечатать его в академической типографии.
События развивались молниеносно. В пять утра в петергофском Монплезире появился Алексей Орлов.
– Ваше величество! Все готово – пора.
Екатерину посадили в карету, и кони понесли. Неподалеку от столицы их встретили Григорий Орлов и Федор Барятинский. Екатерину пересадили в коляску, запряженную свежими лошадьми, и помчали дальше.
В Измайловском полку их уже ждали. Григорий Орлов выскочил на ходу из коляски и побежал навстречу солдатам.
– Измайловцы! – заорал он во всю силу своих легких. – Государыне самодержице нашей Екатерине Алексеевне – ура!
Ударили барабаны, грянуло разноголосое «ура!». Орлов помог Екатерине сойти с коляски, и перед нею сразу же опустился на колени и поцеловал руку Кирилл Разумовский. За ним – братья Рославлевы, Ласунский… Заслышав шум, стали подходить семеновцы, преображенцы.
Откуда-то принесли походный полковой алтарь, поставили на возвышение и подвели к нему растерянную и бледную в сером рассвете Екатерину.
– Манифест! Где манифест? – Кирилл Разумовский посмотрел на Федора Волкова, на Григория Теплова и сразу же вспомнил: единственный экземпляр остался в типографии у Тауберта!
– Ваше сиятельство, бумагу… Дайте мне лист бумаги!
Теплов сразу все понял и протянул Федору какую-то рукопись. Федор неторопливо расправил помятые страницы, встал рядом с Екатериной и поднял руку. Шум начал стихать.
– Слушайте манифест! – Голос его, чистый и красивый, разнесся над головами, и стало так тихо, что Федор позволил себе маленькую театральную паузу. «Опять монолог!» – пронеслось в мозгу. Он оглядел толпу и, глядя мимо чужих строк рукописи, провозгласил торжественно: – «Божией милостью мы, Екатерина Вторая, императрица и самодержица всероссийская и прочая, и прочая…»
Голос Федора, а еще более красивые слова и витиеватые обороты зачаровали слушателей:
– «Всем прямым сынам Отечества Российского явно оказалось, какая опасность всему Российскому государству началась самым делом. А имянно, закон наш православной греческой перво всего возчувствовал свое потрясение и истребление своих преданий церковных, так что церковь наша греческая крайне подвержена оставалась последней своей опасности переменою древняго в России православия и принятием иноверного закона. Второе, слава российская, возведенная на высокую степень своим победоносным оружием, чрез многое свое кровопролитие заключением нового мира с самым ея злодеем отдана уже действительно в совершенное порабощение; а между тем внутренние порядки, составляющие целость всего нашего Отечества, совсем испровержены. Того ради убеждены будучи всех наших верноподданных таковою опасностью, принуждены были, приняв Бога и его правосудие себе в помощь, а особливо видев к тому желание всех наших верноподданных ясное и нелицемерное, вступили на престол наш всероссийской самодержавной, в чем и все наши верноподданные присягу нам торжественную учининили. Екатерина».
Раздалось громовое «ура!», полетели вверх треуголки, шапки, картузы. Полки начали присягать. Граф Кирилла Разумовский проводил Екатерину к своей карете с золотыми гербами, запряженной шестеркой цугом. В окружении конных гвардейцев, сопровождаемая полками и обывателями, карета медленно двинулась к Зимнему Дворцу.
Благополучно завершив первый акт спектакля, его участники стали переодеваться ко второму – финальному: захватив трон, нужно было удержать его, освободить от соперника. Каптенармусы подкатили к Зимнему несколько фур с петровской формой, и гвардейцы начали сбрасывать с себя ненавистные прусские мундиры, облачаясь в привычную им форму. А к вечеру переоделась в лейб-гвардейский преображенский мундир капитана Талызина и сама новоявленная императрица. С перекинутой через плечо Андреевской лентой, с распущенными по плечам волосами и с обнаженной шпагой в руке, она проехала верхом на гнедом жеребце перед восторженно ревущими полками и осталась довольна собой.
В светлую белую ночь были посланы на Петергоф, куда должен был прибыть на празднование своего тезоименитства Петр Федорович, гусары и казаки под командованием Алексея Орлова. За ними пошла артиллерия с полевыми частями. Наконец в поход на обреченного императора, которого окружало несколько сот голштинцев, выступила вся двенадцатитысячная армия гвардейских и линейных полков.
Глава пятая
ТОРЖЕСТВУЮЩАЯ МИНЕРВА
Кому мы всем этим обязаны? Кто, где, когда впервые привил к нашей жизни новое искусство? Он, незабвенный наш Федор Григорьевич Волков…
М. С. Щепкин. 1850 г.
Петра Федоровича принудили подписать отречение. А еще через несколько дней появился новый манифест:
«В седьмой день после принятия Нашего престола Всероссийского, получили Мы известие, что бывший император Петр Третий, обыкновенным и прежде часто случавшимся ему припадком геморроидическим, впал в прежестокую колику. Чего ради не презирая долгу Нашего христианского и заповеди святой, которою Мы одолжены и к соблюдению жизни ближняго своего, тотчас повелели отправить к нему все, что потребно было к предусмотрению средств, из того приключения опасных в здравии его, и скорому вспоможению врачеванием. Но к крайнему Нашему прискорбию и смущению сердца, вчерашнего вечера получили Мы другое, что он волею Всевышнего скончался…»
Что же «другое» получила императрица «вчерашнего вечера»? Это «другое» долго хранилось в ее кабинетной шкатулке и представляло собой мятый, в пятнах, листок бумаги, на котором пьяным Алексеем Орловым было выведено: «Матушка милосердная государыня. Как мне изъяснить, описать, что случилось, не поверишь верному своему рабу; но, как перед богом, скажу истину… Матушка – его нет на свете… Но никто сего не думал, и как нам задумать поднять руки на государя… Он заспорил за столом с князем Федоровым; не успели мы разнять, а его уже и не стало. Сами не помним, что делали; но все до единого виноваты, достойны казни. Помилуй меня хоть для брата…»
«Князь Федоров» – это Федор Барятинский. Кто заспорил и кто кого разнимал, не столь уж и важно, главное – «его уже и не стало».
Не успев снять траур по императрице Елизавете Петровне, Екатерина Алексеевна вновь предалась горю – теперь уже по мужу. Она проливала слезы, искала у всех утешения, просила поддержки в трудные для Отечества дни, казалась сломленной под свалившимся на нее тяжелым бременем невзгод. Наблюдавший за ней в эти дни французский посол Бретейль с содроганием скажет: «Эта комедия внушает мне такой же страх, как и факт, вызвавший ее». Не случайно Иван Иванович Шувалов, успевший хорошо узнать Екатерину, постарается не искушать судьбу. В день переворота Екатерина заметила его, когда он среди первых явился присягать ей, и выразила по этому поводу громкое одобрение:
– Иван Иванович! Как я рада, что вы с нами!
Но Екатерина Алексеевна преждевременно выразила свою радость: Иван Иванович оказался осторожнее. Незаметно он отдалился от двора, а вскоре «отъехал на некоторое время в чужие края», где и обретался четырнадцать лет, не показываясь в России – мало ли что!..
Во всяком случае, князь Федор Барятинский получит через два месяца за свою «своевременную» ссору с императором двадцать четыре тысячи рублей, не останутся внакладе и остальные «спорщики»: за место на троне следует щедро платить. Вместе с престолом Екатерина заодно прихватила и родословную покойного мужа: теперь она стала величать себя внучкой великого Петра и племянницей Елизаветы Петровны.
Однако, став самодержицей, Екатерина недолго предавалась тоске по убиенному мужу, ее ждали государственные дела, множество государственных дел, заждавшихся ее, и только ее, решения. И чтобы вершить этими делами, она установила для себя раз и навсегда заведенный распорядок, который старалась никогда не нарушать.
Она вставала в шесть утра, зажигала свечи и разводила камин приготовленными для нее выструганными чурочками. После этого переходила в уборную, где камчадалка Алексеева подавала ей теплую воду для полоскания горла и кусок льда для обтирания лица. Знаменитый кофе с густыми сливками и гренками ей приносили уже в кабинет. Кофе был знаменит тем, что его варили из одного фунта на пять чашек. После императрицы, долив воды в остаток, этот кофе пили камер-лакеи, а за ними переваривали еще и истопники.
Взбодрив себя, Екатерина ставила на рабочий стол рядом с деловыми бумагами табакерку с изображением Петра Великого. И когда после девяти к ней приходил с докладом обер-полицмейстер, она, выслушав, каковы в столице цены на припасы и что о ней говорят в народе, обращала задумчивый взгляд на изображение «своего» деда и вздыхала:
– Я мысленно спрашиваю, что бы он запретил или что бы он стал делать на моем месте?
Дед молчал, и приходилось все решать самой.
В первые же дни после восшествия на престол императрице поступили сотни и сотни писем от крестьян с жалобами на жестокость помещиков, с просьбами не оставить их, сирот, своим высочайшим покровительством. Крестьяне верили в «матушку-заступницу», спасшую Российское государство от «явной опасности». Екатерина решила задачу с жалобами крестьян поистине с царской мудростью.
12 июля, через две недели после восшествия на престол, ею был подписан указ, запрещающий крестьянам, под страхом наказания, подавать императрице жалобы на помещиков. Так, одним росчерком пера она отдала назойливых крестьян в полную власть помещиков, в которых видела свою единственную опору и в настоящем, и в обозримом будущем.
Дел было много, но она никогда не забывала тех, кто побудил ее «к скорейшему принятию престола российского и к спасению таким образом нашего Отечества от угрожавших ему бедствий».
Когда Федор Волков явился к императрице на прием, он был принят незамедлительно.
– Я всегда рада моим друзьям, – сказала императрица, – и приказала впускать вас без доклада в любое время.
– Благодарю вас, ваше величество, – поклонился Федор. – Я не стану понапрасну досаждать вам и отнимать у вас драгоценные часы.
С тех пор как Федор проводил Екатерину Алексеевну в Преображенском мундире в поход на Петергоф, он не встречался с ней. И теперь, вглядываясь в ее лицо с тяжелым подбородком и надменно сжатыми тонкими губами, он узнавал и не узнавал Екатерину. В этой полнеющей женщине появилось нечто такое, что приходит, видимо, вместе с вкушением всей самодержавной власти. Она по-прежнему пыталась быть искренной и могла еще вызвать на искренность, но появившаяся в осанке величественность, отбор в разговоре каждого своего слова, готового лечь на скрижали истории, неуловимое чувство превосходства – все это уже делало ее недосягаемой. Перед Федором стояла императрица.
– Это хорошо, что вы пришли, – Екатерина жестом пригласила Федора сесть. – Я хотела посылать за вами. Но сначала – о ваших делах. Что вас привело ко мне?
– Самая малость, ваше величество, – судьба Российского театра.
Екатерина улыбнулась.
– Я всегда ценила в вас, Федор Григорьевич, прекрасную черту, которую, увы, многие наши подданные растеряли: постоянство – ту же верность. И я об этом всегда помню. – Она устремила немигающий взор куда-то поверх головы Федора и медленно произнесла фразу, ставшую потом знаменитой: – Театр – школа народная, она должна быть непременно под моим надзором, я старший учитель в этой школе, и за нравы народа мой первый ответ богу!
Наступило молчание. Видимо, Екатерина переживала значение этой исторической фразы. Наконец, решив, что здесь ничего не убавить, не прибавить, она позволила себе улыбнуться.
– Что касается выступлений, я укажу графу Сиверсу Карлу Ефимовичу отвести для спектаклей Российского театра среду каждой недели. Мой русский… – Она сделала небольшую паузу и повторила: – Мой русский театр ни в чем не будет испытывать нужды.
– Благодарю вас, ваше величество. Не будет испытывать нужды русский театр, не буду испытывать нужды и я. И, стало быть, не стану более досаждать вам.
– А теперь у меня к вам просьба. – Екатерина прошлась по кабинету. – Через месяц вы отправитесь с русской труппой в Москву на коронационные торжества. Прошу к нашему приезду подготовить театр и спектакли, которые вы сочтете нужными и достойными. Думаю, вы не заставите нас скучать в Москве.
Коронация! Стало быть, Екатерина, не в пример своему покойному супругу, не стала медлить с миропомазанием. Петр Федорович не сумел придать коронации того значения, которое она имела на Руси, и в немалой мере поплатился за легкомыслие.
– Но не это главное. – Императрица задумалась. – Что вы скажете, Федор Григорьевич, о маскараде? По образцу маскарадов деда моего Петра Великого.
Федор в первое мгновение не мог даже охватить мысленным взором то, что задумала императрица. Яркие картины шумных народных гуляний и празднеств, запомнившиеся с детства, померкли, когда он вспомнил то, что слышал о грандиозных маскарадах и карнавалах Петра. О таком спектакле он мог только мечтать. Федор поднялся.
– Ваше величество! Я понял вашу мысль и обещаю вам незабываемое зрелище!
– Я была уверена, что вы поймете меня, – императрица кивком головы поблагодарила Федора. – При устроении же маскарада помните лишь об одном: за нравы народа мой первый ответ богу…
– Ваше величество, маскарад следовало бы провести в дни масленичных гуляний, сблизить его с народными празднествами.
Императрица оценила мысль Федора и спросила только:
– Но достанет ли вам времени для устроения маскарада?
– Вполне, ваше величество. Прикажите только ни в чем не чинить мне препятствий.
– Вы ни в чем не будете нуждаться, Федор Григорьевич.
– Благодарю, ваше величество. Позвольте еще просить вас… – Федор замялся.
– О чем же?
– Следовало бы пригласить к этому господина Сумарокова, ваше величество. Для маскарада нужны будут стихи.
Екатерина поморщилась – у нее на столе лежало «Слово», написанное Сумароковым на восшествие ее на престол, в котором этот неисправимый цареучитель наставлял теперь уж ее, Екатерину, как государством править. Но она была так озабочена будущим маскарадом, что упоминание имени неугомонного поэта не могло испортить ее настроения.
– Ах, Федор Григорьевич, делайте что хотите! – Возбужденная Екатерина прошлась по кабинету, остановилась против Федора. – И еще – последнее, из коего вы увидите, что я умею быть благодарной… Что вы скажете, дорогой Федор Григорьевич, если я предложу вам быть моим кабинет-министром и возложу на вас орден святого Андрея Первозванного?
Федор побледнел. Он даже забыл поблагодарить императрицу за такую высокую честь. Пауза затягивалась. Наконец Федор выдавил из себя:
– Ваше величество, вы хотите отлучить меня от театра?..
Екатерина насупила брови.
– А вы хотите оставить меня, императрицу, вашей должницей?
– Помилуйте, ваше величество! Вы столько сделали для русского театра, а стало быть, и для меня, что мне остается только вечно за вас бога молить! Что ж мне еще-то нужно?
Императрица молчала. Она, как никогда, нуждалась сейчас в верных и нелицеприятных людях, которых в ее новом окружении, увы, было очень и очень мало. Волков был одним из тех, кому она могла полностью довериться. С Орловыми она была связана кровью. Еще были прапорщики, поручики, ротмистры… Кто может поручиться, что при случае они не затеют ссору с ней так, как затеяли с Петром Федоровичем? Жаль, очень жаль. Но она слишком хорошо знала Федора Григорьевича, поэтому отказ его не задел ее самолюбия, а лишь напомнил ей о ее одиночестве.
– Благодарю за искренность, Федор Григорьевич. Бог с вами. Вы, как всегда, не изменяете себе. А я утешусь тем, что буду чувствовать вашу поддержку.
Федор поклонился.
В тот же день императрица повелела нанять для Волкова дом, снабдить его бельем и платьем; кушанья, вина «и все протчие к тому принадлежности» отпускать со двора, когда и сколько прикажет; экипаж подавать, какой ему угодно будет, деньги на собственные нужды выдавать беспрепятственно.
Это освобождало Федора от всего того, что мешало ему заниматься любимым театром. От этого он уже отказаться не мог, даже если б и захотел. Всему есть мера, и он об этом всегда помнил.
Федор вновь и вновь перечитывал запись указа, полученную им из Придворной конторы:
«Е. и. в. изволила указать именным своего и. в. указом придворного российского театра комедиантам к представлению на придворном театре в Москве во время высочайшего присутствия е. и. в. изготовить лучшие комеди и тражеди и ко оным принадлежащие речи твердить заблаговременно, ибо оные комедианты для того взяты быть имеют в Москву и о том соизволила указать российского театра первому актеру Федору Волкову объявить, чтоб он в том приложил свое старание… а не потребно ль будет для тех новых пиес к наличному при театре платью вновь сделать какое платье и что на то чего принадлежит, о том в придворную контору велеть со обстоятельством отрепортовать. Июля 10 дня 1762 года.
Граф К. Сиверс».
Строгие строки записи указа не волновали Федора, он уже знал, что будет готовить и с чем поедет в Москву. Его возбуждали непривычные доселе слова, подписанные «клопом Сиверсом»: «а не потребно ль будет…» Ах, господин Сумароков! Думал ли ты когда, что лютый враг твой, сам Сиверс, предложит Российскому театру свои услуги и, поясно поклонившись, спросит с превеликим участием: «А не угодно ль вам сделать какое платье?» Да-а, поклонилась бы эта пиявица, кабы не матушка-государыня…
В последнее время, размышляя о тех крутых переменах, которые произошли не без его участия, он невольно обращался мыслью к несчастной судьбе покойного императора. Глухим слухам о его насильственной смерти, которые поползли по Петербургу, он отказывался верить как чудовищным и нелепым. Человек, готовый держать первый ответ перед богом за нравы народа, не может быть безнравственным. Но, вспоминая Петра Федоровича, которого часто видел в последнее время, и обстоятельства, сложившиеся после переворота, он не мог не поддаться сомнениям. И, как мог, глушил в себе эти сомнения. Он всегда верил в высокую справедливость и в то, что под покровительством просвещенной государыни она восторжествует. Он был убежден, что встретил человека, который смог проникнуть в душу его. И этим человеком была Екатерина! Ведь и его первый ответ – за нравы народа! А вразумил ли он сограждан своих, чтоб обратили они взор на себя, как мечтал когда-то еще в Ярославле? Внушил ли им мысль о братской любви и человеческой добродетели?
«Театр – школа народная» – как верно сказано! И первый урок в этой школе он должен преподать в Москве!