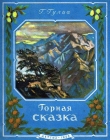Текст книги "Федор Волков"
Автор книги: Константин Евграфов
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 15 (всего у книги 20 страниц)
Мучительница ты, Европа, всей природы,
Бесчеловечные в тебе живут народы.
Все главные роли в драме играли ярославцы: Европейца – Алексей Попов, Азиатца – Иван Дмитревский, Африканца – Григорий Волков, Американца – Федор Волков.
Ровесник Федора Григорьевича капельмейстер придворной оперы Герман Раупах написал музыку, искусный театральный декоратор Перезинотти создал декорации.
Репетиции шли каждую свободную минуту сразу на трех сценах – танцоры, певчие и драматические актеры занимались поначалу отдельно.
1 августа 1759 года в четырех верстах от Франкфурта при Кунерсдорфе русская армия под командованием графа Петра Семеновича Салтыкова, сменившего Фермора, дала войскам Фридриха бой. Это было самое крупное сражение за всю Семилетнюю войну. Оно началось в полдень и завершилось чуть ли не в полночь полным разгромом прусской армии. Самому королю лишь ценой жизней своих телохранителей гусаров удалось спастись бегством. В этом сражении отличился со своими чудо-богатырями молодой подполковник Александр Васильевич Суворов.
Весть о победе была встречена в Петербурге громом пушек, звоном колоколов и треском фейерверков. Тысячные толпы горожан заполнили улицы и площади северной столицы, уповая на щедрое царское угощение. И вот на площадях забили фонтаны красного и белого вина. Началось, гулянье.
Репетиции на время торжеств отменили. А когда стали готовить афиши «Прибежища добродетели», впервые на русском театре появились фамилии Аграфены Дмитревской и Марьи Волковой – жен Ивана Афанасьевича и Григория Григорьевича.
Федор Григорьевич ни с кем фамилией своей будто и не собирался делиться.
– Что же ты, братка, конфузишь-то меня? – спросил как-то Григорий.
– А что? – не понял Федор.
– А то! Уж я, последыш несчастный, женился, а старшой все еще в бобылях ходит.
– Есть, Гришатка, такая русская пословица: холостой лег – свернулся, встал – встряхнулся, – улыбнулся Федор. – И будет об этом. Ишь моду взяли – старших осуждать…
– И то, братка, – согласился Григорий, – яйца курицу не учат.
Тем и утешил свое любопытство Гришатка.
Открытие нового театрального сезона балетом «Прибежище добродетели» прошло великолепно. И лишь дали занавес, Сумароков схватил Федора за руку и, пробиваясь сквозь толпу актеров, потащил в гримерную. Здесь он достал из кармана своего потертого зеленого камзола стопу исписанных листков и ударил ею по туалетному столику – только пудра поднялась легким облачком.
– Вот! – сказал он торжественно и скрестил на груди руки.
– Что это? Неуж новая трагедия? – Федор взял листки.
– Читай, – Сумароков ткнул пальцем в рукопись. Федор придвинул ближе свечу, прочел вслух:
– «Пролог «Новые лавры». Сочинение А. П. Сумарокова». – Он быстро пробежал глазами текст. – Это что же, на победу при Кунерсдорфе? Когда же успели-то?..
– Для тебя писал, Федор Григорьич, только для тебя! Другому не сыграть, помяни мое слово! Даже Дмитревскому. Да ты только погляди, как написано-то: никакого александрийского ямба – только разностопный ритм, рваный, как шрапнель! Чтоб читать его, ты нужен, Федор Григорьич, без твоего умения и бешенства никак не обойтись!
– Бешенство-то к чему ж? – нахмурился Федор.
– Так ведь битва великая! Греми, рази!.. Вот, послушай:
Собрать и удержать их вождь полки старался…
Это Фридрих длинноносый, – пояснил он и продолжал:
Но в сей он суетно надежде простирался:
Бегут
И жизнь одну брегут,
Едва наделся, что россов удалятся.
Знамена их валятся
И победителям в удел
Ко украшению их дел
Знамена в руки предаются.
Огромны пушки остаются,
И брани следует конец.
Россия, приими лавровый ты венец!
– Каково?
Федор еще раз просмотрел листки.
– Это что ж, я весьспектакль играть буду? Это же почти один монолог.
– Что ж из того, что монолог? Гильфердинг балет сочинит, Раупах хоры поставит. Тебе ж роль бога войны Марса надлежит только читать!
– Вот я про то и говорю, – улыбнулся Федор. – Только со спектаклем-то поторопиться надо: не ровен час, Фридрих опомнится, да и сорвет затею нашу.
– Тьфу, типун тебе на язык! – Но, поразмыслив, Сумароков согласился. – Только не Фридрих, как бы фельдмаршал наш граф Петр Семенович не опомнился да не убоялся своей победы. На седьмом десятке лет каждому в своей постели умереть хочется. А матушка наша совсем слаба здоровьем стала… Продли ей, господи, года ее. – Сумароков задумчиво перекрестился и вздохнул. – Однако ты прав: дорого яичко ко Христову дню. Бери текст – и с богом.
«Новые лавры» поставили на сцене Большого оперного дома через две недели после балета «Прибежище добродетели».
На сцене кудрявились ярко-зеленые рощи, за которыми в туманной дымке угадывался Санкт-Петербург. Олимпийские боги, опустившись на серый утес, прославляли сладкозвучными голосами деяния ее императорского величества. И тогда появился у подножия утеса в золотом сверкающем шлеме и пурпурном плаще бог войны Марс с коротким мечом в руке. И смолкло пение богов.
Марс обвел зрителей большими, радостно сияющими глазами и сделал шаг вперед.
Россия, я тебе известие принес,
Что милостию ты небес
И храбрым воинством врагов своих расшибла,
И вся надежда их погибла.
Внимайте, жители, сие брегов Невы!
И вы,
О, боги,
Соделавшие здесь из облаков чертоги!
Марс поднял взгляд свой к богам-олимпийцам, и голоса хора сплелись с его рокочущим баритоном, и все будто въяве узрели великое Кунерсдорфское сражение, в котором «гремит ужасный гром и молнии блестят» и где российские воины
…в час толь нужный сей
Явили мужество России всей
И самодержице своей,
И показали то перед очами света,
Что робости ничто не может им нанесть,
Что только в мыслях их Елизавета,
Отечество и честь.
Медленно стал восходить к богам пурпурный Марс, завершая свой монолог, а у подножия утеса царил уже мир, и порхали в легком танце безмятежные пастушки и пастушки. Красавец офицер Преображенского полка, не отрывая от сцены взгляда, сжал локоть своему соседу.
Братья Григорий и Алексей Орловы понимали друг друга с полуслова. Поручик Григорий Орлов, новоиспеченный адъютант графа Петра Ивановича Шувалова, был назначен недавно в чине капитана главным казначеем артиллерийского ведомства. Настоящее ему казалось ослепительной улыбкой фортуны, а о будущем, уповая на благосклонность ее высочества великой княгини, он пока еще нимало не задумывался. Памятуя о совете великой княгини послушать на русском театре пушечную пальбу, Григорий счел это за высочайший приказ.
На сцене интересно и красочно рассказывал о битве Марс – Федор Волков. Так интересно, что, на минуту закрыв глаза, Григорий очень даже представил себе Цорндорфскую битву:
Простерлось огненное море
Из мелкого ружья,
Со всех сторон лия.
Россиян левое крыло в огне стояло,
Из грозных облаков их смертный дождь кропил,
И пламя на него от трех сторон зияло.
Бойницы взяты две, полк целый отступил…
«Ах, черт подери, как верно!» – думал Григорий, а вспомнив, что ведь и тогда, при Цорндорфе, Фридрих бросил конницу «косой атакой» на левое крыло, где стоял он с полком Еропкина. Однако туповат сей Фридрих, с удовольствием подумал еще Григорий, коли на большее ему выдумки не хватает. И это открытие вызвало в нем, боевом офицере, чувство благодарности к актеру, который хотя и не солдат, а все верно приметил, не соврал. Откуда было знать Григорию, что Федор читал текст Сумарокова, таких тонкостей он просто не понимал. И вообще в театре был впервые. Непонятно только, к чему это на поле боя прекрасные пастушки объявились. Кабы маркитантки – это еще куда ни шло, хотя от картечи-то и они прятались подальше. Но все равно хорошо!
Отплескав с удовольствием вместе со всеми в ладоши, Григорий приказал служивому отвести их с Алешкой туда, где обретаются актеры, что тот и исполнил.
Только успел Федор сбросить с головы золотой шлем свой, как в гримерную громко постучали и сразу же вошли два офицера, которые были бы удивительно похожи друг на друга, если б не шрам на щеке одного из них. Тот, который без шрама, шагнул вперед.
– Позвольте без чинов, по-солдатски, – мягкая ладонь Федора скрылась в железной ладони Орлова. – Первый раз увидел бой без единой жертвы. Лихо! Простите, как величать прикажете?
– Федор Григорьевич Волков… Да кто ж вы, господа?
– Капитан Григорий Орлов! – щелкнул каблуками Григорий. – А это брат мой Алексей. Великое удовольствие получили, уж вы мне поверьте, сам участвовал при Цорндорфе и могу судить.
Григорий Орлов… Федор вспомнил, что это, видно, о нем говорили в Петербурге, будто бы он пленил какого-то знатного прусского вельможу, чуть ли не брата короля.
– Прошу садиться, господа, – предложил он.
– Благодарим, – слегка склонил голову Григорий. – Хотели только изъявить свое удовольствие и надеяться на дружбу.
– Весьма польщен, господа.
– Так мы ваши поклонники, дорогой Федор Григорьевич, – еще раз откланялся Григорий Орлов.
Братья щелкнули каблуками, повернулась и, выходя, чуть не столкнулись в дверях с Сумароковым.
– Господи! Кто это?..
– Братья Орловы. Им очень поправился наш спектакль.
– Еще бы им не понравился!.. – Сумароков сел на стул, стащил с головы парик и задумался. – Орловы… Ты вот что, Федор Григорьич… Я тебе как сыну родному: оставь ты этих героев…
– Почему? – искренне удивился Федор. – Кстати, я не спросил младшего, Алексея, в какой битве он получил такое страшное ранение.
– В пьяной! – выкрикнул Сумароков. – А ты думал, при Кунерсдорфе? Шиш! По пьянке и рубанули дурака по пьяной роже! Не лезь ты в их темные дела, голову свою пожалей. Ты артист, великий артист, и тебе ль якшаться с проходимцами?..
Почувствовал Федор, недоговаривает что-то Александр Петрович, но допытываться не стал – придет время, авось сам доскажет.
В январе 1761 года русская труппа пополнилась актерами, вызванными высочайшим повелением из Москвы от университета. И среди них прибыло несколько актрис, что было, как всегда, весьма кстати.
Русские актеры продолжали жить в просторных комнатах Головкинского дома. Здесь же, в его обширных залах, и репетировали. Актеры обжились в этом доме и привыкли к нему. Неподалеку жил и Сумароков. И вдруг определением Придворной конторы за подписью Карла Сиверса Головкинский дом, «что на Васильевском острову», отдавался под Академию художеств. Сумароков слег – «клоп Сиверс» укусил довольно-таки чувствительно. Под жительство актерам предлагался дом генерал-лейтенанта графа Ефимовского в Адмиралтейской части. Для актеров это было удобнее – ближе к театрам и оперным домам. Для Сумарокова это было бедствием, директор оставался один по ту сторону Невы: снять жилье в центральной части города было накладно, а проще сказать – несоразмерно с его бригадирским жалованьем.
В очередном письме Ивану Ивановичу Шувалову Сумароков, сетуя, что он «всякую минуту от гофмаршала мучим», писал: «Ежели актеры, как может быть учреждено, переедут, мне на Васильевском острову жить нельзя, и вместо малой цены должно мне платить большую. А денег негде взять; на той стороне дома меньше пятисот рублев нанять не можно. Ежели мне не будет места, где актеры жить будут, так надобно мне в воду броситься… Ежели я достоин милости вашей при этом найме двора, так, кажется, и мне тут жить надобно; а когда недостанет комнат, так ради некоторых актеров можно нанять еще небольшой домик. А от театра я отброшен быть не заслужил, и в угодность подьячим, вымаравшим меня у г. маршала, который меня марает далее, я Мельпомену покинуть не хочу…»
Наконец выход был найден: актеры переехали в дом полковницы Макаровой, стоявший здесь же неподалеку на 1-й линии. И если актеры перенесли свой переезд безболезненно, то отношения Сумарокова с Сиверсом перешли в открытую войну.
При дворе серьезно задумались. Стали чаще упоминать имя Федора Волкова как возможного преемника Сумарокова на посту директора театра. Слухи дошли до Александра Петровича, и он в мрачном оцепенении ждал очередной обиды.
В ту пору Федор часто заменял постоянно болевшего Сумарокова – проводил репетиции, готовил реквизит, заказывал платье. Для сумароковских трагедий он приказал пошить национальные костюмы и сделать для воинов старинные русские шишаки – металлические шлемы с острием, заканчивающимся шишкой. Это была последняя капля, которая привела Сумарокова в неистовство.
«Милостивый государь!.. – с гневом писал он Шувалову. – Я прошу только о том, что ежели я заслужил быть отброшен от теятра, так по крайней мере, чтобы без продолжения ето зделано было, а при теятре стихотворцем остаться я не желаю и работать, когда я лишуся моей должности, истинно я по теятру не буду, поверьте мне, я клянуся в етом честию моею, хотя с моею фамилиею по миру пойду, за мои по теятру труды, которые, кажется мне, больше, нежели то, что Волков шишаки зделал, и у Волкова в команде быти мне нельзя, а просити, чтобы я отрешен был от теятра, я не буду прежде, покамест не сойду с ума… я определен именным указом в директоры теятра, а не в подлое звание теятрального стихотворца, каков был Бонеки… и определен я не Бонекием к теятру, но директором и от Волкова и Ильи Афанасьевича зависеть не могу».
Обиды так взволновали Сумарокова, что в сумбурном письме своем он даже назвал Ивана Афанасьевича Дмитревского Ильей Афанасьевичем. Напрасно Федор Григорьевич пытался успокоить Александра Петровича, рассеять его болезненную мнительность, – Сумароков застегнулся на все пуговицы. Ему казалось, что весь мир восстал против него. Ни на какие примирения ни с кем Сумароков не шел. Он был уверен, что отставку его не примут, и стал грозить ею все чаще. Письма Шувалову напоминали уже ультиматумы: «Помилуйте меня и избавьте от Сиверса, избавьте меня и зделайте мне отставку… Моя отставка не безполезная отставка будет, но полезная служба весьма отечеству моему».
Это тоже была последняя капля в чаше терпения императрицы. 13 июня 1761 года ее императорское величество «изволила указать: господина бригадира Суморокова, имеющего дирекцию над российским театром, по его желанию от сей должности уволить. Жить ему, где пожелает… Господин Сумороков, пользуясь высочайшей е. и. в. милостию, будет стараться, имея свободу от должностей, усугубить свое прилежание в сочинениях, которые сколь ему чести, столь всем любящим чтение удовольствия приносить будут».
Сумароков оставил театр и, как и обещал, перестал писать. Новый театральный сезон открывал Федор Волков.
Императрица бредила. Когда к ней ненадолго возвращалось сознание, она сквозь смертную пелену видела заплаканное лицо сердечного друга Ванечки, Ивана Ивановича Шувалова, стоявшего на коленях у ног ее, одутловатое серое лицо нелицеприятного друга Алексиса рядом с собою; смутно слышала монотонное невнятное бормотанье и вдыхала тяжелый сладкий запах ладана. Кто-то тихо плакал, кажется, великая княгиня…
Сознание ее вновь угасало, и тогда мир окружающий сменял мир видений. «Во селе, селе Покровском…» Ах, как она мчится на санях с крутой ледяной горки! Свистит в ушах ветер, захватывает дух, нечем дышать, она задыхается, вскрикивает и… Слава богу – она в Версале. Отец, великий Петр, соединяет ее руку с холодными пальцами жениха – Людовика XV, и они идут к алтарю… Но что это? Вместо священника перед нею вдруг появляется юноша в грязном рубище, с бледным изможденным лицом. Она видела однажды это лицо, возникшее из небытия. Кто же это?.. Боже! Государь император Иоанн Антонович! Но ведь он в Петропавловской крепости… Вот оно – возмездие…
Императрица заметалась в постели, пытаясь закричать, позвать на помощь, но голоса не было, из груди вырвался лишь предсмертный хрип. Императрица дернулась и затихла.
Это случилось 25 декабря 1761 года в три часа пополудни, в светлый праздник Рождества Христова. И не знал православный русский народ, радоваться ему или печалиться.
В империи был объявлен траур. На другой день после смерти императрицы митрополит новгородский Дмитрий Сеченов совершил панихиду, в дворцовой церкви состоялась торжественная церемония принесения присяги, а уже к вечеру тут же, недалеко от гроба усопшей, в покоях нового императора Петра III Федоровича, имел быть ужин на полтораста персон. Среди гостей был и канцлер Михаил Илларионович Воронцов. Глядя на свою племянницу Елизавету Романовну, гордо сидевшую рядом с новым императором и принимавшую царские знаки внимания, он не преминул во всеуслышание отметить в Петре Федоровиче большие задатки великого стратега и государственного деятеля.
Новой императрице Екатерине Алексеевне стало страшно. Она вспомнила текст манифеста о восшествии на престол Петра III, в котором ни словом не были упомянуты ни она, ни наследник Павел Петрович, и почувствовала себя обреченной. Был растерян и воспитатель малолетнего наследника сенатор граф Никита Иванович Папин, усмотрев в действиях канцлера стремление видеть на престоле свою племянницу. Этого он уже допустить не мог.
Неожиданно Федор Волков был вызван во дворец императрицей. Войдя в ее покои, он заметил, что Екатерина Алексеевна выглядела бледной и печальной.
– Здравствуйте, Федор Григорьевич. Садитесь, пожалуйста, – сказала она грустно. – Вот мы и вновь встретились с вами… в тяжелое для всех нас время. – Она помолчала, комкая в руке платок. Вздохнула прерывисто. – Будем уповать на милость божью. Я хотела просить вас, дорогой Федор Григорьевич… – Она опять замолчала, будто не решаясь доверить какую-то тайну.
Федору стало ее жаль по-человечески, и он воскликнул с жаром:
– Ваше величество, вы можете рассчитывать на меня полностью!
Екатерина Алексеевна внимательно посмотрела на Федора, и он заметил в ее взгляде то ли промелькнувшую тревогу, то ли мольбу.
– Ах, Федор Григорьевич, матушка-государыня оставила меня совсем одну… Я даже не знаю, к кому обратиться за утешением, к кому обратиться за помощью. – На глаза Екатерины Алексеевны навернулись слезы, и она поднесла платок к виску. – Я совсем одинока… Простите меня, но эта мысль невыносима…
Федор был довольно наслышан при дворе об отношении Петра Федоровича к своей супруге, это давно ни для кого не составляло тайны. Но он слышал еще и о том, о чем не договорил тогда при встрече с Орловыми Сумароков. Липкий ползучий слушок об отношениях Екатерины с Григорием Орловым достиг и ушей Федора. Но ему всегда претили дворцовые сплетни. Однако имеющий уши да слышит. Он видел несколько раз в театре великую княгиню в обществе совсем юной княгини Екатерины Романовны Воронцовой-Дашковой, которую приблизил к себе с мужем, офицером Преображенского полка, перед смертью императрицы Петр Федорович.
Федор объяснял себе это тем, что Дашкова была крестницей будущего императора. И не знал тогда, что Екатерина Романовна глубоко презирала как Петра Федоровича, своего крестного, так и сестру свою – за легкомысленную позорную связь. Чужеземцу же Петру Федоровичу нужно было прежде всего заручиться поддержкой старинных русских родов и гвардейских офицеров. А род Воронцовых принадлежал к одному из тех немногих русских родов, которые управляли в ту пору Россией, как им того хотелось. Род Дашковых не уступал им в знатности.
– Дорогой Федор Григорьевич, – вздохнула Екатерина Алексеевна, будто сбросила с себя непосильный груз, и улыбнулась, – мы ведь друзья, не правда ли?
Федор покраснел и смутился. Быть другом великой княгини, любительницы театра, еще куда ни шло, но быть другом императрицы…
– Ваше величество, вы всегда можете рассчитывать на меня! – повторил он со всей искренностью.
– Я надеюсь на вас. У вас сейчас будет достаточно свободного времени…
– Да, ваше величество. После траура наступит великий пост.
– Боюсь, что и после поста вам не придется заниматься вашим любимым делом. Если только размышлениями…
Федор посмотрел на Екатерину, выражение ее лица было совершенно бесстрастным.
– Вы же знаете, – продолжала императрица после длинной паузы, – император не любит наш театр. У императора более достойные его увлечения.
– Но театр не увлечение! – вспыхнул Федор и сразу же осекся. – Простите, ваше величество…
– Император в этом не уверен. – Екатерина чуть склонила голову.
Федор поклонился и, ничего не понимая, вышел. Он и не мог подозревать тогда, что с этой минуты будет втянут в смертельный спектакль и начнет играть роль, одна репетиция которой может стоить головы.
С начала своего правления Петр III Федорович как будто нарочно стремился к тому, чтобы только уничтожить самого себя. Первым же своим указом он восстановил против себя гвардию, созданную Петром Великим. Испытывая перед нею страх и люто ненавидя, он решил бросить ее на войну с Данией, а остатки потом разогнать. Сразу на такой подвиг он не решился и поначалу приказал именовать отныне полки именами их командиров, чтобы стереть саму память об их названиях и все, что связано с ними. Преображенский, Семеновский и Конногвардейский полки, полковником которых по старой традиции считался сам царствующий монарх, стали именоваться Трубецким, Разумовским и Голштинским – по имени дяди Петра III принца Жоржа Голштинского, вызванного из Голштинии и сразу же произведенного в фельдмаршалы с годовым жалованьем в сорок восемь тысяч рублей. Такого гвардейцы простить ему не могли. Традиционная гвардейская форма полков заменялась формой прусских солдат и офицеров. Это вызвало ропот.
Наконец, указом Петр III приказал возвратить из ссылки тех, которые обагрили свои руки кровью тысяч и тысяч русских людей, – Миниха, Бирона, Менгдена, семьи Лилиенфельдов…
Над Россией нависла зловещая тень новой бироновщины.
Гроб с телом императрицы Елизаветы все еще стоял в тронной зале…
А Федор продолжал размышлять над словами Екатерины. Собственно, не нужно было быть провидцем, чтобы предугадать дальнейшую судьбу Российского театра, да и вообще судьбу русского просветительства. Возведенное с таким трудом здание русской культуры грозило рухнуть и превратиться в прах. Да что культура! Не грозит ли самой России превращение в некое подобие Голштинского герцогства?
Федор вошел в тронную залу. Стены ее были задрапированы черным шелком, балдахин над покойной тускло золотился тяжелой парчой, из-под которой легкими волнами ниспадал горностай. Перед ним проходили бесконечным потоком люди разных званий и чинов. Рядом с ним остановился конногвардейский офицер. Склонив голову перед гробом, он постоял несколько молча, вздохнул и тихо сказал:
– Вам привет от Василия Майкова…
– Где он? – удивился Федор. – Когда вы его видели?
– Здесь неудобно. – Гвардеец медленно направился к выходу.
Федор пошел вслед.
После спертого воздуха, пропитанного благовониями, и дурманящего запаха ладана Федор вздохнул полной грудью морозный воздух и закашлялся. Слепило яркое солнце. Гвардеец подождал его и представился:
– Поручик Ржевский, Алексей Андреевич. Если угодно – поэт. Из Москвы.
– Давно ль? Что там, как?
– Из Москвы сразу ж, как только пришло известие о кончине государыни. А что ж в Москве?.. То же, что и в Петербурге. Мелиссино ждет только команды.
– Какой команды? – не понял Федор.
– Сдать университет под казарму.
Федор внимательно посмотрел на Ржевского – раскрасневшееся на морозе лицо его с короткими черными усиками было совсем юным, и Федор не удержался, чтобы не спросить:
– Простите, сколько вам лет?
– Двадцать три года. А что?
– Да нет. Ничего. Вы так спокойно пошутили об университете…
– Пошутил? – остановился Ржевский. – Пошутил? А вы что, надеетесь еще сыграть роль Марса, прославляющего победу русского оружия над Фридрихом?
Федор как-то об этом не подумал, и Ржевский заметил его замешательство.
– Молите бога, чтобы император не вспомнил об этом. И если он не превратит ваши оперные дома и театры в конюшни, то заставит вас в наказание играть роль победоносного Фридриха, которую напишет какой-нибудь Штелин.
Федор удивленно посмотрел на Ржевского.
– И вы не боитесь говорить это мне, незнакомому человеку?
– Почему же незнакомому? – удивился, в свою очередь, Ржевский. – Очень даже знакомому. Мне много рассказывал о вас Василий Майков. А он честный малый и к тому ж офицер Семеновского полка, хотя и в отставке. И почему это князья Смоленские должны бояться голштинских выродков?
Федор почувствовал, что разговор принимает опасный оборот и его следует прекратить, тем более что сам он князем Смоленским не был и потому высоких покровителей не имел. Но он понимал, что и уподобляться страусу, который в минуту опасности прячет голову под крыло, было бы сейчас подло. Слишком много узнал в последние дни Федор, чтобы это могло оставить его равнодушным. Надвигалось нечто неизбежное, что грозило подмять под себя, уничтожить, и от чего не было спасения, как от неумолимого рока в греческой трагедии. Воля монарха – воля божья. И Федор не видел выхода из тех обстоятельств, которым быть суждено.
– Мы вам вполне доверяем, Федор Григорьевич, потому что верим в вашу порядочность.
– Кто это – вы?
– Мы – это те, кто нуждается в Вашей помощи, кто не хочет превращения театров в конюшни.
– В моей помощи? – Федор тихо рассмеялся. – А что я могу? Российский театр всегда чувствовал покровительство великой княгини, но, простите меня, став императрицей, она, мне думается, сама теперь нуждается в покровительстве. Она так одинока…
– Ей надо помочь избавиться от этого одиночества.
– Боюсь, что это трудно будет сделать. Вы лучше меня знаете, что император приказал следить за ней в оба. Я один из немногих, кто еще пользуется правом посещать ее в любое время.
– Так это же прекрасно! – воскликнул Ржевский. – Вот и скрасьте ее одиночество! Заинтересуйте ее репертуаром следующего театрального сезона. Вы ведь сами знаете, как государыня обожает театр.
– О каком театральном сезоне вы говорите, если предсказываете ужасное будущее оперным театрам?
– Ну, Федор Григорьевич! – засмеялся Ржевский. – Пути господни неисповедимы! А я очень рад, что познакомился с вами.
– Я тоже, – искренне ответил Федор. – Так чем все-таки я могу помочь вам?
– Простите, Федор Григорьевич, сейчас я тороплюсь в свой Голштинский полк. – Он резко, с каким-то присвистом выделил слово «Голштинский». – У нас еще будет время поговорить. – И, уже прощаясь, спросил как бы между прочим: – Вы когда думаете быть у государыни?
– Днями. Скоро похороны, и я непременно должен быть у нее. Может быть, понадобится моя помощь в организации шествия.
– И прекрасно! Я думаю, вам не нужно напоминать, чтобы наш разговор остался между нами?
– Не нужно, Алексей Андреевич, – улыбнулся Федор. И вдруг его осенила простая догадка: а ведь гвардеец ищет связь с императрицей. Петр Федорович так окружил свою супругу верными ему голштинцами, как волка не оцепляют красными флажками. Более же всего он опасался гвардейцев, которым к ней хода не было совершенно. И чтобы проверить свою догадку, Федор спросил тоже как бы между прочим: – Но, думаю, государыне-то при случае и можно упомянуть о нашей встрече? Может быть, это ее несколько развеет?
Ржевский напрягся, глаза его сузились, но уже в следующее мгновение он вдруг весело рассмеялся, понял – в прятки с Волковым играть не стоит, да и сам в дипломаты не годился.
– Спасибо, Федор Григорьевич. И еще – с вами очень хотел бы познакомиться Михаил Матвеевич Херасков.
– Он здесь, в Петербурге?
– Да. Если вы свободны сегодня вечером, он вас станет ждать. Я тоже буду, мне кое-что нужно передать ему для журнала. Так мы вас ждем?
– Непременно.
– Значит, до вечера, – Ржевский крепко пожал Федору руку, круто повернулся и быстро свернул за угол дома.
Михаил Матвеевич Херасков был выпущен из Шляхетного корпуса за три года до поступления туда Федора и вскоре стал руководить в должности асессора деятельностью типографии, библиотеки и театра при Московском университете. А два года назад стал издавать при нем же журнал «Полезное увеселение». И тогда Федор вспомнил, что встречал фамилию Ржевского и в сумароковской «Трудолюбивой пчеле», и в академических «Ежемесячных сочинениях», и уж не попадалось ни одного номера «Полезных увеселений» без его басен, элегий, од, сонетов, идиллий, мадригалов и, бог знает, чего еще. Так, значит, сочинитель «А. Ржевский» и есть этот самый гвардейский поручик!
Херасков остановился в доме своего отчима Никиты Юрьевича Трубецкого. Федор велел доложить о себе, но слуга сказал, что его уже ждут, и проводил гостя.
Херасков был не один. Увидев Федора, он быстро вышел из-за стола.
– Федор Григорьевич, наконец-то! Ходим рядом, делаем одно дело, а встретиться все недосуг. Ах, суета сует! – Он обернулся к поднявшимся с кресел молодым людям. – Федор Григорьевич, вас нужды нет представлять, вы знаменитость. Позвольте вас познакомить с моими друзьями. Поэт Яков Борисович Княжнин. Очень хороший поэт, однако стихи свои предпочитает пока печатать без имени. Скромен. Кстати, Федор Григорьевич, он сочиняет сейчас мелодраму, и как знать, может, и для вас там роль уготована. Ну а это Ипполитушко Богданович. Молод еще, а уже в нашем журнале стихи печатает.
Богданович похвалою не смутился, он с неприкрытым любопытством глядел на Федора блестящими от восторга глазами.
– Федор Григорьевич, когда я бываю в Петербурге, на все ваши спектакли хожу.
Федор поклонился.
– Благодарю вас. И то приятно слышать, что, кажется, Михаил Матвеевич, под вашим покровительством рождаются молодые драматурги.
– Пока под моим покровительством небольшой кружок любителей поэзии: Сереженька Домашнев, Алеша Ржевский, ваш поклонник и приятель Василий Майков, еще кое-кто. Как там у тебя, Яков?
Иль только в свете есть один лишь Тредьяковский?
Фон Визин есть, Лукин, Елчанипов, Козловский.
Правда, все они только начинают, как и Яков – свою поэму. Но ведь лиха беда начало! Будут вам, дорогой Федор Григорьевич, и драматурги, дайте срок.
Федор читал трагедию Хераскова «Венецианская монахиня», которую играли на университетском театре. Его поразило тогда то, что Херасков не выдумал сюжет, а взял для трагедии подлинную романтическую историю,случившуюся когда-то в Венеции, и то, что в ней не было привычной борьбы чувства и долга, – Херасков показал, как «страсть с верой борется, а вера с нежной страстью». Автор воспевал честь, сохраненную ценою жизни. В русской драматургии это было нечто новое. И главный герой трагедии Коранс не мог не прельстить Федора.
– Я хотел бы сыграть Коранса, – задумчиво проговорил он, вспоминая горячие монологи благородного юноши.
– Спасибо, Федор Григорьевич. Но я написал еще одну трагедию и хочу показать ее вам, она еще не напечатана.
– Боже мой! – воскликнул Федор. – Да у вас здесь свой репертуар, а вы молчите!
– Сейчас все молчат, – глухо сказал Княжнин. – Траур.
Наступила тишина. И в этот момент дверь распахнулась, и вошел хмурый Ржевский.
– Добрый вечер, господа. Простите, что прервал вашу беседу. Конечно, о поэзии?