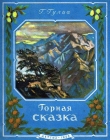Текст книги "Федор Волков"
Автор книги: Константин Евграфов
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 20 страниц)
– А что ж за мерой-то? – спросил Федор, памятуя о беседах с Иоганном Миллером. – За мерою что ж?
– За одной мерой – другая идет, – спокойно пояснил Петр Лукич. – Чтоб сравнить – а лучше что?.. Вот иные мои товарищи алкают от труда своего, в другой мере спастись хотят. Ан, опять, труды-то грешные их и призывают! И сызнова, покуражившись, в мере своей ходят. От нее, грешной, не спастись!
– А где ж иная мера? – спросил Федюшка Петра Лукича так, как бы самого его спросил гер Миллер.
– Ужо покажу, – пообещал Петр Лукич, подошел к двери и открыл ее. – Прасковья!
Вошла Прасковья.
– Слушаю, батюшка Петр Лукич…
– Призови ко мне Прокопа Ильича, да вели Якову готовиться в столицу. – Петр Лукич повернулся к Федюшке и сказал со значением: – В новой мере познаешь себя!
Венчалась на царствие Елизавета Петровна, дочь Петра Великого. По случаю коронации весь двор прибыл из Петербурга в Москву. Старая полусонная столица была разбужена звоном колоколов, народными игрищами, гуляниями и увеселениями, праздничным треском огненных фейерверков и шутих.
Петр Лукич поручил Федора попечению Прокопа Ильича и отправил в Москву: познавать «иную меру» сей юдоли.
Оставив Якова с лошадьми в Зарядье, Прокоп Ильич сразу же повел своего ученика к Кремлю. Красная площадь была заполнена народом. По разговору колоколов и гулу толпы можно понять было, что происходит там, за кремлевской стеной.
Проплыл над площадью и растаял последний удар колокола Успенского собора, и от Спасских ворот крутой волной, все расширяясь и набирая силу, прокатился сдержанный гул:
– Венчается на царствие государыня императрица…
– Венчается на царствие…
– Венчается!..
Вновь торжественно загудели колокола, и новая волна прокатилась по толпе:
– Изволила прошествовать от Успенского к Архангельскому собору…
– К гробам своих предков…
– …предков…
И словно под этими волнами, колыхалась и сама толпа.
Государыня-матушка, видно, со своим двором уж и за хлеб-соль принялась, а народ все не расходился: ждали, истомившись, чуда – явления венценосной!
С великим трудом выбрались учитель с Федором из толпы, помятые, а все ж венчали на царствие!
– Ах, Федор, Федор! – разговорился Прокоп Ильич на пути в Зарядье. – До чего ж любопытен род человеческий, все ему надо знать! Конечно, матушке государыне приятно. Поглядела она на нас, людишек своих, и подумала: «Ах, как меня народ любит, коли венчать на царствие пришел! За то и я его своей милостью не оставлю, пущай гуляет православный!» Вот мы и погуляем, станем новую меру познавать, за коей и послал нас батюшка Петр Лукич. Пойдем нынче смотреть кумедию о Баязете и Тамерлане – «Темир-Аксаково действо».
– А я видел! – обрадовался Федюшка случаю рассказать учителю, как ломали кумедь в Костроме.
– Это совсем не то, Федор, что ты видел. Ну, да сам поглядишь. Слышал про Тамерлана? Его еще Тимуром звали… Такой же кровопивец и разоритель, как и Мамай.
О Мамае кто не слышал!
И тогда Федюшка усомнился:
– Как же это, про Тимура – и кумедь? Что ж смешного-то?..
– А почему же смешно должно быть, Федор? – удивился Прокоп Ильич.
– Так ведь кумедь! Смешно должно быть.
– А, – понял учитель. – Кумедия – необязательно смешно: всякое действо называют кумедией. По привычке, по-старому, и зовут кумедия. На самом-то деле тражедия это, Федор Григорьич. На ночь-то и смотреть ее страшно, я видел… Но мы же с тобой не девицы, а? Да и Яков нас быстро до дома домчит, авось и напугаться не успеем.
Смеркалось, когда Яков остановил лошадей у подъезда Лефортова госпиталя.
– Ты, Яков, – наказал Прокоп Ильич, – езжай обратно домой, а несколько погодя и заедешь за нами.
Вдоль высокой кирпичной стены гулял взад-вперед народ. Одеты все были по-праздничному. А вскоре и дверь открыли.
Тыкался Федюшка носом то в тулуп нагольный, то в сукно: народ валил густо, и ничего нельзя было разобрать в колеблющемся полусумраке. Редкие жирники вдоль стен отбрасывали в потолок черные хлопья копоти. Но тут развернуло Федюшку боком, поднажали сзади, и очутился он в просторной высокой палате. Здесь уже было много светлее и свободнее. В глубине палаты спускались сверху до самого низа три широких желтых полотна: два по сторонам и одно – посередине. И освещалось все это жирниками, видеть которые, однако, смотрельщик не мог: были прикрыты они где вырезанными из фанеры ракушками, где ахтерскими масками, а где просто разрисованными шпалерами.
Поперек всей палаты стояли деревянные скамейки. Прокоп Ильич подтолкнул Федюшку поближе к сцене и показал дежурному солдату билет. Солдат молча показал, где им сесть надлежит.
– А солдаты-то к чему? – спросил Федюшка, усаживаясь.
– А это чтоб порядку больше было. Приказных-то смотрельщики не очень жалуют – бить грозятся, а то и взаправду бьют.
– За что ж бить-то грозятся? – не понял Федюшка и вспомнил вдруг битву на Которосли: неужли смотрельщики с приказными стенка на стенку ходят?
– Видишь ли, Федор, иные смотрельщики табак курят неискусно, пепел с огнем на пол сыплют из трубок. Пожар может случиться… Вот, рассказывают, давно это было, сосал иноземец один, швед, трубку – только искры кругом! Ему подьячий и говорит: так, мол, и так, табак, мол, на дворе пить надо. Ну, а шведин и закуражился: за саблю схватился, мол, ничего не боюсь! И раскровенил подьячему-то нос. Тут уж денщиков позвали, выволокли они шведина на двор – и в батоги! Это уж чтоб и иным впредь неповадно было этак бесчинно и невежливо в кумедии поступать. С той поры и глядят за порядком солдаты: солдата по носу не стукнешь!
Со смутным чувством тревоги посмотрел Федюшка по сторонам и, убедившись, что никто табак из трубок не пьет и искрами не сорит, успокоился.
Впереди посветлело, видно, зажгли еще несколько плошек. Тревожно заиграла где-то скрипка, раскатилась барабанная дробь. Левое полотно ушло в сторону, и увидел Федюшка на пышной царской кровати спящего Тамерлана. Он был накрыт пурпурным плащом. На голове его – бархатная малиновая шапочка, украшенная большим зеленым камнем.
От такого сочетания цветов смотрельщики тихо ахнули и заерзали на скамьях. Что-то будет дальше?..
Тамерлан застонал громко и жалобно во сне и повернулся на бок – лицом к смотрельщикам. Видно, мучили его кошмарные сны. Так и есть: не открывая глаз, Тамерлан стал упрекать кого-то в предательстве, потом упреки перешли в страшные угрозы Баязету – турецкому султану. Тамерлан говорил отрывочно, то вскрикивая, то переходя на шепот и невнятное бормотанье. А когда пробудился ото сна, воскликнул громовым голосом:
– Затрубить в трубы! На тревогу затрубить, на новую войну!
И затрубили трубы, ударили боевые барабаны, и сбежались на его зов стражники и приближенные. Мудрецы стали сон Тамерланов толковать. И один из них, Арсала, все растолковал: быть войне! Тут прибежали и послы от греческого кесаря Палеолога с грамотой: «Баязет неверный в наше православное кесарство вступил и хощет нашу коруну осилить и под свое владение привести».
И опять затрубили трубы и забили барабаны – войско Тамерлана стало готовиться в поход.
Федюшка даже и заметить не успел, куда все подевалось: ушло в сторону правое полотно, и вот он – Баязет турецкий! С головы до пят сверкал он алмазами и изумрудами.
– Я – мастер всего света! Величайший монарх всего мира! Моим подножием будут и Тамерлан и Палеолог – неверные нечестивцы!
Долго еще восхвалял свое могущество султан. А потом пошел свое войско собирать. И тут появился из-за ширмы мужичонка в армячке и драном шишаке – боится чего-то, оглядывается. И не зря остерегался: выскочили, откуда ни возьмись, два солдата, схватили его – кто таков, откуда и куда? Долго упирался тот, да его так прижали солдатики, что взмолился и все поведал. Идет-де он потаенно от турского кесаря Баязета.
– Ах ты, тварь! – вскричали солдаты. – Шел ты тайно, а смерть примешь явно!
Блеснула сабля, стукнула голова бедного мужичонка об пол и покатилась к смотрельщикам по сцене, брызнула алая кровь. Так отпрянули первые ряды, что вторые чуть навзничь не повалили. Федор оцепенел.
– Не бойся, не бойся, Федор Григорьич, – успокаивал Прокоп Ильич. – Это ведь ахтеры…
Попался-таки Тамерлану Баязет. И посадил он его в железную клетку и стал возить по свету, питая «укрухами хлебными» и сделав его «подножием своим». На конце меча, как зверю дикому, просовывал сквозь решетку бывшему султану куски сырого мяса. И не вынес Баязет унижений, ударился головой о железные прутья и рухнул замертво. И снова залила сцену алая кровь.
Увидев такое, закричала Милка, жена Баязета, диким голосом (трепет по рядам прошел!):
– Увы! Уж умре, увы, увы!..
И махнул Тамерлан белым платком.
– Отведите жену безумную…
Не помнил Федюшка, как вышел из театра, как сели они в сани давно уж ожидавшего их Якова.
– Испугался небось, как голова-то с плеч полетела? – засмеялся Прокоп Ильич. – А ведь никто и не приметил, как голову-то из-за шпалер подкинули, тряпочную. Пока все рот открыли, тут ее и подкатили, а мужичонку армячком прикрыли да свиной пузырь с краской и взрезали… А краску-то ахтеры нашу пользуют, водяную. Гер Миллер готовит такую, чтоб и яркая была и с пола легко отмывалась.
Хоть и раскрыл Прокоп Ильич тайны ахтерские, ничуть от того Федор в разочарование не пришел. Да и не слушал он учителя своего, и про голову тряпичную забыть успел. Совсем о другом думал: оказывается, о былой жизни можно не только из книжек узнать, ее и увидеть въяве можно! Но ведь так можно представить то, чего на самом деле и не было вовсе! И все поверят! Вон ведь как женки-то рыдали над сумасбродной Милкой, аж носы опухли! И тут он как бы запнулся мыслью.
– Прокоп Ильич! Неправда же все это…
– Ахтеры философский камень тоже свой ищут: чтоб правду уметь превращать в ложь, а ложь в правду. – Прокоп Ильич подумал и добавил: – Для постижения истины. А путям для постижения истины несть числа! Что есть истина в «Темир-Аксаковом действе»? Гордых бог наказывает, а смиренных награждает. Уразумел ты эту истину?
– Уразумел…
– И прекрасно! – Прокоп Ильич выпрямился вдруг, заметив, что сани стоят. – Яков! Чего стоим-то?
– А приехали потому что, – зевнул Яков и пошел открывать ворота.
Появился с Рогожской мужик, передал Прокопу Ильичу грамотку от Петра Лукича. Спрашивал тот, не довольно ль им в новой-то мере познавать себя, когда, мол, сбираются к родному порогу. Еще приписал, что-де Аннушка с Прасковьей-кормилицей по Федюшке скучают: хоть, мол, и сидел букой, а все ж живой человек в доме.
– Что ж ответим-то? – спросил Прокоп Ильич.
Федор представил Аннушку, Прасковью, и ему показалось, что не видел их уж целый век. Привык уже к ним и сейчас только понял, что и сам соскучился. Однако как же ехать-то, когда обещал Прокоп Ильич показать ему «Комедию на Рождество Христово»! И упросил Федор учителя своего уж после комедии ехать на Рогожскую.
– Я ведь только и начал меру-то иную познавать. А Петр Лукич велел сполна ее познать, – слукавил Федор.
На том и порешили.
В оставшиеся до праздников дни брал Федор с собой бумагу и бродил с учителем по Москве. Зарисовывал, как умел, храмы и церквушки, торговые ряды, чтоб, в Ярославль возвратясь, братанам Москву показать. Наконец наступили святки. «Комедию на Рождество Христово», сочиненную Дмитрием Ростовским, представляли семинаристы Крутицкой семинарии.
Прокоп Ильич с Федором пришли немного загодя, чтоб получше места занять. Деревянная сцена, как и в лефортовском театре, была разделена на три части спускающимися сверху парусиновыми ширмами. Только вместо жирников коптили рядами сальные свечи – вдоль стен и по краям сцены. Долго усаживались смотрельщики.
Наконец донеслись откуда-то звуки скрипок, и все притихли. Медленно стало подниматься среднее полотнище, и открылась небесная даль с белыми кучевыми облаками. Вышли с двух сторон Земля, в черном до пят плаще, и белое Небо с фанерным облачком в руке и возвестили смотрельщикам о рождении Спасителя. Земля, воздев руки к облакам, воскликнула радостно:
– Сама облаком легким с небеси нисходишь!
Вот тут-то и подивился Федюшка, когда увидел, что облако, на котором сидела Милость божья, и в самом деле начало спускаться. Что же это? Неужто то, что одному Творцу подвластно, подвластно и семинаристам? Не богохульствуют ли бурсаки? Неужли и родителей Иисуса, Марию да Иосифа, осмелятся представлять? Нет, не осмелились: вместо них поставили две большие иконы у яслей, в которых лежал младенец Иисус.
И подушечки нету, одеяльца нету!
Чем бы Тебе нашему согретися свету!.. —
это пастухи поклонялись младенцу.
Историю о рождении Христа Федор помнил хорошо: давно ль отца утешал священным писанием!.. Но ведь когда читал он Библию, даже вообразить себе не мог таких страхов, которые увидел сейчас…
Повелел царь Ирод перебить всех вифлеемских младенцев. Рассыпались воины в разные стороны и тут же, возвратись, стали молча бросать к ногам царя окровавленные головы младенцев, глухо стучали они о деревянный настил. Трепет прошел по рядам смотрельщиков. Взвизгнула баба впереди Федора, закрыла лицо платком. И вот тут-то и ударила во всю сцену огненная молния, и потряс смотрельщиков пушечный удар грома. Умели семинаристы народ пугать.
Сорвались с места слабые духом, бросились к дверям, да любопытство сильнее оказалось. Оглянулись в страхе и увидеть успели, как рухнул убийца Ирод вместе с троном в преисподнюю. Густо запахло серой, и раздался страшный вопль царя:
О-о! Доколи, господи, зде, доколи сидети?!
Доколи адскую тьму, доколи терпети?!
Изведи нас от адской мрачной сей темницы!..
И тогда в клубах серного дыма показался ангел в золотом плаще с мечом в одной руке и с весами в другой – Истина.
В Цербера всегда будет гортани сидети,
Будет огнем серчистым объятый горети!
И увидели все, как среди облаков в золотых лучах ярко загорелась Вифлеемская звезда. Запели скрипки, флейты, ангелы, и ширмы медленно опустились…
Морозное небо искрилось звездами, а Федору все казалось – опустится сейчас на светлом облаке Истина в золотом плаще и возвестит:
– Будет огнем серчистым объятый горети!..
Но над площадью все было спокойно, и только снег поскрипывал под катанками смотрельщиков.
– Что молчишь-то? – спросил Прокоп Ильич. – Не понравилось, что ли?
Федор не знал, что и ответить.
– В Библии-то ведь нет того, Прокоп Ильич…
– Чего нет?
– Не помню я, чтоб головы-то там младенческие об пол стучали.
– Ну, это уж ты лукавишь, Федор Григорьич! – засмеялся учитель. – Повелел ведь Ирод перебить всех младенцев? Повелел! Вот тебе о том зримо и представили. Театр, Федор Григорьич, похлеще книги. Сказано ведь: лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать.
Тут, видно, прав был учитель. Ведь сколько раз читал он о Рождестве, а не брала его история эта за сердце так, как нынче, когда сам свидетелем ее стал. Разве такое забудешь? Нет, не шутовство это, не пустые игрища!.. Видно, и в Костроме «кумедь ломали», и в Ярославле скоморошничали тож не без умысла…
– Федор Григорьич, – сбил его думы учитель. – А ведь итальянцы еще представлять будут по случаю коронации Елизаветы Петровны. Небось поглядел бы на них, а?
– Прокоп Ильич!..
– Ну, ладно, ладно… Билеты я все одно уж купил.
Даже остановился Федор, но вспомнил вдруг, что обещали они Петру Лукичу после кумедии прибыть на Рогожскую. О том и напомнил учителю своему.
– И что? Завтра ж и поедем. Представлять-то будут еще через неделю. А ты уж уговори батюшку с Аннушкой. Когда-то еще итальянцев послушать придется, а я ведь четыре билета достал!
Познав иной, неведомый ему дотоле, загадочный мир, Федор словно в заоблачные выси поднялся. Грешную же землю под собой словно и чувствовать перестал. По ночам ему снились причудливые картины, слышались ангельские голоса, и порой он в испуге просыпался от пушечного удара грома. Тогда он долго неподвижно сидел на постели, не в силах успокоить тревожные удары сердца, вновь переживая и сон, и то, чем он был навеян. А утром, невыспавшийся, словно в продолжающемся сне, он покорно ел все, что ставила перед ним вздыхающая Прасковья, отрешенно слушал в школе своих учителей и считал дни, оставшиеся до представления итальянской оперы.
А накануне представления Прокоп Ильич предупредил:
– Ты вот что, Федор Григорьич, в оперном-то доме меня держись… Я тебе такие колеса покажу!..
– И в опере колеса? – удивился Федор.
– А как же, Федор Григорьич? Какая же опера без колес? А как же облака, светила небесные, ангелы божии?.. Они ж без колес с места не сдвинутся! – И совсем обиделся старый мастер: – Ах, Федор, Федор, сколь ведь учил тебя: колесо – всему голова! И мир без него вовсе захрястнет. Мы, Федор Григорьич, с машинистом Жибелли такое в опере учинили, сама государыня императрица слезьми залилась…
– Государыню-то чем же прельстить можно? – не понял Федор.
– Истиной, Федор Григорьич, истиной! – И добавил просто: – И ложью. Испокон веку так.
И снова, в который уж раз, убедился Федор в коловращении всего сущего мира. И еще понял: ложь, обернувшаяся истиной, – всего лишь порождение ума человеческого. И что ум этот изощрен настолько, что и обольстить себя может, и укрепить в надежде и вере.
Каурые вынесли на знакомый бревенчатый мостик через Яузу, и Петр Лукич приказал Якову остановиться на берегу. Их догнали другие сани, в которых ехали Федор с Прокопом Ильичом, и тоже остановились.
Петр Лукич подошел к крутому берегу, поглядел на ледяную горку. Подошли Федор с Аннушкой. Петр Лукич обнял их за плечи, улыбнулся. Сейчас горка была пуста и сиротлива. И всем стало немного грустно.
– Петр Лукич, – спросил Федор, чтобы только не молчать, – и куда ж Яуза течет?
– Яуза-то? А в Москву-реку, а Москва-река через Оку опять же в матушку нашу Волгу.
«Ишь ты, – приметил для себя Федор, – стало быть, и без Волги на Руси ничего с места сдвинуться не может». И от мысли такой возгордился волгаренок.
– Тронули, – вздохнул Петр Лукич.
Каурые одним махом вынесли на холм, и перед Федором предстало чудо: на широком плацу, против императорского дворца, освещенная тускло-красным светом низкого солнца, высилась огромная сказочная хоромина.
Лошади пошли шагом, и другие сани поравнялись с ними.
– Вот он, Федор Григорьич, и Оперный дом, – протянул руку Прокоп Ильич.
Со стороны Москвы тянулись вереницы саней, резко скрипели полозья, задыхались в хриплом лае собаки, фыркали лошади, ругались возницы, перекликались седоки. И этот, казалось, неумолчный грай перекрыл вдруг резкий сухой треск фейерверков.
Десятки, сотни разноцветных огней взвились в небо, закружились кольцами, заметались над полем. И заржали в испуге лошади, попятились, оседая на круп и выворачивая оглобли. А воздух уже дрожал, трепетал от ослепительно белых, голубых, зеленых огней. Павлиньими хвостами били в небо гигантские фонтаны, рвались в разноцветные клочья шары, огненные стрелы с шипением резали мерцающее зарево.
Умилился душой Федор от чуда такого. А когда потемнело все вокруг и последние искорки, медленно опадая, растаяли в воздухе, он вспомнил, что ведь и государыня императрица к умилению склонна и, стало быть, едина душа человеческая. Это открытие так поразило его и обрадовало, что он не удержался, чтобы не поделиться с Прокопом Ильичом.
– Прокоп Ильич, а, Прокоп Ильич!
– Чего тебе, Федор Григорьич? – не сразу ответил учитель, видно, тоже еще переживал красочное видение.
– Спросить хочу. Вот вы говорили, будто такое с итальянским машинистом учинили, что государыня от умиления слезьми залилась.
– Ну?..
– Стало быть, едина душа человеческая?! Мы-то ведь тоже…
– Окстись, кормилец! – пробасил из своих саней Петр Лукич. – Эва! Мы-ста, я-ста… Доучился, благодетель…
Но Прокоп Ильич, как истинный учитель, не дал погаснуть сверкнувшей искорке познания.
– Слезы дешевы! – сказал он резко и значительно. – Созерцая божественное, недоступное, всяк думает о земном, о коросте грехов своих – и сравнивает несравнимое. Вот тогда и плачет! Не от умиления – либо от обиды, либо от досады, что не может достичь недоступного и обречен довольствоваться грешным, земным.
– Прокоп Ильич! В чем же грешна-то госу…
– Гони! – рявкнул Петр Лукич и так двинул Якова по спине, что чуть не свалил с облучка.
Пришлось учителю с учеником догонять благодетеля.
Прокоп Ильич до начала представления провел Федора за ширмы, и тот с удовольствием отметил, что его учителя здесь многие знают и уважают. У одной из дверей Прокоп Ильич стянул с Федора шапку, сунул ему в руки, потом снял свою, перекрестился и легонько постучал. Услышав ответ, открыл дверь и пропустил вперед своего ученика. Три господина, сидевшие за грубым, сколоченным из некрашеных досок столом, разом повернули головы. Федор поклонился.
– О, Ильич! – Смуглый стройный господин с тонкими черными усиками вышел навстречу и протянул руки. – Ты привел помощника?
– Это Федор, господин Жибелли, о котором я вам поминал.
– Здравствуй, Федор, здравствуй. Хочешь посмотреть наши машины?
– Очень, господин Жибелли.
– Хорошо. Проводи его, Ильич.
– Подожди. – Полный господин с бритым одутловатым лицом, в напудренном парике поманил Федора пальцем. – Подойди сюда, петито механик. – И когда Федор подошел, внимательно посмотрел ему в глаза. – А ко мне в ученики ты не хочешь, механик Федор?
Федор обернулся к Прокопу Ильичу.
– У нас другая школа, Варфоломей Варфоломеевич, – заводского произвождения. – Прокоп Ильич поклонился господину и пояснил Федору с выражением: – Его сиятельство граф Растрелли – обер-архитектор двора.
– Торговля – это хорошо, – согласился Растрелли. – Только ведь дворцы строить намного интереснее. Как ты думаешь, петито механик? Тебе понравился этот Оперный дом?
– Очень, ваше сиятельство! – Федор сразу понял, что строил его Растрелли, и повторил искренне: – Очень понравился…
– Спасибо, – грустно улыбнулся Растрелли. – Когда тебе надоест торговать, приходи ко мне, мне всегда нужны умные ученики.
– А кому они не нужны, граф? – спросил третий господин и рассмеялся.
– Поторопись, Ильич, скоро начало, – напомнил Жибелли, и Прокоп Ильич с Федором раскланялись.
– Это большие господа, Федор Григорьич, – сказал за дверью Прокоп Ильич.
– А кто ж третий-то был?
– О, это великий художник Бона. Его декорации и плафоны ты еще увидишь – сказка!
– А что, Прокоп Ильич, его сиятельство и в самом деле в ученики может взять?
– Шутит его сиятельство, – учитель покосился на Федора и хмыкнул. – Давай-ка лучше руку – не ровен час, голову сломишь.
И он повел его через длинные узкие коридорчики, заваленные кусками крашеной фанеры, цепями, канатами, кусками ткани, бочонками с краской и мелом. Редкие коптящие жирники разгоняли тьму лишь настолько, чтобы не дать заблудиться знающему человеку. Наконец впереди чуть посветлело, и Федюшка почувствовал густой запах деревянного масла. Вскинул он голову – и обомлел: вдоль огромной – верха не видать – стены на мощных брусьях-стояках и перекладинах места не было от колес зубчатых и палечных, лобовых и жалóбчатых, от блоков, рычагов и воротов, спутанных веревками, канатами и цепями так, что, казалось, не найти тут ни начала, ни конца.
Прокоп Ильич скрестил руки на груди и скосил на Федора сияющие глаза. А тому и сказать нечего: и не думал он раньше, как же это ангелы с облаков спускаются и боги с земли на небо возносятся. Так его действо заколдовывало, так верил он в его истинность, что, казалось, иначе и быть не может!
– Вот оно, значит, как… – только и сказал и, задумав что-то, еще раз кинул быстрый взгляд на хитрую механику. – Срисовать бы все это, а, Прокоп Ильич?..
– И ни-ни! – испугался учитель. – Жибелли даже генералов пускать сюда не велит. Такой уж у него с устроителями уговор. Тайна сия велика есть! – Он оглянулся, поманил Федора пальцем и шепнул на ухо: – Дома ужо… – И громко добавил: – Сейчас я тебя к благодетелю нашему отведу, а ты оперу-то хорошенько гляди.
С высоты последнего, третьего яруса – для почтенных лиц города и знатного купечества – Федор осмотрел театр. Внизу, в партере, разместились благородные смотрельщики. Второй ярус, в ложах голубого бархата, предназначался для государыни и ее двора. Все остальные барьеры и скамьи были обиты красным сукном с желтой тесьмой.
Поднял глаза Федор и подивился: потолок украшали огромные лепные плафоны невиданной кружевной работы. А когда с легким шуршаньем медленно раздвинулся алый занавес, взору его представилась сказочная картина.
Среди густолистой дубравы высилась темная громада дворца, обвитого плющом, у подножия которого застыли беломраморные девы. И медленно, чуть заметно глазу, плыли в голубом небе легкие облака. А в глубине сцены с треском взлетали красные струи фейерверка, образуя игрой своей огненный вензель императрицы. А облака все плыли и плыли в чистой голубой дали. И так все это было натурально, что Федор и в самом деле подумал: так и быть должно.
Вышел ахтер в белом плаще и стал читать нараспев стихи о России скорбящей и утешенной; о том, как чуть не погубили Россию злые вороги: налетели они на русскую землю, да тут матушка императрица, взошедши на престол, и укротила их прыть, и стала Россия «по печали паки обрадованная». А добродетельная государыня не только не наказала врагов своих, но одарила их своей милостью, соразмерной Титову милосердию. Тут и догадался Федор, отчего опера так называется: «Титово милосердие».
Неуютно стало, когда в итальянском пении Титуса и Сервилии не понял почти ни слова и только смутно мог догадываться, что тревожит их и что радует.
А когда театр заполнили нежные голоса певчих русской капеллы, певших на итальянском языке, галерея не выдержала и ударила в ладоши.
Не мог знать тогда Федор, что записал себе в ту пору придворный поэт Елизаветы Петровны, устроитель того коронационного спектакля, немец Якоб Штелин: «После этого выступления… церковные певцы использовались во всех операх, где встречались хоры, а также в большие придворные праздники… Многие из них настолько овладели изящным вкусом к итальянской музыке, что в исполнении арий мало в чем уступали лучшим итальянским певцам».
Поскромничал придворный поэт, отсылая русских певцов на выучку к итальянцам, ибо они, певцы эти, отсутствием собственного «изящного вкуса» не страдали и в ту пору.
Вот что напишет несколько позже его, Штелина, соотечественник – историк Август Шлецер о хоре певчих: «В один небольшой праздник пришел я в придворную церковь к обедне, с намерением послушать славной русской музыки,т. е. музыки вокальной… В высокие же праздники они полным хором поют… духовные концерты… Сии концерты, в которых огненная итальянская мелодия соединяется с нежною Греческою, превосходят всякое описание. С нежными, чистыми голосами (и ни одной девушки, ни одного кастрата!) мешаются самые густые: налои дрожат от пения басистов. Мое изумление тут не имеет никакой значительности; но многие чужестранные послы, слышавшие музыку в Италии, Франции и Англии, тоже изумлялись, и сам Галуппий, слушая в первый раз полный церковный концерт в России, воскликнул: «Такого великолепного хора я никогда не слышал в Италии!»
И не случайно русский хор включался в итальянские оперы лишь «в особо торжественных случаях»!
Пришло с оказией письмо от Федора Васильевича Подушкина, писанное Алешкой. Умер сводный брат его младенец Игнатий, в Костроме же приказал долго жить любимый дед Харитон. Жаловался отчим, что совсем стар стал, семь десятков скоро, и тяжко уж ему заводишки свои тянуть. А не ровен час – все под богом ходим! – на кого ж хозяйство свое оставить? Чай, не Кирпичеву – лени перекатной! Хоть Матрена и дочь родная, писал отчим, да бог ей судья: баба она баба и есть – глупая то есть. И желает он, Полушкин, принять в компаньоны пасынков своих. А для того просил Федор Васильевич приехать Федора Григорьевича, «дабы доношение в Берг-коллегию учинить».
– Ну что, Федор Григорьич, собираться надо? – вертел в пальцах письмо Петр Лукич. – Когда поедешь-то?
– Чего ж тянуть?.. Завтра соберусь, а там поутру можно и в путь.
– И то дело, – одобрил Петр Лукич. – Бери Якова – и с богом.
За четыре года Ярославль нисколько не изменился. Лишь кое-где по два-три подряд стояли новые дома – горели, видно, как всегда, бедолаги-обыватели. У храма Ильи Пророка свернули за угол, и сердце у Федора заколотилось.
Яков остановил каурых у ворот и пошел открывать. Федор обогнал его и в один миг оказался на крыльце. Вбежал в горницу.
Матрена Яковлевна вязала у печи. Ивашка с Гришаткой, обложившись красками и бумагой, малевали что-то, расположившись на полу.
– Здравствуй, матушка! – Федор бросился к матери, упал перед ней на колени и, выбив вязанье, уткнулся лицом в пухлые теплые руки, пахнущие свежей пряжей и домашним уютом.
Братаны взвизгнули, насели на Федора сверху, повалили на пол.
– Мать!.. А, мать! – донесся из соседней комнаты слабый хриплый голос. – Кто там?..
Федор поднялся, поставил братанов на ноги, погрозил им пальцем и вошел к Федору Васильевичу.
Лежал Полушкин под толстым стеганым одеялом, выпростав из-под него тонкие бледные руки.
– Здравствуй, батюшка! Здравствуй, родненький! – Федор опустился перед ним и поцеловал дрожащую сухую руку. А когда поднял голову, увидел мокрое от слез, изборожденное лицо отчима и дрожащие губы его. – Ну что ты, родненький, что ты… Все, слава богу, хорошо. Хорошо ведь все…
– Плох я совсем стал, Федя… Видно, помру скоро.
– И-и, батюшка, как говорил учитель, у одного бога аршин, он им и мерит…
– Говорил, а сам вот приказал долго жить, – вздохнул Федор Васильевич. – Насовсем, что ли, Федя? Спасибо, что приехал…
– О деле потом, батюшка. Там тебе Петр Лукич московских гостинцев прислал. Сюда, что ль, внести?
– Что ты! Что ты… – Федор Васильевич стал подниматься. – Да за-ради такого случая… Это уж я так, – добавил он шепотом и подмигнул, – лень свою тешу, брат. Алешка с Гаврюшкой, должно, скоро явятся – на заводе они. Помогни-ка мне… Вот и молодца!
Видно было, рад Федор Васильевич приезду старшого: опять все в сборе! А пока гнездо не порушено, не все еще кончено и жить можно дальше!
Пока стол накрывали, явились и Алешка с Гаврюшкой. Всей семьей и сели, как бывало, родителям на радость.
– Как там Петр Лукич-то? Гер Миллер как? – Очень уж не терпелось Федору Васильевичу услышать о делах заводских и о той науке, которую постигал пасынок его и будущий компаньон.
Подивил Федор домашних рассказами о морозовской фабрике: и про великое множество работников, и про цеха – ткацкий, прядильный да красильный, и про механику и станки, кои и он, Федор, уже постигать научился. А когда про краски стал говорить и добрым словом помянул учителя своего, Федор Васильевич вскинул голову и гордо посмотрел на Матрену Яковлевну.