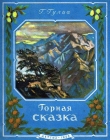Текст книги "Федор Волков"
Автор книги: Константин Евграфов
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 20 страниц)
– Вишь, мать, какие учителя-то у Федора Григорьича! Гер Миллер, он, право слово, из-под земли счастье добудет! И этот, механик-то, Прокоп Ильич, тоже ведь не зряшному учит, – верно, машина всему голова, особливо нынче… Ты, мать, чтоб не забыть ненароком, погляди там что из рухлядишки-то, пущай Федор отвезет им за-ради нашего родительского уважения. Молодца, Федор Григорьич! – одобрил отчим. – Ну, что ж, отдохни, пожалуй, хозяйство наше, не торопясь, погляди. Ну а там, с богом, и дела порешим. Благодарствую, мать, чаевничайте уж тут без меня, а я пойду – лень свою тешить…
– Чего вставал-то, – упрекнула его Матрена Яковлевна и, осторожно поддерживая под локоть, увела.
И как только закрылась за ними дверь, братаны сгрудились вокруг старшого, но Федор поднес палец к губам и приунял немного.
– Что ж это такое? Батюшка хворый лежит, а вы уж будто на масленице разгулялись.
– Не будем больше, братка, – пообещал младшенький, Гришатка, и тут же схватил его за рукав. – А то пойдем к нам, оттуда ничего не слыхать! И орехи с собой возьмем, а?
До поздней ночи рассказывал Федор братанам о чудесах московских: о звоне курантов на кремлевской башне и о храме Василия Блаженного, о Тамерлане и о рождестве Христовом. Но более всего поразил он их оперой. Вновь и вновь переспрашивали его, как это облака в доме ходят и ангелы возносятся. Качали братаны головами, а вообразить себе это так и не могли. И уж засыпая, в который раз Гришатка попросил:
– Расскажи-ка, Федюшка, как ты с матушкой государыней в театре рядышком-то сидел…
– Тьфу тебя! Да не сидел, говорят! Ложа ее недалеко была, а сама-то она тогда и не удостоила нас.
– Все одно расскажи, – уже сквозь сон попросил Гришатка и засопел сладко.
День только провел Федор дома, а там, по совету отчима, поехал с Алешкой да Гаврюшкой по полушкинским заводам производство смотреть.
И здесь ничего не изменилось. По-прежнему бурлила в котлах грязно-желтая жижа, и в сером смраде бледными тенями маячили фигуры работников.
Проверил Федор все книги заводские и доволен остался – дельно вели братаны учет и сырью и товару. Сразу приметил – немалый доход приносят Полушкину и сера и купорос. Однако ж в компаньоны к нему вступать, видно, вкладывать средства нужно. Вчера не спросил отчима, неловко было сразу-то… А есть ли у матушки деньги и сколь их надо? О том и спросил Алешку.
– Самому-то батюшке, видно, уж ничего и не надо, – ответил Алешка. – Однако для размножения дела, посчитал он, ныне денег потребно вложить полторы тысячи. Да ведь он и просит-то взаймы под заклад своего двора. Матушка согласна. Да и то, нам все по наследству-то останется.
Федор вместе с отчимом доношение Берг-коллегии написал: «А ныне вместо оного товарыща своего Мякушкина для лутчаго заводского произведения и государственной прибыли принимаю я себе в товарыщи пасынков своих бывшаго костромского купца Григорья Волкова детей, – Федора, Алексея, Гаврила, Ивана, Григорья…» А за неграмотностью «к сему доношению ярославский купец Федор Григорьев вместо отца своего серных заводов содержателя Федора Васильева, сына Полушкина по ево велению руку приложил». А как подписал, так и дел больше не стало.
И пришла широкая масленица. Заполонила она древний город разудалыми песнями и воплями, звоном бубенцов.
Выплеснула на улицы и площади, в переулки и закутки, к кабакам и качелям бравая хмельная солдатня, словно вражескому разграблению был отдан город на все дни масленицы.
Квартировали в ту пору в Ярославле пехота и конница Вятского драгунского полка да Суздальский полк под командованием подполковника фон-Гельвиха. И так зверствовало это воинство, что «ярославское купечество от страха и угражениев не токмо промыслов производить, но и из домов своих отлучаться не дерзает». Жаловался магистрат и на солдат и на их командиров «его высокографскому сиятельству, графу Петру Ивановичу Шувалову, но сатисфакции не получил».
Так сообщает нам местный летописец и объясняет сей феномен.
Когда 25 ноября 1741 года на престол вступила Елизавета Петровна, все унтер-офицеры, капралы и рядовые Преображенской роты гренадерского полка, участники дворцового переворота, были вписаны в герольдии в дворянскую книгу, а сама рота переименована в «Лейб-компанию». Лейб-компанцы получили в свое владение почти весь Пошехонский уезд Ярославской провинции.
Глядя, как зверствуют над своими бывшими товарищами, а ныне крепостными лейб-компанцы, расквартированные в Ярославле солдаты не захотели уступать им ни в чем. И если у них не было своих крепостных, то всегда были под рукой купцы и посадские люди, коих и подвергали они жестокому истязанию.
Куда уж более, когда эти отечественные войска взяли штурмом и порушили дом управителя самого всесильного митрополита Арсения Мацеевича – Ивана Горяцкого! Чему ж удивляться, коли такие частые рапорты сотских были не в новинку: «Солдат имевшуюся при кабаке на качели незнаемую жонку ударил по роже, от которого удара оная жонка пала замертво».
И уж когда терпение ярославцев истощалось вконец, шли они в ярости стенка на стенку – на своих же сынов Отечества.
Братаны Волковы судьбу испытывать не стали. Дома сидели. В один из длинных вечеров и позвал Федор Васильевич к себе в комнату Федора посумерничать. Опять старый про морозовскую фабрику расспрашивал, про пустые земли, что вокруг лежат, и Федор вдруг понял, что говорит его батюшка словами Петра Лукича. Стало быть, задумали что-то старые приятели. И чтоб не крутить вокруг да около, Федор прямо спросил:
– А что, батюшка, не предлагал ли Петр-то Лукич капиталы наши объединить?
Федор Васильевич не стал лукавить.
– Предлагал, Федор Григорьич, чего уж тут… А ты сам посуди, один ведь он, аки перст. И заботы у него не столь о фабрике, сколь о дочке единственной. Хозяин нужен… Любит он тебя, Петр-то Лукич… А нам уж с ним хоть и в богадельню, – засопел Федор Васильевич и дрожащими пальцами бородку стал теребить.
Хоть и помогал Федор отчиму в заводском произвождении с усердием, однако будущим хозяином пока себя и вообразить не мог. Да и само это будущее не было для него очерчено еще так ясно и четко, как в воображении Федора Васильевича или Петра Лукича, у которых сомнений в будущем Федюшки даже быть не могло. Однако ж разговор о соединении капиталов всегда словно натыкался на невидимую стену: чего-то недоговаривали старые, и виною тому, как понимал Федор, были не сами капиталы. Теперь батюшка договорил, и все стало просто.
– Батюшка, родненький, я ведь люблю Аннушку как сестренку. Да и какой из меня хозяин, ежели я весь еще в соблазнах!
– То отроческое – пройдет! В твои годы это бывает. А главного нашего пути нам не избегнуть: к чему призваны, то исполнить надлежит.
Федор знал, к чему он призван был. А что исполнить ему с братьями надлежало, о том Полушкин написал его рукою в том же доношении: «Они со мною в товарищество вступить желают и тот завод производить обще хотят…»
– Я ведь тебя не тороплю, Федор Григорьич, и не принуждаю – тебе жить. – Рад был Федор Васильевич, что без утайки разговор получился. – Знаю, после моей смерти будет кому за хозяйствам доглядеть. Тем и доволен… А все ж Петру Лукичу угождай, мало ли?..
Засмеялся Федор над батюшкиным простодушием, да тот и не обиделся – подмигнул хитро: невелика, мол, житейская мудрость, а не повредит!
Не дождался Федор конца праздника, стал прощаться с домашними.
– Когда же теперь, Феденька, снова-то свидимся? – всплакнула Матрена Яковлевна.
– Да, чай, уж поди скоро, мать, – успокоил ее Федор Васильевич. – Не век же в науках маяться.
– Кланяйся там, Федор Григорьич, Петру Лукичу да геру Миллеру… Аннушке тож кланяйся. Теперь тебе жить да дела свои множить. А я уж не советчик – помирать пора. С богом, Федя.
Вынесли каурые за ворота, и не успел Федор опомниться, как оказались уже за городской заставой. Улыбнулся Федор и, глядя на простор необъятный, крикнул:
– Эй, Яков! Песню, что ли, сыграть, а?
Яков обернулся, подмигнул озорно – и будто только этого и ждал:
Девушка молоденька-а семна-адцати ле-ет
Любила моло-одчика до два-адцати ле-ет…
Федор набрал полную грудь морозного воздуха и подхватил:
Обещался ми-иленький до веку люби-ить,
Пришло расстава-анье – не мил мать-оте-ец…
Слева, из-за недалекого окоема, поднималось огромнее красное солнце – начинался новый день.
Карл Петер Ульрих, сын герцога Голштейн-Готторпского, племянник императрицы Елизаветы Петровны, ставший после крещения в православие Петром Федоровичем, сочетался браком со своей троюродной сестрой Софьей-Фредерикой-Августой, принцессой Анхальт-Цербстской, получившей по желанию императрицы в честь своей матери имя Екатерины Алексеевны.
Наследник карликового герцогства Голштинского и королевства Шведского Карл Петер Ульрих был и наследником русского императорского престола, поскольку мать его была дочерью императора Петра I. Но о последнем голштинец помышлял меньше всего, понимал: пока на российском престоле Анна Иоанновна, племянница Петра, внуку Петра в России делать нечего. Но пути господни неисповедимы. Как только на русский престол взошла Елизавета, дочь Петра, она сразу же призвала к себе голштинского племянника и объявила великого князя наследником. Но чтоб не прерывалась линия Петрова, наследнику нужно было выбрать супругу. И выбор Елизаветы Петровны пал на принцессу Анхальт-Цербстскую, отец которой служил комендантом захудалого Штеттина на задворках Европы.
И вот великолепие свадебного праздника охватывает обе столицы империи и продолжается чуть ли не две недели. Тысячи и тысячи людей из разных городов и весей наводняют Санкт-Петербург и Москву, чтобы под перезвон колоколов и пушечные громы обомлеть, глядя на знатную огненную потеху.
Этакую невидаль пропустить! Петр Лукич велел Якову закладывать лошадей и проводил Федора с Аннушкой в Москву одних, даже без своего родительского присмотра.
– Мне недосуг огнями-то цветными забавляться, – объяснил Петр Лукич. – А вы, чай, уже не маленькие – не заблудитесь с Яковом. А и то, люди говорят, будто наследник-то – одногодок твой, Федор Григорьич, семнадцать, мол, годков сравнялось. А уж и бракосочетание!.. – Петр Лукич растопыренными пальцами неторопливо расчесывал каурому гриву. – Так что, думаю, пристала пора без нянек обходиться. Трогай, Яков!
Ворчлив стал Петр Лукич. Да и как не ворчать! Дочь – невеста, и жених – вот он, чего ж и желать-то лучше, а все как в дымке. Федор молчит, как воды в рот набрал, будто так и надо. А и то подумать, неловко уже получается. И мается Петр Лукич, и ничего не может поделать с собой.
Понимает все Федор, и его самого начинает уже тяготить ставшее неловким и двусмысленным положение.
Выехали в поле, и Федор попросил Якова пустить коней шагом.
– И то, – согласился Яков. – К фирверкам-то все одно поспеем.
Жаркое июльское солнце стояло в самом зените. Раскаленный воздух над полем дрожал и ходил зыбкими волнами.
– А что, Аннушка, не пройтись ли нам пеши? – Федор спрыгнул на дорогу и помог сойти Аннушке. – Яков, за мостом-то остановись, у речки хоть посидим. Дышать нечем.
– Давай, Федор Григорьич, – обрадовался Яков. – А я в те поры коней напою.
Аннушка отошла в поле и сразу же позвала:
– Федор Григорьич! Идите-ка сюда, земляники-то сколько-о!..
Федор подошел и присел рядом на корточки. Аннушка набрала горсть земляники.
– Откройте рот…
– Открыл… А глаза закрыл.
Аннушка прижала ладонь к его губам, и рот Федора наполнился сладкими пахучими ягодами. Но прежде он уловил нежный запах жасмина от ладони Аннушки. И как-то так уж случилось, что против своей воли ладони Федора прижали эту маленькую ладошку Аннушки к губам, и он поцеловал ее. Аннушка испуганно отдернула руку, встала и пошла к дороге. Федор смутился и не знал, что делать. И надо ж такому случиться…
– Аннушка! – догнал ее Федор. – Ты прости меня, сестренка. Я ведь не хотел обидеть.
Аннушка повернулась к Федору, посмотрела в глаза долгим взглядом больших карих глаз, которые начали полниться слезами.
– Ну, что ты, братец… – Она повернулась и пошла к Яузе.
Федор хотел догнать ее, объяснить… А что объяснять-то? Этого Федор и сам не знал.
Отпустил Федор Якова с Аннушкой в Зарядье, а сам пошел пешком размяться. Пройдя мимо Спасского моста, который соединял Спасские ворота с Красной площадью, вышел на площадь Васильевскую.
У подножия храма Василия Блаженного нищие, побирушки, странники, калеки да юродивые выставляли напоказ гниющие язвы, слезящиеся глаза и бельмы, обрубки языков, пели и жалобились на разные голоса. И среди этой многоголосицы отличил Федор чистый переливчатый гусельный звон и услышал такой знакомый голос, что даже глаза закрыл – не показалось ли? Он бросился к северной стороне храма, пробрался сквозь толпу зевак и ахнул – Жегала! Сидел слепой бурлак прямо на брусчатке, подогнув под себя по-татарски ноги и пристроив на коленях гусли. А рядом стоял мальчик-поводырь в новеньких лапоточках, льняных штанах и льняной же домотканой рубахе, подпоясанной черным шелковым шнурком.
Сразу же приметил Федор, что Жегала подобрел лицом и сидел в своей шелковой малиновой косоворотке прямо и степенно.
Что повыше было города Царицына,
Что пониже было города Саратова, —
привычно вывел Жегала, и мальчик высоким тонким голоском подхватил:
Протекала, пролегала мать Камышинка-река.
За собой она вела круты красны берега…
Звенели-переливались под быстрыми пальцами Жегалы серебряные струны, и молча слушала толпа слова старой песни. И когда Жегала умолк, побросали обыватели поводырю в картуз, кто сколько мог, и разошлись.
Жегала завернул свои гусельки в чистую холстину, положил жилистую руку на плечо поводырю.
– Айда в Зарядье!
Хотел уж было Федор остановить Жегалу, поговорить с ним, да, услышав это родное волжское «айда», вздохнул только: что ж душу-то опять травить! Да и вспомнит ли еще Жегала маленького внука Харитона Волка, до того ль ему тогда было…
И все ж от нечаянной встречи этой легко стало на сердце у Федора: молодец, сдержал свое слово Жегала!
Федор и Аннушка решили посмотреть, что немцы представлять будут. Пришли на Новую Басманную, потолкались средь бывалых смотрельщиков, узнали – представлять будут историю о Петухе-грешнике и Лисице-праведнице, забавную историю о прегрешении, покаянии и спасении души.
Народу набилось предостаточно. И то сказать – праздник! Много пришло фабричных, видно, из ближних мануфактур. Но немало было и купцов, и приказных, и жонок, даже несколько армейских унтеров сбилось у ложи в кучку.
Федор не заметил, как и спектакль начался. Забегали меж рядов Арлекин с Коломбиной. Потом появился ревнивец Панталон, и началась такая потасовка, что бедному Арлекину, как заметил Федор, досталось и немало тумаков от смотрельщиков. Вырвались наконец Коломбина с Арлекином из рук Панталона, вспрыгнули на сцену и скрылись за холстиной. Смотрельщики были довольны. Длинный Панталон поднял руку, успокоил:
– Не надо, господа, сльишком судить Арлекин и Коломбьина: не согрешьишь – не покаешься, не покаешься – не спасьешься! Они будут покаяться и спасаться, как наш Пьетух!
Панталон прошел со сцены к первому ряду и сел рядом с Федором, потеснив смотрельщиков.
И тут все увидели Лисицу в монашеской сутане, важно восседающую за судейским столом. Против нее, сжавшись от страха, сидел Петух с упавшим набок бледно-розовым гребнем.
– Ты, Пьетух, есть большой грьешник! – выговаривала Лисица. – Ты не уважаль свьятой писаний. Сколько у тьебя есть супруга?
– Ньесколько-ко-ко… – опустил голову Петух.
– Вот вьидишь! Ты нарушаль божий заповьедь. Тебье надо сделать покаяний, и ты будьешь спасаться.
Но Петух, видно, уже понял, что душу ему все равно не спасти, как и тело, и пустился в богословский спор, и так и эдак перевирая святое писание.
Как ни лукавил Петух, как ни мудрил пред многоопытной духовницей своей, наступила пора «очищения грехов»: Лисица бросилась на него – и только перья полетели! Так и скрылись они за холстиной.
Панталон нагнулся к Федору.
– Вам нравится? Это отшень древний притча!
И Федор из озорства, смеясь, ответил по-немецки:
– Очень нравится, господин Панталон!
Панталон откинулся, с удивлением посмотрел на Федора и хлопнул его по плечу.
– Приходи к нам еще, будем товарищами, – это он сказал уже по-немецки.
Тут в полную силу заиграл маленький оркестр, выскочили на сцену Арлекин с Коломбиной, прыгнул к ним Панталон, и начали они лихо отплясывать.
Вскоре после отъезда Федора из Ярославля прислал ему отчим копию доношения в Государственный Главный магистрат, в коем писал, что «понеже де он, Полушкин, по воле божии пришел ныне в совершенную старость, а наипаче стал быть в здоровье своем весьма слаб, к тому ж де имеющийся у него один законный ево наследник, сын родной, волею божией умре», то желает он, чтоб пасынки его, Федор, Алексей и Гаврила, «причислены были к ярославскому гражданству».
Определение Главного магистрата, сообщал отчим, состоялось.
Судьба ярославского купца Федора Григорьевича Волкова-Полушкина была определена. Чего же и желать-то еще! Оставалось лишь радеть о произвождении заводов своих и приумножать капитал. Однако вот тут-то и охватило Федора великое сомнение, как только понял он, что отныне путь его к приумножению этого самого капитала будет проходить через шурфы да отвалы серного колчедана. Можно, конечно, полушкинские капиталы с морозовскими объединить – и снова приумножать их. Это как камни в воду бросать: расходятся круги по воде все дальше и дальше, пока не затухнут. А как затухнут, снова камень бросать надо. А нужно ли и ради чего – камни-то бросать?.. Вот в этом-то Федор и засомневался сильно.
По случаю двадцатилетия Федора решил Петр Лукич устроить маленький вечер. Иоганна Миллера да Прокопа Ильича пригласил.
Гер Миллер торжественно преподнес Федору «Химика-скептика» Роберта Бойля на немецком языке. И Федор оценил подарок: это была одна из любимых книг учителя. Прокоп же Ильич, хитро подмигнув Федору, сунул ему свой подарок под мышку. Федор на миг только открыл обложку, сразу понял: альбом зубчатых передач, самим учителем сделанный и переплетенный. И еще понял: подарки сделаны со значением – будущему большому заводчику!
Сели за стол – уж Прасковья-кормилица постаралась! – и, не тратя времени, Петр Лукич поднял чашу.
– Ну, что ж, други вы мои, выпьем за здоровье купца Федора Григорьевича сына Волкова и пожелаем ему многая лета!
Выпили сладкой настоечки, закусили, налили еще по одной. Очень уж вкусной была настоечка, не выдержал Федор и вторую пригубил. И закружилась комната вместе со столом и гостями. Но тут Прасковьюшка подоспела, заставила кружку ядреного квасу с клюквой испить, и все стало на место.
Ах, и добрый же народ собрался, и как всем благодарен был Федор! Прокоп Ильич все нахваливал ученика своего. Гер Миллер, строго сдвинув брови, внимательно прислушивался и изредка солидно кивал головой – соглашалея. А Федор слышал только: бу-бу-бу и звонкий смех Аннушки.
Ах, какие же милые люди! И ему захотелось сделать для них что-нибудь приятное.
– А не сыграть ли нам песню?
– Отчего же, – поддержал Петр Лукич, – можно и сыграть. Заводи!
Федор вспомнил, как часто играла ему одну песню матушка – уже в Ярославле. Не забыл ли?.. Да нет, вот она!
Прошло лето, прошла осень,
Прошла красная весна,
Наступает время скучно —
Расхолодная зима.
И Петр Лукич, и Прокоп Ильич, и даже Прасковьюшка подхватили, не сговариваясь:
Все речушки призастыли,
Ручеечки не текут,
В поле травоньки завяли,
Алы цветы не цветут,
Зелены луга посохли,
Вольны пташки не поют.
Ты, расейска вольна пташка,
Воспремилый соловей!
Ты везде можешь летати —
Высоко и далеко,
Сколь высоко, сколь далеко —
В славный город Ярослав…
Задрожал голос у Прасковьюшки, слезой его прошибло да так, что даже гер Миллер дернулся.
Разыщи мне там милого
Не в трактире, кабаке,
Сядь пониже, сядь поближе,
Дружку жалобно воспой.
Ты воспой, воспой милому
Про несчастье про мое,
Про такое ли несчастье:
Меня замуж отдают
Не за милого за друга —
За старого старика,
За старого, за седого,
За седую бороду,
За большую голову.
Кончилась песня. И будто метался еще из угла в угол в наступившей тишине затихающий баритон Федора.
– Тебе не в купцы надо, Федор Григорьич, – сказал задумчиво гер Миллер. – Тебе в итальянской опере петь…
– Ну, герр Миллер, уважил! Благородного купца да в актеры! – Петр Лукич даже расхохотался от души.
Прослушал подвыпивший Прокоп Ильич, о чем разговор идет, да и брякнул:
– Согласен, батюшка Петр Лукич, актеры самый благородный народ. Уж я их знаю, бедолаг! Они даже собаке кусок хлеба должны…
Петр Лукич засопел было, да опять же Прасковьюшка тут как тут.
– Что ж, гости дорогие, не угощаетесь-то? Иль прокисло все, заковрюжилось? Хозяин-батюшка, поднес бы гостям-то.
Засиделись допоздна. А когда проводили гостей, захватил Петр Лукич со стола жбан с ядреным квасом и вслед за Федором пошел.
– Посидим у тебя малость, кваску попьем, от настойки-то отмякнем. – Он тяжело опустился на лавку, глубоко вздохнул. – Вот как время-то бежит, Федор Григорьич, а? Давно ли?.. А уж во-он какой! И Аннушка уже невеста… А мы с Федором Васильевичем совсем уж состарились. Пора, видно, и о душе думать… Ты-то что загадал дальше, Федор?
И не знал Федор, что и ответить.
– Ах, Петр Лукич, сколь я благодарен вам за все, что и сказать – слов мало! А все что-то неспокойно… И сам не знаю, чего еще-то хочу…
– Чего ж тут знать-то, Федор Григорьич! – всплеснул руками Петр Лукич. – В твои-то годы мы с Федором Васильевичем укрухи еще сбирали. А у тебя? Чего тебе еще-то надо? Все есть! Бери, владей! А уж нам с твоим батюшкой, видно, только с внуками вашими забавляться осталось. Что, Федор?.. – А засмеялся Петр Лукич, будто милости запросил.
И смех этот больно сжал сердце Федора.
– Ино доживем до лета, батюшка Петр Лукич, а там видно будет.
– И то, Федя, давай доживем…
Не дожил Федор у благодетеля своего до лета. Не успела в рощице зазеленеть березка, примчал из Ярославля Антип: Федор Васильевич Полушкин приказал долго жить…