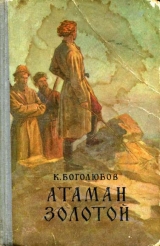
Текст книги "Атаман Золотой"
Автор книги: Константин Боголюбов
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 10 страниц)
С утра до вечера слышался стук молотков.
– Сроду не думал, что чеботарем стану, – говорил Никифор.
– Полюби дело, и оно тебя полюбит, – подбадривал Андрей.
– Ты вроде деда Мирона: нас на путь наставляешь, а сам поди не чаешь, как весны дождаться.
И все трое расхохотались.
Между тем слух о новоселах на Давыдовом починке дошел до ушей начальства. На масленице со старшим сыном Давыда приехал незнакомый человек. Был он маленького роста, собой щуплый, с хитрыми глазками и сморщенным, как пустой кошелек, лицом.
– С праздником, с широкой масленицей! Вон вы куда забрались! Верно, чтобы от очей начальства подальше быть? Ась?
Давыд несколько смутился.
– Это уж как вашей милости угодно.
Он посадил гостя за стол и поставил перед ним тарелку с блинами.
– А кто у вас в другой половине жительствует? – полюбопытствовал приезжий.
– Знакомцы деревенские, земляки.
– Что же ты их не пригласишь к столу?
– Чего их приглашать: не чужие, сами придут. А вы, господин, чьи сами-то будете?
– Красноуфимский я. По письменной части маюсь.
Глаза «красноуфимского» воровато шарили по избе.
– Нехудо живете, худо, что в тайности себя содержите.
Поев, он оделся и будто по ошибке зашел на другую половину. По случаю праздника друзья играли в карты.
– Мир честной компании! – сладким голосом заговорил приезжий. – Дозвольте присесть?
– Садитесь, – ответил Андрей. – Какое у вас к нам дело?
– Дела, можно сказать, никакого… Просто заехал познакомиться… Узнать хотелось, кто в такой глухомани поселился.
Андрей нахмурился.
– На что же это понадобилось?
– Да больше из любопытства.
Мясников внимательно разглядывал неожиданного посетителя. Тот невольно съежился под его немигающим тяжелым взглядом.
– Что ты, мил-человек, так смотришь на меня? Или признаешь знакомого?
– Признаю, – глухо сказал Мясников.
Гость принужденно засмеялся.
– Истинно сказано: гора с горой не сходится, а человек с человеком сойдется… Уж вы меня простите. Я поеду.
– Скатертью дорожка, – буркнул Никифор.
Приезжий откланялся, следом за ним вышел и Мясников.
Вскоре есаул вернулся и спокойно сказал:
– Помогите-ка мне, ребята, зарыть эту падаль.
– Убил?
– А как вы думали? Он нас вынюхивал. За тем и ехал в такую глушь. Он мне уж попадался раз, да я, дурак, отпустил его в ту пору… Старый ярыжка!
Через несколько дней поздно вечером раздался стук в ворота. Андрей вышел отворить, думая, что это один из давыдовичей. Перед ним стоял среднего роста худощавый пожилой человек.
– Пусти переночевать, – попросил он, – да скажи, коня куда завести.
– Ступай в избу, а коня заведи под навес.
Незнакомец сильно прихрамывал.
Андрей провел его в свою половину, где по стенам рядом с хомутами, седлами, уздечками висели лосиные рога, волчья шкура и несколько соболиных шкурок.
Мясников и Никифор храпели на полатях.
Проезжий окинул жилье острым взглядом, снял овчинный полушубок и остался в поношенном военном мундире.
– Верно, пришлось и на войне побывать? – спросил Андрей.
– Пришлось всякого отведать: и худа и лиха, – молвил хромой. – Завоевали бы всю Пруссию, кабы не господа-енералы. Много было меж них с немецким духом и ретираду чинили, где наступать следовало.
– Что ж ты сам ушел из армии или по ранению?
– В инвалиды меня поверстали, вот и попал на родину. Слыхал, может, село Богородское?
– Нет, не слыхал.
– Когда-то богато жили мужики, покуда не добрались до них царские чиновники да помещичьи бурмистры. Сам-то я по литейному делу мастеровал, а теперь вот медком да воском торгую. Езжу к знакомым пасечникам. Вот и к Давыду заехал.
«А ведь это я его в Осе встречал», – вспомнил Андрей, при свете лучины разглядывая незнакомца. Что-то необычное чуялось ему в этом ночном посещении.
Он угостил заезжего ужином.
Сухощавое с реденькой седой бородой лицо его дышало умом и энергией.
– Слыхал ты, – спросил он с лукавым видом, – притчу про четырех братьев?
– Нет, не слыхал.
– Ну, так послушай: умственная притча. Жили в лесу четыре брата. Долго жили и стосковались по людям, стали советоваться, как поглядеть белый свет, разведать, какой правдой люди богаты. И решили они идти на все четыре стороны, каждый в свою: кто на восход, кто на полдень, кто на закат. Первый брат дошел до монастыря. Монастырь на горе, а под горой ключик. Видит: монах ключевую воду льет в кувшин. Налил и пошел в монастырь, первый брат за ним. Встал монах на паперти и ну продавать ту воду из кувшина. «Покупайте, православные, слезы богородицы». Народ толпится возле него, всякий свою скляницу протягивает. Тут первый брат и говорит: «Не покупайте у него, обманщика, видел я, как он брал эту воду из ключа». Откуда ни возьмись, набежали монахи, пузатые, краснорожие, задолдонили: «Бейте его, безбожного еретика!» Схватили первого брата и повели в подвал монастырский под крепкий караул.
Второму брату довелось дойти до города. Стал он спрашивать, где правда живет. Один мещанишко ему и говорит: «Спроси вон в суде, судьи должны знать». Второй брат поднялся по каменной лестнице, зашел в палату, где судейские чины заседали, и давай пытать: «Расскажите мне, какой правдой люди живы». Поглядели на него приказные и ну хохотать: «Вот дурак-то, вот невежа!» А один, самый набольший, как закричит: «Паспорт у тебя есть?» – «Нет, – отвечает второй брат, – я сроду такого не имел». – «Так ты, говорит, беглый! Эй, стражи!» Полицейские служители подхватили раба божия и поволокли на съезжую.
Третий брат шел, шел да и дошел до деревни. Деревнешка бедная, избы ветром шатает. Ни баб, ни мужиков, одна старуха древняя. Спросил ее третий брат, куда народ девался. «На барина робят», – отвечала старая. – «Где же барин живет?» – «А вон евонная усадьба». Увидел третий брат, в каких хоромах барин живет, и пошел туда. Барин сидит в беседке, чай попивает со всякими сластями, а вокруг него слуги: кто с подносом стоит, кто мух отгоняет. Увидал барин третьего брата и спрашивает: «Тебе чего надо?» – «Хочу, – говорит тот, – знать, по какой правде ты живешь. Видать, она у тебя легкая: мужики на тебя робят, а ты чай распиваешь». Барин рассердился: «Ты, холоп, меня учить пришел? Так я тебя сам научу. Отведите его на конюшню, да всыпьте горячих, чтобы с места не поднялся». Слуги рады стараться, набросились, как стая борзых.
Четвертый брат попал на рудник. Поглядел он, как люди из сил выбиваются, породу долбят, и спросил: «Что же это вам за охота камень бить день-деньской?» – «Кабы наша воля, – отвечают те, – мы бы и дня здесь не пробыли». – «Так бросьте все и ступайте по домам». Тут к ним подошел смотритель и на четвертого брата зверем глядит: «Ты это здесь по какому случаю? Как ты посмел народ мутить? Да я тебя в остроге сгною. Вяжите его, ребята!» Ну и связали.
Встретились все четыре брата в одном месте – в городском остроге.
– Стало быть, так и не нашли правду?
– Так и не нашли, видно, не с того конца брались.
– Я вот тоже искал правду да тоже не с того конца к ней шел.
– Правду искать – лучшей жизни искать. Все мы о ней думаем, да не все добываем.
– Я вот один ее добывал… и без толку.
– Одному и бревна не поднять, а возьмись всем тулаем – гору своротишь.
– Кто возьмется? Всем плеть страшна.
Гость насмешливо прищурился.
– Стало быть, и ты в пустынники записался?
Андрей вспыхнул.
– Кто я и кем буду, одному мне ведомо, никому до того дела нет.
– Рано ты, атаман Золотой, крылья опустил.
Андрей онемел. Слова незнакомца точно варом обожгли его.
– Откуда ты меня знаешь?
– Знаю. Великая гроза близится, атаман. На демидовских заводах, на сысертских, в Белоярской и Калиновской слободах, под Челябой, на Катав-Ивановском заводе – везде бунтуют. А сколько еще поднимутся… Вся Исетская провинция, как пороховой бочонок, брось искру – взорвется… А ты в лесу сидишь… Эх, ты!..
– Да ты кто?
– Иван Белобородов. Запомни, может, свидимся…
Утром, чуть свет, гость уехал.
Зима подходила к концу, хотя порой еще шумели злые метели. Но вот наступила тихая погода. Прояснилось небо, и солнце блеснуло по-весеннему ярко, заслезилась оттепель. Как будто после долгого сна просыпалась тайга. Громче слышались в ней птичьи голоса, снег на лапах деревьев отяжелел, стал зернистым.
Приближалась весна, и друзья готовились к отъезду на сплав. Дуняше велели сушить сухари. Она ходила с заплаканными глазами.
– Не езди, Андрюша, – уговаривала она. – Сердце чует, не увидимся мы больше с тобой.
– Не тужи, Дуня, не кручинься. Привезу тебе из Нижнего полушалок, из Казани ботинки сафьяновые, из Лаишева…
– Ничего мне не надо. Без тебя я с тоски зачахну.
– Ну, полно, полно. Все равно ехать надо.
Друзья решили отправиться в Шайтанку: во-первых, здесь было знакомо, во-вторых, есть у кого остановиться. Андрей рассчитывал зайти к Балдиным.
Накануне Андрею приснилась Матреша. Снилось, будто оба они поднимаются на высокую крутую гору. Кругом мрачные скалы, обросшие мхом, в расселинах темные, хмурые, островерхие ели и медно-красное небо над головой.
Тягостно было на душе у Андрея, точно оставлял самое дорогое и шел неизвестно куда. Матрена вела его за руку. Ладонь была холодная, и холод ее проникал до самого сердца.
– Ведь ты мертвая, – говорил он.
– Для кого мертвая, а для тебя живая.
– У меня есть невеста, отпусти меня.
– Я твоя жена навеки.
Она смотрела на него неживыми глазами, и взгляд этот был страшен.
– Пусти! – крикнул Андрей, вырвал руку из ледяной Матрешиной руки и проснулся.
Тишина стояла в избе, только слышалось, как капля за каплей падает вода из рукомойника.
– Тьфу, какое наваждение!
У Андрея тревожно стучало сердце. Так он и не мог больше заснуть.
А в день отъезда младший из давыдовичей привез печальную новость: брата его взяли под караул и увезли в Красноуфимск.
– Стало быть, хватились нашего гостя, – сказал Андрей. – Пора и нам связывать котомки.
Уезжали синим мартовским утром.
Как ни крепился Андрей, но, глядя на Дуню, едва удержался от слез: такую душевную боль выражало ее лицо. В последнюю минуту Дуня прижалась к нему, всхлипывая, как ребенок:
– Не отпущу!
Он с силой разжал ее руки и, уже не оборачиваясь, пошел к саням, где сидели товарищи. Вез их Давыд. Старик тоже был печален.
Никифор насвистывал что-то под нос. Мясников пытался развеселить Андрея, но напрасно. Тот сидел молча, грустно глядя на лесную дорогу.
ГЛАВА СЕДЬМАЯ
О, горе нам, холопам, за господами жить!
И не знаем, как их свирепству служить!«Плач холопов»
Ефим Алексеевич Ширяев проснулся в отличном расположении духа. Он сидел в легком шелковом халате у окна, держа в руке чубук, и с удовольствием наблюдал, как по плотине везли руду и уголь. Завод работал в полную силу. На складах все больше и больше накапливалось штыкового и полосового железа. Брат Сергей писал, что можно заключить выгодный контракт в Нижнем и по первому сплаву отправить весь запас. Надо ему ответить…
Писала и сестра Софья из Екатеринбурга. Собирается начать дело об окончательном разводе с Демидовым. Преглупейшая история! Неужели нельзя было завести аманта, сохранив все в тайне от мужа? Нет, понадобилось бежать – и к кому? К мелкопоместному дворянину, из роскоши – в бедность. Чем все это кончится? Недостаточно того, что люди болтают всякую всячину, так дошло до самой императрицы. Беспримерный скандал!
Он, Ефим Ширяев, разумеется, не попал бы в дураки.
Мысли Ефима Алексеевича приняли игривое направление. IB доме все было устроено, как он хотел: в одних комнатах жена, в других – любовница. Имелась еще одна, тайная келейка, в нее приводили к нему для любовной утехи молодушек. Заведывал этим Алешка Кублинский, исполнявший обязанности дворецкого.
Вот и теперь он, наверно, уже дожидается в передней с утренним докладом. Преданный, верный раб.
– Алешка!
– Здесь, ваша милость! – послышалось за дверью.
В комнату вошел мужчина лет тридцати, с темными волнистыми волосами, с карими на выкате глазами, с пухлым красным ртом. Во всей его фигуре было выражение угодливости и подобострастия. В руках Алешка держал довольно толстую тетрадь, «журнал повседневный всяким случаям и обстоятельствам».
Барин пососал чубук, выпустил изо рта клуб голубоватого дыма и лениво процедил:
– Читай.
Алешка прокашлялся и густым баритоном нараспев, ибо не очень наторел в грамоте, стал читать повседневную запись случаев за вчерашний день:
«Крестьянские женки Парасковья Прядина и Дарья Никитина за поношение между собою тальем нещадно наказаны.
Крестьянин Семен Репин за ослушность, по выдержании двух суток в цепи, палками наказан.
Крестьянин Пахом Власов за прогул от своей работы батожьем наказан.
Повар Евграшка Трусов за игру в карты, по выдержанию под стражей в цепях одних суток, вицами наказан.
Заводские женки, числом до семи человек, за ослушность от работы, в проводу по улицам палками наказаны».
– Это от какой же работы бабы отказались?
– Работа самая пустяшная – руду таскать.
– Сколько палок дали каждой?
– Пятнадцать.
– Мало! Сыщи тех баб, добавь еще по пятнадцати лозанов и приставь их к подноске руды на вечное время… А теперь поди скажи Катерине Степановне, чтобы кофий сварила.
Алешка на цыпочках подошел к комнатам, которые занимала содержанка. Катерина Степановна Иванова, екатеринбургская мещанка, уже второй год жила в господских хоромах, окончательно оттеснив на задний план законную жену барина.
В первой комнате, гостиной, Катерины Степановны не оказалось.
«До кой поры дрыхнет! – подумал Алешка. – Легко живется суке. Не попалась бы на глаза нашему аспиду, торговала бы калачами в Разгуляе, не щеголяла бы в робронах да фижмах».
Он постучал в дверь спальни.
– Кто там?
– Это я, Катерина Степановна, Кублинский.
Не дожидаясь ответа, вошел в спальню. Катерина Степановна ойкнула и едва успела натянуть на грудь одеяло. Алешка увидел только, как блеснули белое плечо и голая полная рука.
– Алексей Иванович, как вам не стыдно? Без разрешения…
– Ничего-с, – каким-то сдавленным голосом проговорил Алешка и решительно шагнул к кровати, наклонив кудрявую голову.
– Алексей Иванович, что вы? Я барину пожалуюсь.
– Ничего-с, Катерина Степановна, ничего-с…
Напившись кофе, барин отправился на завод совершать свой обычный ежедневный утренний обход. Его сопровождал, почтительно отступив на шаг, Кублинский. Они шли по главной улице – Проезжей.
Навстречу попалась миловидная девушка. Завидев барина, она пугливо перебежала на другую сторону улицы.
– Чего это она? – недовольно спросил барин.
Алешка тотчас же заворотил девку и представил перед барские очи.
– Чья ты?
Девушка молчала, опустив глаза. Румянец стыда заливал ее смуглые щеки.
– Язык отнялся?
– Анютка Нарбутовских, надзирателева сестра, – отрапортовал Алешка.
– Что ж ты, милая, не отвечаешь мне, я ведь не зверь какой-нибудь, – говорил Ефим Алексеевич, на глаз оценивая девичью стать. Под этим липким и бесстыжим взглядом девушка стояла ни жива ни мертва.
– Ну, ступай покуда, – разрешил барин, – Девка или замужняя? – спросил он Алешку.
– Помолвлена недавно за Гришку Рюкова из молотовой фабрики.
– Ты мне ее сегодня доставь. А Гришку отправь в Подволошную и запиши на сплав.
– Будет исполнено, ваша милость.
Ефим Алексеевич пошагал дальше, опираясь на трость. Эту трость хорошо знали шайтанские мастеровые: была она железная и обшита кожей.
Теплело. По обочинам каменистой усыпанной углем дороги бежали звонкие весенние ручьи. Пруд посерел и сверкал разводьями, но на горах еще белел снег.
Только фабрика внизу у плотины в этот весенний день казалась точно еще чернее. Шум воды, лязг металла и удары молотов сливались в сплошной гул.
Ширяев начал обход с кричной фабрики, самой крупной на заводе. В открытые ворота виднелись пылающие горны. У трех молотов стояли мастера с подмастерьями. В горнах «спели» крицы, и работники ожидали, когда можно будет раскаленную массу металла поддеть на вилку и подкатить к наковальне.
Ефим Алексеевич всегда раздражался, когда видел хотя бы малейший перерыв в работе. В заводском деле он разбирался плохо, и ему всегда казалось, что мастеровые отлынивают от работы. Так подумал он и на сей раз.
Подошел к первому молоту, на котором работал мастер Максим Чеканов, костлявый, с клочковатой, обожженной бородой и длинными жилистыми руками. Рядом с ним стоял с клещами наготове его подмастерье Иван Никешев – белокурый, богатырского роста и силы детина, всегдашний победитель в борьбе и кулачных боях.
Оба сняли войлочные шляпы и поклонились хозяину. Тот спросил:
– Почему стоит работа?
– Дожидаемся, ваша милость, когда крица поспеет, – отвечал Чеканов.
– А ты что волком глядишь? – грозно спросил Ефим Алексеевич у подмастерья.
Иван попятился.
– Я не глядел…
Ширяев поднял трость и с размаху ударил парня по плечу. Тот вскрикнул и схватился за ушибленное место, новый удар заставил его со стоном опустить руку.
Утолив гнев, Ефим Алексеевич уже спокойно прошел по фабрике и направился к кузнице.
– Погоди, дьявол, когда-нибудь доберемся до тебя, – прошептал мастер, с ненавистью глядя вслед хозяину. – Терпи, Иванко.
В кузнице работа кипела во-всю. Под ударами молотов золотые искры веером взлетали от раскаленного железа. Придраться было не к чему, но нельзя, чтобы день даром пропал. Ефим Алексеевич вспомнил о семи бабах.
– Сыскал негодниц?
– Сыскал, ваша милость. Куда их доставить?
– В аптекарскую баню.
При заводской аптеке имелась баня, где стригли и мыли рекрутов. В обычное время ею никому не разрешалось пользоваться. Туда-то и привели несчастных женщин. Несколько мастеровых, родственники осужденных, провожали их до самой бани и роптали вполголоса:
– Час от часу не легче. Как только ни декуется над нами барин: то на конюшне вицами дерет, а теперь в бане придумал.
– Он, окаянный, еще и не то удумает.
– Тише ты!
Ефим Алексеевич присутствовал при экзекуции. Велел принести виц, а женщинам приказал раздеться. Те завопили в один голос. Алешка грубо сорвал с одной из них полушубок и сарафан.
– Ништо, не помрете! Вон вы какие толстомясые!
Отпустив пятнадцать ударов, принялся наказывать вторую. Та, плача от стыда, разделась до пояса сама и покорно легла под вицы. Последнюю, молодую женщину, жену мастерового Василия Карпова Парасковью, Ефим Алексеевич стегал сам. Он хлестал молодуху до тех пор, пока по спине у ней не потекла кровь.
– Станете еще ослушиваться? Навечно будете при подноске руды, навечно!
Он кричал сердито, но лицо его выражало полное удовлетворение, как будто исполнял он очень важное и во всех отношениях приятное дело.
Женщины слушали, всхлипывая от боли и стыда, не смея взглянуть в глаза друг другу. Только Парасковья Карпова, которой досталось больше всех, стояла молча, бледная, с горящими гневом глазами.
– Теперь можно и пообедать, – сказал Ефим Алексеевич, выходя из бани и блаженно щурясь под лучами апрельского солнца. – Как там Евграшка? Изготовил обед?
– Изготовил, ваша милость. Как можно не изготовить? Я бы ему, стервецу, тогда последние волосы выдрал.
…Василий Карпов, молодой мастеровой, накинул на плечи жены кафтан и, задыхаясь от боли и гнева, шептал:
– Параша! Не пройдет это ему, не пройдет! А ты, родная, поплачь, легче будет.
Парасковья шла, не говоря ни слова.
В господском доме жизнь текла своим чередом. На половине самой госпожи Ширяевой всегда было тихо. Рано поблекшая, испытавшая и унижения и побои, она так боялась своего мужа, что при одном его появлении бледнела и теряла дар речи. В своем доме она жила как в заключении. Частыми посетителями ее покоев были монахини из Екатеринбургского женского монастыря, нищие и странники, а комната напоминала часовню. Горела негасимая лампада, пахло елеем и ладаном. Стареющая, оскорбленная женщина находила утешение только в молитве.
– Постриглась бы в монашки, что ли, – недобро шутил муж. – По крайности мне бы руки развязала.
– Я и так ничем тебя не связываю, Ефим Алексеевич.
– Все-таки женой значишься. Хоть бы подыхала скорее.
– Бога ты не боишься, Ефим Алексеевич! Что я тебе худого сделала?
– Ты еще заплачь, святоша!.. Ух, ненавижу!..
И муж уходил, хлопнув дверью, а жена и в самом деле плакала – от обиды, от тоски, от сознания полной безвыходности своего положения в этом страшном доме.
Катерина Степановна тоже не чувствовала себя счастливой. Зевая, бродила она из комнаты в комнату, боясь без дела выйти из дома: как бы не донесли Ефиму Алексеевичу. Павлушка Шагин, молодой лакей, не сводил с нее собачьих глаз и сам, как собака, ходил за ней. Где бы она ни была, везде чувствовала на себе его внимательный взгляд, полный лукавства.
Вот и сегодня расхаживает Катерина Степановна по дому. Скука, хоть петлю на шею надевай. Зашла в людскую. Здесь сидит на диване, развалившись, как барин, Павлушка. Увидал ее, вскочил с поклоном.
– Наше вам! Как почивать изволили-с?
А сам смотрит, прищурившись, с хитрой улыбкой. Неужели проведал про сегодняшнее приключение с Алексеем? Какой тот все же неосторожный! Молодой, красивый – вот бы с кем связать судьбу, а теперь бойся: вдруг узнает Ефим Алексеевич! Страшно даже подумать. Конечно, она не крепостная, но разве господин Ширяев посчитается с этим. Он их обоих с Алешей замурует в стенах этого же дома – и никто не посмеет заступиться: кому она нужна, барская наложница.
Катерина Степановна остановилась в дверях. Справа была открыта дверь в кухню. В ней орудовал повар Евграшка, стуча кастрюлями.
– А я тебя, Павлуха, все-таки достигну! – подавал он голос из кухни. – Я знаю, это ты на меня донес. Все знаю. Ты первый наушник.
Тот закатывался смехом.
– Уморил ты меня, Евграшка! Кабы не я, так ты бы ничего на свете не видел. Вот ты стоишь у плиты, разные фрикасе готовишь, а жена твоя с Мишкой Харловым на задах у Нарбутовских милуется.
– Брешешь!.. Сволочь ты!
Евграшка выскочил из кухни, размахивая широким кухонным ножом. Это был маленький пузатый человечек, с безбровым бабьим лицом, с мокрым клоком волос на голове. Катерина Степановна не удержалась от смеха: до того уморительным показался ей рассерженный повар.
Евграшка был притчей во языцех у всей ширяевской дворни. Два года назад он женился на дворовой девке Аниске. Зная повадки своего барина, он накануне венчанья привел к нему невесту прямо в кабинет, ожидая великих и богатых милостей. Но барин ни с того ни с сего распалился гневом, затопал ногами, ударил Евграшку чубуком по башке и недобрым голосом завопил:
– Смеешься, негодяй? Ты бы еще мне приволок потаскуху с Разгуляя… На что мне твоя Аниска?
Евграшку перед самым венцом за эту штуку жестоко высекли, но никто его не жалел.
Мишка Харлов, конюх, волочился за Аниской, еще когда она была в девках, а после ее замужества потерял всякий стыд. Их выследил Павлушка и в «Журнале повседневном всяким случаям и обстоятельствам» появилась однажды запись:
«Повара Евграшки жена и с нею крестьянин Михайло Харлов за блудные дела палками наказаны».
Дворня ненавидела господ, ненавидела и друг друга. Кублинский ждал только случая, чтобы съесть Павлушку за его ябеды. Тот, в свою очередь, мечтал, погубив соперника, занять место дворецкого. Евграшка готов был со свету сжить конюха, но тот держался крепко, потому что исполнял, кроме всего прочего, обязанности палача.
Господин Ширяев вернулся уже пополудни. Он потрепал Катерину Степановну по пухлой щечке.
– Соскучилась, душенька?
– Соскучилась.
– Ну, пойдем обедать. Столько было дел на заводе, что проголодался.
Обедали вдвоем. Евграшка подавал блюдо за блюдом. На столе стоял графин с рейнвейном, и Ефим Алексеевич подливал, Катерине Степановне в серебряный бокальчик красное, как кровь, вино. Та жеманно отказывалась, но все же выпивала чарку за чаркой.
Гришка Рюков был из той породы людей, которые сначала действуют, а потом думают, поэтому, когда дублинский передал ему приказ барина отправляться на сплав, он бросил на пол клещи и поднял зык на всю фабрику:
– Пошто не в очередь? Что я худого сделал? Не поеду!
– Отведаешь батогов, – пригрозил Кублинский, однако не стал связываться, вспомнив, что самое главное его поручение – побывать у Нарбутовских и доставить Аннушку.
«Губа не дура у Ефима Алексеевича: не девка – мед», – подумал он с завистью.
Дворецкий ушел, а Гришка продолжал бушевать. Он неистово ругался и жаловался товарищам.
– В воскресенье свадьбу играть собирался… Что же это, ребята? В самую душу плюнули.
Ребята сочувственно говорили:
– Конечно, Григорий, неладно с тобой поступили, да ведь, сам знаешь, деваться некуда.
– Ты, Гришка, нюни не распускай, – сказал Никешев. – Сразу после работы укройся где ни на будь.
Максим Чеканов тоже советовал:
– Тут дело неспроста. Гляди, не зря на тебя озлился наш супостат.
Григорий застонал от ярости.
– Я ему кишки выпущу! Жизни лишусь, а за обиду отплачу.
– Не мели попусту, становись к горну, – оборвал его Чеканов. Гришка замолчал, поднял с полу клещи и принялся за работу.
Ветер свистел в щели. Буйно хлестала вода в вешняках. Маховое колесо тяжело опускалось, и фабрика вздрагивала при каждом его повороте. В горнах неистово клокотало пламя.
Отработав урок, Григорий пошел домой.
Избенка у него была некорыстная. Узенькие, подслеповатые окошки, дырявая крыша. Манефа, мать Григория, хоть и была служителева вдова, домоводство правила не на широкую ногу.
Сухощавый, с огненными карими глазами, смугляк Григорий после работы любил покопаться в саду. Но сегодня даже не заглянул туда.
– Дай, матушка, поесть! – устало попросил он, снимая войлочную шляпу. Черная тоска лежала на сердце.
– Все готово, дитятко, – отвечала Манефа.
На столе, накрытом изгребной скатертью, уже поставлены были чашки и тарелки с неприхотливой едой. На то имелась причина: Григорий копил деньги на свадьбу. Все мысли его были сейчас о невесте. Надо бы передать ей, что посылают его на сплав, проститься. При мысли об этом кровь прилила к лицу: «Ну, изверг! Погоди, придет наш час».
Он скинул армяк, сел в красный угол, как подобает хозяину, и принялся есть.
Манефа, подперев щеку рукой, смотрела на сына и рассказывала о заводских «приключениях».
– Наказание было опять…
– Кому? – оторвался от чашки Григорий.
– Заводским женкам.
У Григория заходили на щеках желваки.
Неожиданно вошел Василий Карпов, зять Григория.
– Садись за стол, – пригласил тот.
– Еда в рот не лезет, Гриша.
– Что случилось?
– Такое, что и не слыхано. Баб наших драли лозанами в аптекарской бане… И мою Парашу… сам хозяин стегал.
– Парашу?
Григорий бросил ложку.
– Сестру?
Василий опустил глаза.
– Сам Ширяев стегал?
Дверь распахнулась, и на пороге встала Парасковья, бледная, с раздувающимися ноздрями.
– Эх, вы! Мужики! – крикнула она. – Стыд нам за вас.
– Что? – грозно поднялся Григорий.
– А то, что когда же мукам конец придет? Когда вы за ум возьметесь? Не нам ли, бабам, прикажете за себя стоять?
– Парасковья! Ступай домой, – сказал Василий, стараясь придать словам тон приказа.
– Неужели в тебе совесть не говорит? При тебе меня раздели…
– Парасковья!
– При тебе меня… А ты?
Плечи у Парасковьи задрожали, она до крови закусила губу.
– Не плачь, сестренка, – сказал Григорий.
– Ну, хватит.
Василий взял жену за руку, она отбросила его руку. Муж рассердился.
– Ты что? Вовсе из воли вышла?
– Дерьмо ты, а не мужик…
– Я?
Василий замахнулся, но тут в распахнутую дверь раздался сильный голос Мишки Харлова:
– Григорию Рюкову приказано не медля ни часу идти в деревню Подволошную и готовиться к сплаву.
– Не пойду, – крикнул Григорий, но Мишка уже исчез.
– За что тебя, Гриша? – спросил Василий.
– Ума не приложу. Никакой провинки за мной не числится.
– А знаешь ты, что твою невесту к барину уволокли? Бабы сказывали, будто остановил он ее посередь улицы.
– Убью! – рявкнул Григорий и, схватив молоток, ринулся к двери.
– Гришка! Куда ты?
Григорий выскочил за ворота, здесь его остановили двое стражников. Они загородили ему дорогу.
– Гришка! Тебе надо быть в Подволошной… На сплав назначен. Айда с нами!
– Ребята! Так ведь я…
– Ничего не знаем. Нам приказ даден.
– Ребята! Ведь вы меня знаете… Ну куда, зачем мне идти? Ведь у меня, ребята, свадьба скоро… За что?.. Ребята!
– Айда!
Гришку подхватили под руки и потащили по дороге в Подволошную.
В этот день в доме надзирателя Ефима Нарбутовских все были в тревоге. Сам Ефим, не старый еще человек, недавно потерял жену. Дом вела старуха-мать. Сестра Анна готовилась к замужеству.
Сегодняшняя встреча и расспросы Ширяева не на шутку обеспокоили все семейство. Анна уже знала, чем это обычно кончалось. Ее двоюродная сестра Марина, выходившая замуж за писчика Ивана Протопопова, силой была приведена к господину.
– Ты бы известила жениха-то, – советовала мать, но Ефим сказал:
– Нет его на заводе, отправили в деревню, а оттуда на сплав поедет.
– Вот тебе и свадьба! – вздохнула старуха.
Анна тосковала.
– Убегу я куда-нибудь, у соседей укроюсь.
– Сыщут – всех нас под наказание подведешь. Положись на божью помощь. Может, пронесет грозу.
– Нет, матушка, чует сердце беду. Как он глядел на меня!
Девушка содрогалась от гадливого ощущения.
Вечером, когда она вышла за водой, ее встретил Кублинский и, ухмыляясь, передал ей приказ барина:
– Велено тебе идти со мной в барские покои.
Анна заплакала.
– Чего ревешь, дуреха? В храм любви попадешь, на платок получишь да еще гостинцев с собой унесешь, коли угодишь барину.
«Храм любви» – так называлась уединенная комната, находившаяся отдельно от всех, под крыльцом. Ключ от нее хранился у самого Ефима Алексеевича. В комнате все было убрано согласно вкусам владельца: бухарские ковры, тафта, маленький столик на восточный манер, погребец с винами и сластями, а на стенах французские картинки. Разглядывая их, Алешка всякий раз ржал, как жеребец.
Когда он привел в «храм любви» плачущую Анну, Ефим Алексеевич находился уже там. Он мерял комнату широкими шагами.
– Получайте, ваша милость.
– Ступай.
Алешка вышел. Ширяев закрыл за ним дверь на крючок и стал приближаться к своей жертве. Та с ужасом отодвигалась от него.
– Ну? – сказал он страшным голосом и схватил девушку в объятия.
Завязалась немая борьба. Разъяренный сопротивлением, Ширяев схватил девушку за горло и начал душить. Анна хотела крикнуть и не могла. В этот момент кто-то сильно ударил в дверь и сорвал ее с крючка. Ширяев в бешенстве обернулся: на пороге со стиснутыми кулаками стоял Ефим Нарбутовских.
– Ты… зачем ты сюда?
– Не позорь сестру, господин… Не дам ее поганить… Анна! Пойдем.
Он взял сестру за руку и вышел.
Ефим Алексеевич налил себе полный стакан вина, выпил залпом и стал думать о том, как отомстить Нарбутовских. Трудно было это сделать. Как лучшего на заводе мастера, превосходно знавшего заводское действие, как самого исполнительного и честного работника, вдобавок грамотного и трезвого, назначили Ефима на должность надзирателя. Если убрать его с этой должности, посадить на цепь в заводскую чижовку, отзовется на собственном кармане. Надо поискать другое средство. Ефим Алексеевич выпил еще стакан вина, но так и не мог придумать, чем насолить надзирателю. Обидела его и девка. Ну, с той разговор будет короток. Не хотела провести ночь с господином, проведет со слугой, и он вспомнил Алешку Кублинского, Павлушку Шагина. Вот кому дать ее на потеху!







