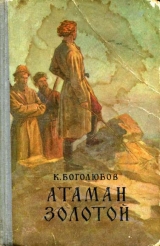
Текст книги "Атаман Золотой"
Автор книги: Константин Боголюбов
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 10 страниц)
Он стоял до тех пор, пока не появился красноносый сержант и пьяным голосом не крикнул:
– Т-ты… по какому случаю тут… К-каналья!
Андрей с ненавистью взглянул на него и побрел в казарму. Здесь царила полутьма, в узкие оконца еле пробивался свет. Сперва трудно было что-нибудь разглядеть. Через всю казарму тянулись двойные нары. На бечевках между ними были развешаны онучи, опояски, рубахи. Кислый запах ударял в нос. Люди лежали вповалку. Одни уже спали, другие штопали порванное белье, третьи ужинали. Глухой, сдержанный говор слышался в казарме.
Андрей выбрал свободное место на нижних нарах. Соседом его оказался давешний рудонос. Он со стоном ворочался на нарах.
– Что, землячок? Али занедужил?
– Давно хвораю…
– Сколько же лет-то тебе?
– Пятьдесят второй пошел. Сорок лет на заводских работах состою… Сорок лет… И свету не видал…
Старик надсадно кашлял.
– У нас здесь и помереть не дадут спокойно. Кабы я один такой был, а то вон Степану Оборину за самовольную отлучку сто пятьдесят лозанов дали. Степану-то, ему шестьдесят годов и к работе он маломощен… Да что старики? Малолеток не щадят. Ванюшке Спирякову тринадцать лет было. Принес домой поделку из меди, чтобы, значит, домашним показать, – взяли под караул в управу благочиния и присудили наказать сотней розог. Парнишка-то был малосильный, заморыш, ну и кончился под розгами… У нас так: помираешь – и то поднимут за ноги, приволокут на работу, и тут тебе полицейское исправление по всей форме определят. Розгами душу из тела вы нут.
Под этот «веселый» разговор Андрей заснул крепким сном восемнадцатилетнего парня.
…Проснулся он от грубого толчка в бок. Вчерашний сержант стоял над ним, злобно выпучив глаза.
– Вишь, разлегся! Тут тебе не у тещи… Вставай, сволочь!
Кругом сыпались с нар полуодетые люди. Кто надевал рубаху, кто обувал лапти, кто, уже одетый, искал в мешке ложку, кружку, деревянную чашку. Возле казармы за длинным деревянным столом рассаживались работные люди.
– Ешь на весь день, набирайся сил, – сказал Андрею старый рудонос, наливая себе из ведра, стоявшего на столе, полную чашку щей.
«Попал из огня да в полымя, – подумал Андрей. – Ну, коли так, долго здесь не загощусь», – и он жадно поглядел на другой берег пруда.
Вдруг послышался крик:
– На раскомандировку!
Стражники стаскивали со скамей работных, и скоро толпа человек до ста направилась к заводской конторе.
В помещении конторы за столом, залитым чернилами, сидели протоколист и усатый пучеглазый сержант, тот самый, который принял Андрея от его похитителей.
– Рудоносом назначаю, – буркнул он, даже не взглянув на Андрея.
Так начался новый трудовой день в жизни бывшего писца конторы Усольских соляных промыслов.
Руду носили прямо из куч, сбрасываемых рудовозами. Поглядел на них Андрей и ахнул – страшны были эти рудничные со следами рудной охры на лицах, с темно-бурыми руками: десятки лет перебирали эти руки тяжелые куски медного колчедана.
«Ну, мне не впервой», – сказал про себя Андрей, ловким рывком поднимая носилки с рудой.
Руду носили в плавильную – благо, что недалеко. Одноэтажное сооружение фабрики походило на тюрьму. Вверху под самой кровлей поблескивали восемь полукруглых небольших окошек с решетками. Над фабричной крышей высились четыре узкогорлые трубы. Из них поднимались клубы ядовитого желтого дыма.
Внутри фабрики стоял вечный полумрак. От черного земляного пола, от сваливаемой в кучи руды в воздухе кружилась густая едкая пыль.
Расплавленную медь выпускали в летку, ею наполняли тачки, из которых огневая жидкость разливалась в круглые ямы, вырытые в земле. От льющегося металла шел голубой и едкий дым. Плавильная наполнялась белесым туманом. Дышалось тяжело, и работные, поставленные к плавильной печи, всю ночь харкали «чернядью».
Полуголые, стоя на коленях, дробили они куски руды, а ее требовалось несколько сот пудов на урок.
«Вот тебе и новая работа», – думал Андрей, с ожесточением таская носилки.
Руда плавилась. То в один, то в другой фурменный глазок смотрел плавиленный мастер.
Со скрипом вращалось водяное колесо. Из мехов дул сильный ветер в горны. А в горнах полыхали золотые огни с синими языками. На поверхность всплывала кровянистая медь и черный медноватый чугун. Люди у горнов задыхались от жары.
Андрей качался от усталости. В нем все более закипала злоба. Он вспоминал Петровича – умного, знающего мастера, своих товарищей по доменной работе. И там за спиной стояли такие, как Перша, заставлявшие работать хотя бы и через силу, но здесь еще больше почувствовал Андрей рабское свое состояние.
Выпустили медь. Ослепительно сверкая, полилась она в изложницы.
Вдруг раздался душераздирающий вопль. Бросив носилки, Андрей кинулся в ворота плавильной. На полу, возле печи, извиваясь, как червяк, катался человек. На нем пылала рубаха, пахло чадом горящего тела.
Вокруг сгрудились испуганные мастеровые.
– Воды! – закричал Андрей. – Что встали столбами? Человек кончается…
Несколько мастеровых бросились за водой.
Горевшего подняли. Лицо и борода были сожжены.
– Братцы, – стонал он, – родимые…
Голова его бессильно откинулась.
– Тигли! – кричал плавиленный мастер.
Гнев овладел Андреем. Все, что он перенес за эти последние полгода своей жизни, встало перед ним в кровавом образе заводского начальника, как враждебной человеку силы, и когда в плавильную пришел унтер-шихтмейстер, толстомордый и дюжий, он крикнул:
– Долго нас казнить будете?
Тот даже попятился. И вдруг произошло одно из тех событий, когда люди действуют неожиданно даже для себя самих.
На крик Андрея все повернули головы.
Литухи побросали тигли, рудоносы – носилки.
– Не кормите, а работу спрашиваете!
– Где у вас правда?
– Докудова тиранить будете?
Унтер-шихтмейстер кричал что есть мочи:
– Встать на свои места!
Его не слушали. Каждый торопился высказать свои обиды.
Пришли двое работных, уносивших обгоревшего из фабрики.
– Помер.
Негодование еще сильнее овладело толпой. Кой-кто схватились за ломки.
– В печь его, толстомордого!..
Андрей схватил унтер-шихтмейстера за шиворот к, повернув его лицом к выходу, вытолкнул из плавильной.
…А через час он, в сопровождении двух стражников, стоял перед красноносым сержантом, и тот, не то с сожалением, не то со злостью глядя на него, говорил:
– Эх ты, балда! Рудник заработал, да еще с исправительной казармой…
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ
Работали мы день до вечера,
До потух-зари.
А с потух-зари мы домой пошли,
Домой пришли позднехонько.
Под окошечко постучалися —
Отцы, матери испужалися.Песня
Бадья быстро опускается вниз вглубь шахтного колодца, в «дудку». Раскачиваясь, она ударяет то об одну стену, то о другую. Внизу – пропасть, темь, зловещим могильным холодом веет оттуда. Вверху светлый клочок неба становится все меньше и меньше. Кажется, навсегда прощаешься с солнцем, с зеленым привольем, со всем, что так дорого на земле. Скрипит ворот, руки крепче стискивают пеньковый канат. Сердце замирает от мысли, что можно сорваться вглубь этой зияющей тьмы.
Но вот бадья стукается о твердую почву.
– Отпускай канат! – слышится сверху.
Теперь надо пробираться по краю штольни. Кое-где рука нащупывает подхваты, сделанные из крепкого лиственничного дерева. Надо идти во мраке, ощупью. Сделаешь неверный шаг – прощайся с жизнью, тут то и дело попадаются ямы и не один в этой норе свернул себе шею. Стены холодные и влажные. Вода струится то в одном, то в другом месте. Скоро вся одежда становится мокрой. И вот здесь, в этой норе нужно работать. Глухо, жутко, даже собственный голос не узнаешь. Надо долбить породу, кайло то и дело отскакивает от камня. Жарка, а еще более душно. Кто-то высек огонь, засветил лучину. На миг озарились светом черные норы, заблестела вода под ногами, обозначились фигуры полуголых рудобоев. Но вот лучина зашипела, погасла, и снова все погрузилось во мрак.
Люди задыхаются. Хотя бы глоток свежего воздуха. В висках стучит, сердце бьется. Скорее бы, скорее выйти из этой кромешной тьмы на свет, на свежий воздух!
Но выйти нельзя. Долгие часы проходят в тяжкой работе. Тут и там слышатся глухие удары железа о камень, шум подземных вод и стоны невольников этого подземелья. Только поздно вечером опустится бадья, и друг за дружкой станут подниматься на белый свет рудничные. На некоторых из них звякают кандалы.
Горы опоясывают лощину; хмурые, поросшие дремучим лесом, они кажутся темно-зелеными, почти черными вблизи, а дальше за ними горбятся синие кряжи новых горных цепей. Ветер гонит тяжелые тучи. Солнце скупо освещает разрез, рыжие отвалы руды, шурфы, до краев налитые водой, речку, прячущуюся в кустах смородинника, черные фигуры каталей с тачками в руках, рабочую казарму и рудообжигательную горку. Не на чем отдохнуть глазу. За ослушание и возмущение Андрей был сослан сюда на Кленовский рудник и приставлен к тяжкой подземной работе.
Только самая крайность могла привести сюда человека. Сгоняли на рудник штрафованных за большие провинности, принимали же всех, не спрашивая паспортов. Бери кайло и полезай в бадью. Люди скоро становились похожими на тени. Изможденные, с землистыми лицами спускались они в шахту, а поднявшись оттуда, брели едва живые, чтобы съесть кусок хлеба и лечь на нары, забыться коротким сном.
Утром, чуть свет, сигнал на подъем, ругань смотрителя, за непослушание, за нерадивость – розги.
– Каторжные мы, – жаловались рудобои.
– Хуже каторжных! – отвечали им катали.
Работая на руднике, Андрей потерял счет дням. Они текли, томительно похожие один на другой. Вместе с другими рудничными вскакивал он с нар, наспех умывался и подходил к шахтному колодцу. Черная яма зияла, как разинутая пасть, готовая проглотить свою жертву.
Вместе с другими возвращался Андрей в казарму, ложился на жесткие нары и предавался горьким злым думам.
Прошлое снова и снова вставало перед глазами: лица и события проходили чередой, теснились в мозгу, бот князь Шаховской, владелец соляных промыслов, так жестоко распорядившийся его, Андрея, судьбой. Вот приказчик Калашников, усугубивший его тяжкое состояние чернорабочего еще более тяжким наказанием. Вот полицейские служители в треуголках, потащившие молодого паренька на съезжую, и воевода, которого Андрей хоть и не видел, но столько страшного слышал о нем. Все эти люди, столь различные по своему положению, сливались в одно лицо. Каким ненавистным оно было – это лицо палача!
Что могло быть у них, этих жестоких, кровожаждущих злодеев, человеческого?
И не святое ли дело – истреблять их, как волков, как змей ядовитых?
Не однажды пытался Андрей завести то с одним, то с другим из рудничных разговор об освобождении от неволи.
– Как освободишься? Караулы кругом, тын высокий. Не убежишь.
– Чтобы убежать, надо перебить стражу.
Рудничный только вздыхал в ответ.
– Да кто вы: люди или твари неразумные?
– Забитые мы до полусмерти, вот мы кто.
И верно: изнурительный труд и побои, вечный страх перед начальством довели этих несчастных до того, что они боялись и подумать о сопротивлении.
Андрей все же не бросил мысли о свободе.
Год провел он в исправительной казарме на хлебе и воде – и выжил. Чем дальше, тем больше укреплялась в нем мысль избавиться от неволи.
Помог случай.
Вечером, поздней осенью, когда сиверко прохватывал насквозь, а на застеклившиеся под заморозками лужи падали последние блеклые листья и алый закат разливался над гребнем гор, в казарму пригнали новую партию рабочих.
Они вошли шумной толпой, в старых азямах, в лаптях.
– Нет ли землячков? Есть камышловские?
– Нет ли кого шадринских?
– Ищи земляков на кладбище, – отозвался с нар глухой и сердитый голос. – Недолго дожидаться и вам.
– Что, разве жизнь шибко лиха?
– Отведай – узнаешь.
– Не то видели, не запугаешь и не таковские мы.
Это были сплошь участники крестьянских волнений в Камышловском и Шадринском уездах. Держались они дружными кучками, по волостям.
Андрей прислушивался и присматривался, но в казарме было темно. Несмотря на ранний час, наработавшиеся до устали рудничные ложились спать. Возле растопленной печи пришедшие с работы сушили онучи.
Один из новичков подсел к ним, как старый знакомый.
– Что, братцы, приумолкли? Не вешайте голов, не унывайте. Распоследнее дело – унывать. Споем лучше кашу дедовскую.
Ты взойди-и, взойди, солнце красное…
чистым и звонким голосом затянул он старую волжскую песню.
Над горою ты взойди, над высокою…
– Будет тебе волков пугать! Кого там взяло? – раздалось со всех сторон.
– Нешто и петь здесь нельзя? Эх вы, пуганые!
Андрей подошел к печке и взглянул в лицо певцу. Что-то знакомое мелькнуло в этом худощавом седом человеке с сумасшедшинкой в глазах, во всем его гибком, как у ящерицы, теле.
– Блоха!
Это был он.
– Блоха! Родной мой! – Андрей схватил знакомца в объятия, стиснув его острые плечи своими сильными руками. Кругом ахали.
– Вот где земляки-то друг друга отыскали!
– Мы больше, чем земляки, – сказал Блоха.
– Как ты попал сюда? – спросил Андрей.
– Взяли за то, что в Тамакульской волости мужиков на бунт подговаривал. Да мало ли чего не наскажут.
И Блоха лукаво подмигнул.
Андрей в ту же ночь поделился с ним мыслями о восстании. Решено было разделить людей по десяткам и каждому десятку поручить свое дело: одним снимать с вышек караулы, другим обезоружить охрану в кордегардии, третьим – идти в контору.
Дул студеный ветер. Тучи, клубясь, вытянулись над горами в одну сплошную гряду. Закатные лучи ярко освещали их края, и казалось, будто там, за горами, тлеет зарево большого пожара и ветер несет все дальше и дальше обагренный отсветом пламени дым.
Закусив чуть не до крови губы, поднялся в бадье Андрей.
– Ты пошто рано? Смена не кончилась, – сказал воротовой.
– Замолчи! – крикнул Андрей. – Там пятерых придавило.
К шахте сбегались рабочие. Штейгер-немец ругался.
– А, канайль! Руссише швайн! Лень работает? Шифо на работ! Марш в шахта!
Между тем из черного устья шахты поднимались еще рабочие с бледными, безумными лицами.
– Обвал! Завалило еще троих…
Толпа волновалась. Катали побросали тачки, сгрудились. Блоха протискивался между людьми, уговаривал:
– Не ждите доброго от начальства. Спасайте свои шкуры. Сегодня восьмерых задавило, завтра, может, еще больше погибнет.
Андрей взял его за руку.
– Звони сполох.
Кто-то схватил штейгера за шиворот.
– Конец вашей власти!
Это явилось сигналом. Часть рудничных, похватав кайлы, кинулась к вышкам, другие бежали к кордегардии.
Бунт начался и вскоре охватил весь рудник. Закованные сбивали с себя кандалы. Тачки летели в устья шахт. Сигнальный колокол звонил без умолку.
В здании конторы рудничные спешно уничтожали списки рабочих и реестры. Солдаты, находившиеся в кордегардии, не могли выйти, потому что дверь была завалена бутовым камнем и бревнами.
– Наша взяла! – ликовал Андрей.
Но Блоха остудил его радость.
– Лучше давай поскорей смазывать пятки: смотритель успел угнать не то в Билимбай, не то в Ревду. Того и жди – солдаты нагрянут.
В тот же вечер они бежали с рудника. Рудничные громили провиантский магазейн. Наступала ненастная ночь. Шел снег вперемежку с дождем. Вдруг с одной из караульных вышек раздался истошный вопль:
– Солдаты!
Большой воинский отряд двигался по дороге на рудник.
В городе Екатеринбурге в самом центре стояли чуть не рядышком деревянная церквушка, построенная, говорят, еще при первой Екатерине, канцелярия Главного управления горными заводами, острог и суд.
Проспективная улица широка и пряма. Движутся по ней обозы, груженные железом и медью, скачут курьеры с нарочным. Внизу у плотины был когда-то завод, теперь там монетный двор.
Растет город, столица горнозаводского Урала. С каждым годом все больше строится в нем домов. Много людей всякого звания проживает в Екатеринбурге, а больше всего – солдат.
В здании Горной канцелярии в зале с лепным потолком идет заседание. Члены Горной канцелярии слушают князя Вяземского, командира карательного отряда.
Он стоит, прямой и высокий, узколицый и тонкогубый, потомок одной из знатнейших и древнейших в России дворянских фамилий.
– Я полагаю, что причины возмущений приписных к заводам крестьян и работных людей, – говорит князь, – коренятся в небрежении, кое проявляется вами, господа. Невозможно и недопустимо, дабы Исетская провинция, столь важная для нашего государства, пребывала в смутах и волнении. Все, что мог, я своим драгунским полком сделал для укрощения духа мятежа. Остальное зависит от вас, господа. Пожар нужно тушить вначале. Иначе… не потушить.
Члены Горной канцелярии внимали в благоговейном молчании. На князя смотрели как на спасителя. Еще недавно им казалось, что восстание скоро охватит весь Урал. Теперь же тюрьмы в Екатеринбурге и в уездных городах переполнены, мирские земские избы сожжены, зачинщики повешены, на площадях слобод и заводов выставлены колеса для четвертования, воздвигнуты виселицы и глаголи. Сотни людей отправлены в сибирские рудники. Мир и тишина снова воцарились в горнозаводском крае, в Исетской провинции.
…Выходя из канцелярии, Вяземский обратил внимание на большую толпу людей в лохмотьях, со связанными назади руками. Десяток драгун конвоировал арестованных. Их вели в острог.
– Кто такие? – спросил князь у офицера, ехавшего впереди.
– Бунтовщики с Кленовского рудника, ваша светлость.
Князь нахмурился и, ничего не сказав, сел в карету.
Андрей и Блоха решили укрыться в куренях под Ревдой. Это была затея Блохи.
– Я и чеботарь, и шорник, и коновал, – говорил он. – А где мы найдем работу и жительство, как не на куренях? Нас с тобой там на руках станут носить. Меж людей-то и сам человеком будешь.
Слова Блохи оправдались: в куренной избе отвели сапожникам угол, кормили даром, только работай. Работы оказалось много, притом спешной: кому хомут починить, кому седелку, кому узду сшить, а то и всю шлею. Наступала пора возить уголь. Блоха не слезал с сидухи, обшитой кожей. Шило так и мелькало в его костлявых и сильных пальцах. Андрей старался не отставать, помогая ему и на ходу учась шорному мастерству.
Блоха подмигивал лукавым глазом.
– Живем, Андрюха, до весны, а там, как вольные птицы, улетим на Волгу.
И он запевал свою любимую песню:
Ты взойди, взойди, солнце красное!
Андрей подтягивал, любуясь своим неунывающим другом.
Вечером приходили с работы жигари, кучеклады, дроворубы, топили печь, ужинали и слушали побаски Блохи.
Уже миновали сретенские морозы, веселей глянуло солнце. Проснулся, ожил лес, звонко стучали дятлы, какая-то пичуга чиликала на ближней сосне. С крыши свесились прозрачные ледяные веретена. Дроворубы уходили в лес довольные, не надо было надевать тяжелые тулупы и полушубки. Куренной староста сказал:
– Скоро по домам.
Наконец, подъехала смена. Назначенные в курени на время весны приписные крестьяне были озлоблены: ведь свое хозяйство приходилось оставлять в самую горячую пору. Зато отбывшие срок кабанщики ликовали. Куренной староста, прощаясь, сунул Блохе кошелек с деньгами.
– Бери, приятель. Мы со всей артели собрали в благодарность за ваши труды и подмогу. Спасибо вам, родные!
Блоха взял деньги.
– Пригодятся, – сказал он Андрею. – Айда и мы в путь-дорогу. Сказывают, на Чусовой, у Шайтанки, большой караван сбивают.
– Готов хоть сейчас, – обрадовался Андрей.
Сумрачные, сплошь заросшие лесами горы: Волчиха, Полынная, Березовая, Мокрая. Таежная глухомань. Бродят по тайге волки, дикие козлы, сохатые. Глубоки закрытые тенью лога. Бегут по ним горные речки и ручьи, змеясь в кустах, сонно затихая в омутах, весело разливаясь по каменистому ложу на несколько рукавов, журча и сверкая. Непроходимые дебри сторожили глухие урочища, стиснутые между горными громадами. Первые насельники края башкиры боялись заходить в эти места, где недолго и заблудиться, где услышишь только протяжный вой голодной волчьей стаи да зловещее уханье филина, где, кажется, может обитать только нечистая сила. Недаром башкиры прозвали одно из таких гиблых урочищ Шайтан-лог.
Вот в этом-то логу на берегах Шайтанки и заложен был чугуноплавильный и железоделательный завод. Рудознатцы доносили, что местность богата рудами да и от Чусовой недалеко. Никита Демидов в честь сына Василия назвал завод Васильево-Шайтанским.
Широкая и высокая плотина перегородила течение Шайтанки, и лог наполнился водой, образовался большой пруд. У подножия плотины встали доменная фабрика, молотовая, кузница, пильная мельница, и там, где лешачьим голосом ухал филин, зашумела вода в ларях, падая на колеса; подняли двадцатипудовые железные кулаки боевые и обжимочные молоты, завыли мехи, раздувая пламя в горнах. Люди в кожаных запонах, вачегах, в обуви на деревянных колодках привели в движение и колеса, и молоты. Потянулись подводы с рудой, с углем.
Подходя к Шайтанке, Андрей немало дивился суровой и дикой красоте этих мест. Двугорбая громада Волчихи мрачно серела на синеве неба, а дальше тянулись все новые и новые горные кряжи. Они вставали один за другим, и кажется, не было конца этому горному царству, напоминавшему застывшее на бегу каменное море.
– Мы с тобой остановимся в Талице у Пахома Балдина, – сказал Блоха.
– У тебя и здесь знакомцы?
– Поброди-ка с мое, так в лесу каждого волка будешь по имени знать.
Добрались и до Талицы. Деревня стояла на низком месте, на берегу незамерзающего ручья, верстах в пяти от завода. Десяток рубленных из добротного кондового леса изб был поставлен однорядком. Блоха подошел к самой высокой избе с коньком и шатровым крыльцом, постучал в ставню. Слуховое окошко приоткрылось, и женский голос спросил:
– Кого надобно?
– Пусти, Михайловна. Люди мы знаемые и тебе и твоему хозяину.
Женщина лет сорока, приоткрыв калитку, подозрительно оглядела путников, но тут же лицо ее прояснилось.
– Это ты, Блоха? Давненько не бывал в наших краях.
– А пути не было. Дома Пахом?
– На угольном дворе. Скоро будет.
– Приехали наниматься на сплав. Как у вас нынче? Нужны работники?
– Наймуются… Да вы проходите в избу.
В избе было темновато, но опрятно, видать, хозяйка часто скоблила и мыла свое жилье.
– Ужо я к соседке сбегаю за капустой, – сказала она и вышла.
Блоха стаскивал с себя зипунишко.
– Аксинья-то ведь от живого мужа выдана за Пахома.
– Как так? – удивился Андрей.
– По барскому приказу. Первого мужа барин в рекруты сдал, а Пахому велел на Аксинье жениться.
– Ну, и дела!
– Да, брат, по заводам и не такое еще творится.
Вернулась хозяйка с туеском соленой капусты.
– Правда, что вас Демидов другому владельцу отдал?
– Правда, батюшка. Наши господа теперь купцы гороховские – Ширяевы. Завод-то наш, бают, подарил им Демидов за то, что на ихней сестре женился. Сколько-то пожил с ней и то ли он ее бил, то ли она ему супротивничала, только ушла она от Демидова. Слышь, воротил он ее, да ненадолго, опять сбежала. Ну, это не наше дело, господское. Их грех – их ответ.
– А каково живется с новым господином?
Аксинья тяжело вздохнула.
– Сами дивимся, как еще до сих пор живы. Ох, и лют Ефим Алексеевич, ох, и лют.
– Ну, где они, господа-то, не люты? Это исстари повелось: что ни барин, то зверь.
– Да наш-то, слышь ты, на особицу… Поешьте капустки, а я тем часом печь затоплю.
– От капустки мы не откажемся, а топить для нас не надо: мы не баре – и в холоде ночуем. Нас никакая стужа не возьмет, ежели тулупом накроемся.
Скоро приехал хозяин, крепко сколоченный, с могучим красным затылком мастеровой. По размеренным неторопливым движениям можно было судить, что Пахом Ильич характера спокойного.
– Здорово, Блоха! – сказал он. – С чем прибыл? Что нового по заводам? Как житье?
– Везде одинаково: в нашем краю, как у бога в раю, калины да рябины не приешь и половины.
– Тебе все шутки, а вот нам, приписным, надо с оглядкой жить.
– Слыхал уж я, что попали вы к супостату.
– Не говори!.. Возле смерти каждый день ходим… Аксинья! Накормила гостей?
– Накормила, чем бог послал.
Утром рано хозяин пошел на работу, а Блоха с приятелем – разведать насчет сплава.
Из-за косматой вершины горы выглядывало солнце, но в долине еще лежал сумрак, было студено и влажно. Пахом проводил своих постояльцев до завода.
Тут перед ними, точно из-под земли, выросли закопченные корпуса молотовой и доменной фабрик. На угоре стояли каменные здания конторы и господский дом, окруженный садом. По лощине к фабрикам шли и ехали работные люди. На всем лежала чернота: от угля и сажи была черна дорога, черны заводские строения, черны лица работников.
Подходя к конторе, Андрей заметил человека в рабочей одежде, на шее у него был заклепан железный обруч, а на груди, привязанная к этому ошейнику, висела гиря.
– Что такое? – спросил Андрей.
Блоха мрачно усмехнулся.
– Называется «матрену» повесили. Это еще что: гляди, тот вон идет и колоду за собой волокет, а тому вон, как козлу, рогульку с батогом на шею надели. Всяко декуются над людьми.
Угрюмые, молчаливые брели рабочие в худых, рваных армяках и чекменях. Глухо постукивали о каменистую дорогу деревянные баклуши на ногах.
В конторе Блоха и Андрей застали самого владельца завода Ефима Ширяева. Это был плотный лет пятидесяти мужчина с бритым розовым лицом, с глазами, отливающими влажным блеском.
– С чем пожаловали? – спросил он.
– На сплав наймоваться пришли.
– Добро. Документы есть?
– Есть.
– Запиши их, Иван, – распорядился барин и вышел из конторы.
Писчик, молодой человек одних лет с Андреем, любезно спросил приятелей, как у них с харчами. Ведь ждать придется недели полторы, пока сколотят караван. Блоха тотчас же стал выговаривать побольше «пропитала».
Писчик улыбался.
– Ты, отец, у нашего хозяина много не выторгуешь. Хорошо, ежели за путину заплатит рубль при своих харчах, а то и того не получишь.
– Видать, он у вас чугунна подворотня.
Молодой человек промолчал.
– Сегодня он никак навеселе? – не унимался Блоха.
– Сестра ихняя приехала – Софья Алексеевна.
– Это которая за Никиту Никитича Демидова выходила замуж?
– Та самая. Выходила и уходила. Теперь снова ушла.
В контору впорхнула барынька в кринолине, напудренная, с мушкой на белой щеке.
– Иван! Куда ушел Ефим Алексеевич?
Писчик почтительно поклонился.
– Не могу знать-с.
– Скажешь ему, что я поехала в город.
Барынька прошумела накрахмаленным платьем и скрылась.
– Жена? – спросил Блоха.
– Полюбовница, – ответил Иван.
Бежит барка по Чусовой, бежит мимо серых, источенных ветрами, крутых, будто срезанных, скал, мимо хмурых еловых лесов. Бежит мимо редких деревень, мимо разбитых коломенок и расшив, оголенных, как скелеты с торчащими ребрами.
Играет Чусовая. Мутная вода бурлит и пенится у крутояров, зажатая между скал, как между двух каменных стен, и вдруг вырывается на широкий плес, на луговой простор, разливаясь далеко и привольно. И снова, извиваясь, уходит то вправо, то влево, и опять то справа, то слева поднимаются серые неприступные утесы, с черной гривой леса, и тень от них сумрачно падает на волны. Издали слышится, как ревут волны, взбегая на камни, и, разбившись в брызги и пену, падают, чтобы снова набрать силу и с бешеным ревом броситься на приступ.
Андрея и Блоху поставили к носовым веслам. Работа тяжелая, некогда любоваться Чусовой. Только, знай, слушай команду лоцмана. Плывут они на передней барке. Здесь отобраны самые опытные сплавщики, самые сильные. Блоху было забраковали, но он все-таки сумел заверить:
– Вы не глядите, что я тощий. Сила-то ведь не в мясе, а в костях, да и не первый год на сплаве. Не бракуйте меня, каяться будете, что не взяли.
Караванный, свиреповидный, мордастый, заржал на весь плес:
– Ну, ино, будь по-твоему. Возьму, а уж там сам на себя пеняй.
Несмотря на тяжесть работы, Андрей отдыхал душой. Мускулы наливались железом, все тело становилось упругим и сильным. Эта дикая горная река, грозно катившая свои мутные волны и готовая бросить барку на утес, как щепку, приводила его в радостное волнение. Ему нравилась эта неукротимая сила, бушевавшая без конца и края в каменных теснинах.
Барка, груженная штыковым железом, глубоко сидела в воде, яростная струя несла ее легко и быстро, как будто это была какая-нибудь утлая лодчонка. Караванный с беспокойством вглядывался в приближавшиеся утесы. Лоцман стоял рядом, насторожившийся и суровый.
– Как бы нам Разбойник благополучно миновать.
Впереди виднелась каменная громада. Еще издали слышался гул воды. Он становился все сильнее и сильнее, наконец перешел в сплошной оглушительный рев.
Андрей, налегая всей грудью на весло, видел, как стоявший против него Блоха посерел от страха.
– Господи, спаси! Пресвятая владычица… Ты, мать твою, чего зубы скалишь? – вдруг осердился он на Андрея.
– Наддай, соколики! – кричал лоцман.
– По чарке водки на рыло! – орал караванный, стараясь перекричать рев воды.
Сплавщики работали поносными изо всех сил. Все понимали, что решается судьба каждого из них, что через несколько минут все может быть кончено: барка ударится о скалу, в бурлящей пене закружатся люди, доски, куски железа. Все почувствовали близкую гибель.
Черной тенью пронесся остроребрый утес Разбойник, и люди вздохнули полной грудью. Иные, сняв шапки, крестились. Караванный распорядился выдать всем водки. За передней баркой благополучно миновали страшное место вторая и третья. Весь караван выплыл на стрежень. Солнце выглянуло из-за туч, брызнуло на волны, на просмоленные борта коломенки, на усталые, но радостные лица сплавщиков. Выпив по чарке, люди совсем повеселели.
– По Каме плыть – одна любота, не то что здесь.
– Хватишь еще горького до слез.
– Да все не так, как на Чусовой.
– Эх, хоть бы в деревню отпустили!
– Думаешь, не отпустят?
– Еще путину заставят ломать, а там на завод пошлют.
«Ну, мы-то здесь не останемся», – подумал Андрей. Они с Блохой решили уйти в Лаишеве совсем.
…Ранним утром показались из-за мыса городские колокольни, а вскоре стало видать и флаги на мачтах. Барки стояли у причалов, и было уже их немало. Различались караваны по цвету раскраски носов.
– Гляди, робя, черноносые, наши ревдинские!
– А эти с зеленым?
– Не знаю, кажись, турчаниновские.
– Вон уткинские красноносые подплывают.
Ширяевские барки плыли с желтыми носами.
Несмотря на ранний час, на берегу работа кипела вовсю. По сходням катили тачки с чугуном и железом, со слитками меди. Возле складов ржали лошади, здесь шла разгрузка, железо везли гужом.
Стали причаливать и шайтанские. Караванного окружили бурлаки.
– Ваше степенство, нельзя ли хоть в город сбегать, поесть, попить?
– Денег бы получить с вашей милости.
– Дай вам деньги – сбежите.
– Не сбежим, ваша милость. Ублаготвори.
– Не дам денег – вот и весь сказ… Становись на разгрузку!
– Кляп тебе в глотку, вонючий боров, – вполголоса сказал Блоха.
Когда кинули сходни, он и Андрей первыми сбежали на берег.







