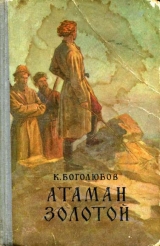
Текст книги "Атаман Золотой"
Автор книги: Константин Боголюбов
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 10 страниц)
Сама Домна Власьевна оказалась пожилой женщиной, со следами былой красоты. У ней было такое доброе лицо, что Андрей не скрыл от нее страшной истины, рассказал все: как он бежал, как попал в лагерь Матрены, а потом к дедушке Мирону, как соскучился по людям, по работе, по настоящей жизни.
– Эх, дитятко, тебе бы жить да жить у Мирона. У нашего попа железными просфорами кормят. Не поглянется тебе. Ну, да утро вечера мудренее. Ложись спать.
Андрей залез на полати, а Савватька о чем-то долго вполголоса говорил с хозяйкой. Сквозь сон Андрей слышал, как Савватька крякал и говорил: «Спаси, Христос! Дай бог не по последней».
Утром Власьевна накормила Андрея оладьями и отправила в контору, желая всякой удачи.
Контору он отыскал быстро, потому что во всем заводе было только два каменных дома: контора и управительский дом, оба они стояли на высоком месте за плотиной. Зашел Андрей в помещение конторы, да так и остановился: до того знакомой показалась обстановка, точно в Усолье вернулся. Так же сидели за своими столами конторские писцы. У каждого гусиное перо за ухом, перед каждым чернильница, банка с песком и сандарак – притирать скоблюшки, чтобы не растекались чернила. В углу за высокой конторкой сидел бритый пожилой мужчина в парике – начальник заводской канцелярии, или, как его называли, правитель дел.
К нему-то и обратился Андрей.
– Хотел бы получить работу. Я конторское дело знаю, грамоте учен.
Мужчина в парике устремил на него ничего не выражающий взгляд и процедил сквозь зубы:
– Ступай в распомечную.
– Куда? – удивился Андрей.
– В распомечную, сказано.
– Это рядом изба, – подсказал один из канцеляристов.
Андрей пошел разыскивать «распомечную». Там он застал своих вчерашних знакомых: Першу и двух ильинских парней. Распометчик записывал их в доменную фабрику. Парни с унылым видом выслушали решение своей судьбы.
– Ну, а тебе что? – спросил распометчик Андрея.
– Из конторы послали.
– Фамилия, имя?
– Некрасов Иван, – соврал Андрей.
– Эх, какой ты рыжий, кудри огнем горят. Тебя надо поставить поближе к огню.
– Отправь его на домну, – подсказал Перша, – под начал ко мне. Через год мастером будет.
– Будь по-твоему.
Так вместо конторы угодил Андрей Плотников на огневую доменную работу.
Непривычного человека ужас охватывал в этом закопченном сарае, где вспышки пламени озаряли черные стены и усталые лица людей в кожаных запонах. Пламя бурлило, клокотало и, казалось, готово было вырваться, чтобы сжечь людей.
– Ух, и жара! – говорит один.
– Не дай бог, – отвечает другой и жадно пьет из ковша ледяную воду.
– Ну, чего рты разинули? – кричит Перша.
– Да что-то плавится худо.
– Сбегайте за мастером.
Сверху в поддоменник спускается пожилой рабочий с чахлой бородкой, с таким же, как у всех, побывавших на огневой работе, почернелым лицом.
– Что случилось?
– Домна опять зауросила, Петрович.
Мастер поглядел в фурменный глазок.
– Должно, руда попалась тугоплавкая, перемените сыпь.
Люди чуть не падают от изнеможения. Трудно становится дышать от нестерпимой жары. Кружится голова, и часто начинает стучать сердце.
Сквозь почерневшие балки поддоменника видны голубые просветы зимнего неба.
– Эй, сторонись!
Несколько рабочих тащат тяжелый короб с флюсом.
Шестисаженная домна, как ненасытное чудовище, готова без конца глотать эти короба с рудой, известковым камнем и флюсами. Непрерывно везут по плотине уголь, таскают носилки.
Ровное розовое пламя колеблется над пастью домны. Работники заваливают уже десятую колошу. Время от времени взрывается пламя, люди отбегают. Прозеваешь – обожжет огненным дыханием.
Андрей мучительно переживал первые дни новой работы, хотелось поскорее привыкнуть к ней.
Поставили его на просевку песка для опок. Вместе с ним работали два брата с Иньвы, кроткие, молчаливые люди.
…Печь клокотала все яростней и яростней, тучи искр и дыма вырывались из жерла домны. Деревянные клинчатые мехи нагнетали воздух в фурмы. Тихо и медленно двигалось огромное маховое колесо, и с каждым его поворотом, свистя и хрипя, растягивались мехи, и гудела домна. Брызги ледяной воды падали из водяного ларя. Грохот стоял такой, что, казалось, можно было оглохнуть. Мастер кричал в переговорную трубку. Чугун опускался все ниже и ниже и становился молочно-белым.
– Господи благослови! Сварилось. Отходи!
Из устья печи хлынула ослепительно яркая струя и поползла светящейся змеей, разбрасывая искры. Они взлетали к высокому черному потолку, вылетали в просветы между балками и таяли там. А чугун лился в формы и остывал в них. Сначала оранжевый, потом красный, потом багровый, он темнел все больше и больше. Невольно залюбовался Андрей.
– Ну, чего стоишь болваном! – раздался сзади голос Перши, и Андрей едва не упал от сильного удара палкой по спине.
Мгновенно обернулся и, сжав кулаки, кинулся на обидчика. Тот отскочил и со злобой пробормотал:
– Вишь, какой сердитый. Ну, погоди ты у меня.
На следующий день Андрея поставили на работу еще более трудную и опасную – заваливать руду и флюсы. Молча подчинился юноша этому новому повороту в своей судьбе.
«Где бы ни работать, лишь бы работать».
Время шло и все помаленьку заравнивало. Стал Андрей привыкать и к работе и к людям. Полюбил он мастера Петровича за его уменье варить чугун и во всякое время справляться с уросливой домной, жалел иньвенских, которые никак не могли привыкнуть к «огненному действу». Нравились ему ильинские парни, поставленные на доменную работу. Один из них был совсем смирный, зато другой оказался малый хоть куда: белобрысый, со шрамом на щеке, с лукаво щурившимися глазами, Никифор Лисьих всех потешал рассказами о всевозможных приключениях, а больше всего о чужих краях. Сам он о них, по его словам, слышал от дворового, услужавшего господам, жившим в Ильинском, где была главная строгановская контора.
В часы, когда, завалив в домну очередную колошу, мастеровые шабашили, вокруг Никифора собирались любители послушать забавные его истории. Мастеровые сидели на бревне, макая сухари в воду. А Никифор с жаром рассказывал.
– И вот есть такое царство Бухарское. Ежели на полдень пойдешь, не сворачивая, прямехонько в него попадешь. Живут тамо-ка люди нерусские, черномазые, одним словом, арапы…
– Сам ты арап. Погляди на рожу – черней чугуна.
– А ты не мешай. Слушай дале. Тепло тамо-ка круглый год такое, что и одежи не надо.
– Вот это добрая сторонка! Стало быть, и зим нет?
– Одно лето. И земля тамо-ка изобильна. Что ни посади, все родит. Люди ходят завсегда сытые.
– Вот бы в такое место попасть.
– А в Кукане-городе нашего брата принимают бесперечь и избу дают и бабу дают.
– Ну, Никишка, совсем ты заврался. Тамо-ка да тамо-ка!
– Хочешь верь, хочешь не верь.
– А еще что есть?
– Тамо-ка, братушки, фрухта заморская растет, на язык сладка и уедлива.
– Это в Кукане-то?
– Знамо, в Кукане… Житье тамо-ка привольное – никакого начальства нет…
– Ты про какой это Кукан кукуешь? – послышался за спиной голос Перши. – Где это начальства нет? Пойдем-ка, друг, к уставщику.
Все испугались, а Никифор побледнел.
– Не может того быть, в сам деле, – подтвердил Петрович, – как можно без начальства? Где народ, там и начальство. В самый дальний Кукан забреди, начальство тут как тут…
Все засмеялись, но Петрович оставался серьезен.
Внутри доменной стоял вечный полумрак. От земляного пола, от сваливаемой в кучи руды в воздухе постоянно кружилась пыль.
Расплавленный металл выпускали в летку, и от него шел голубоватый дым. Литейный двор как будто наполнялся молочным туманом. Люди томились от жажды даже в зимнее время. Бочонок с подсоленной водой стоял в углу, к нему то и дело бегали напиться, но это не прибавляло сил.
Андрей старательно учился у опытных рабочих, как нужно держать носилки, как сбрасывать и поднимать, не делая лишних движений. Больше всего тянуло его узнать само доменное действие.
Андрей часто стоял за спиной мастера, когда тот «колдовал» у печи.
Однажды Петрович обернулся и не то с досадой, не то насмешливо спросил:
– Не видал чугунного молока?
Андрей честно ответил:
– Как не видал, да научиться хочется, твою тайность охота познать, Петрович.
– Ты что, стервец, удумал?
Петрович ударил Андрея по спине, но похоже не со зла.
– Никому тайности моей познать не дозволено.
И снова гудит домна, все сильней и сильней гудит она. От поворотов водяного колеса сотрясаются пол и стены поддоменника.
…Как-то в конце работы Петрович дернул Андрея за рукав.
– Слышь, приходи ко мне в воскресенье после обедни.
В воскресенье – это значило через день.
B субботу, как водится, у всех на огородах топились бани. Когда Андрей пришел с работы, баня уже истопилась. Власьевна сидела за столом, с головой, завязанной полотенцем, и охала. Агафья стояла перед ней с деревянным выражением лица.
– Дура ты приснопамятная! Уморить, что ли, меня собралась? Ведь к завтрему просфоры надо печь. Ой, головушка моя победная!.. Да что ты столбом-то стоишь? Принеси хоть рассолу!
Агафья молча пошла выполнять приказание.
– Ты, Андрюша, обожди ходить в баню-то, угоришь. Да и Савватька сулился придти. Вместе и сходите.
Савватька не заставил себя ждать и вскоре прикостылял.
– Здорово, матушка Домна Власьевна! Хвораешь? То-то, сколь разов говорил тебе: не ходи в первый пар. Неровен час и кончину примешь. У меня с кумом такое приключилось…
– Не мели языком! Ступайте с Андрюшей. Веники возьмите… Агашка, дай им веники.
Банька у Власьевны отличалась, как и все в ее хозяйстве, чистотой и добротностью.
Раздевшись, Савватька тотчас полез на полок и принялся хлестать себя веником так усердно, такого наддал пару, что Андрей не один раз выбегал в предбанник. Напарившись всласть, Савватька стал мыться. Он пришел в блаженное состояние и говорил без умолку.
– Вот ты, Андрюха, глядишь на меня и думаешь: непутевый ты, Савватька, пьяница и нéроботь, ячменна кладь…
– Никогда я такого не думал, Савватий.
– Не думал – и хорошо. Я, Андрюха, добро жил, семейно, из полного сусека ел. В кричной робил и лучше меня подмастерья не было по всему заводу. Подхватить крицу на вилки – это для меня было все равно, что плюнуть. Я ведь с основания завода, коренной работный человек… И так мне сперва счастливило: женился, хозяйство завел, дом выстроил. Сын родился, в дедову память Иваном нарекли… А потом, ячменна кладь, как под гору покатился. Сломал ногу и работать не замог. А любил я ее, заводскую работу, хоть и тяжелая она. Год прошел – умер от черной немочи парнишко. Нога-то у меня худо срасталась, лежал я лежнем, а жена и за себя и за меня вымогалась на господской работе. Ну и надорвалась… Похворала год и богу душу отдала. Так вот оно, Андрюха, и пропало все, и остался я бобылем, ячменна кладь…
– Горькая твоя доля, Савватий.
– А ты не жалей! Не люблю, когда жалеют. Давай-ко мы лучше кваску выпьем…
Одеваясь, он подмигнул Андрею.
– Зазнобушки-то еще не нажил? Коли надо, скажи. У меня в соседях живут девахи добрые, работящие. Женим тебя: я в посаженные отцы пойду, Власьевна – в матери… Живой о живом думает, Андрюха… Чуешь?
– Рано мне об этом думать, – хмуро отрезал Андрей, образ красавицы-атаманши опять встал перед ним, и сердце запылало.
– Во всяком разе, коли приключится какая нужда или беда, не забывай хромого Савватьку. Выручу… Спроси у дедки Мирона, как мы с ним встретились. Я, брат, Андрюха, даром, что калека, каждого насквозь вижу…
Андрей перестал слушать. Савватька попал на свою колею и пошел врать да хвастать.
В воскресенье после обеда Андрей не без робости отправился к Петровичу.
Жил мастер недалеко от церковной площади на самом уветливом высоком месте, где ставили первые заводские избы. Отсюда пошла главная заводская улица. Дома строились «по-рассейски» – огороды на задах, с улицы высокое крыльцо с подклетью.
Таким был и дом Петровича.
Поднявшись по ступенькам крыльца, Андрей зашел в сенцы, разделявшие избу на две половины. Не зная, в которую дверь стучать, наугад постучал в левую. Оказалось, тут и жил сам хозяин.
Петрович, хоть и полагалось в воскресный день отдыхать, стоял у окошка, затянутого пузырем, и на небольшом аккуратном верстачке выпрямлял железный прут. Хозяйка вынимала из печи пирог. В комнате стоял густой и острый запах сига.
– Разболокайся да садись за стол, – повернувшись в полоборота, сказал Петрович.
Редкие волосы у него были ради праздника расчесаны и примаслены. Непривычно было видеть его без кожаного запона, без вачег – в рубахе с вышитым воротом, подпоясанного пермяцким узорчатым поясом.
Постукивая ручным молотком, Петрович говорил своим глухим сиповатым басом:
– К пирогу поспел. С сигами пирог. У купцов чердынских рыбу купил.
Жена Петровича тем временем накрывала стол, ставила на него деревянную тарелку с сиговым пирогом.
– Ешь, – скомандовал Петрович.
Пирог оказался сочным, вкусным. Отправляя в рот кусок за куском, Андрей разглядывал комнату. Стены и пол были чисто выскоблены. Единственный сундук заключал в себе, видимо, все имущество старого мастера. На полках стояла посуда – глиняная, деревянная, и, видно, многое сработано было руками самого Петровича, в том числе берестяная солонка и ложки с фигурными ручками. На стене красовалась лубочная картина «Погребение кота мышами».
Завтрак прошел в молчании. Затем хозяин с Андреем выпили по полной кружке пермяцкой браги, хлебной и сытной.
– Так, говоришь, тайность мою хочешь узнать?
Петрович кинул на Андрея быстрый и, как тому показалось, насмешливый взгляд.
– Ни к чему она тебе. Ты человек залетный. Сегодня здесь, завтра там. А мы здешние, коренные. Нами заводы строятся, нами держатся. Худо ли, хорошо ли – все одно мы к заводу как пришитые.
– Что ты, Петрович! Я думаю остаться здесь.
Помолчал Петрович и глянул пронзительно.
– Дальний ты?
– Усольский. Служителев сын. Отца давно в живых нет.
– Как же ты в краях наших очутился?
Андрей замялся.
– Не бойся. Не выдам.
– Беглый я.
– То-то и есть. Ты беглый и дале побежишь, а мы останемся.
«И с чего это он заладил одно и то же, – с досадой подумал Андрей. – Не нужна мне его тайность в таком случае».
– Грамоте учен?
– Учен.
– И то добро… Выйди-ко, Арина.
После того, как жена вышла, Петрович, испытующе глядя Андрею в глаза, начал вполголоса:
– Позвал я тебя как человека нездешнего и, видать, грамотея. Хочу тоже узнать одну тайность.
Он понизил голос до шепота.
– Правда ли, будто царь Петр Федорович жив? Слух идет, что сокрылся он… И будто в наших местах сокрылся.
Андрей ответил, что ничего такого не слыхал. Петрович стал пасмурен и молчалив. Андрею стало жаль его, он спросил:
– А какое это может иметь следствие?
– Дело то государственное, – ворчливо заметил мастер, – а ты еще млад и глуп.
Разговор явно не клеился. Андрей поблагодарил хозяина за угощение и распрощался.
Шел он по улице и думал: не спроста идет слух о покойном императоре. Ждет чего-то народ.
Солнце багровело к морозу. Идя мимо соседней избы, Андрей услышал пение и топот каблуков. «Живой о живом думает», – вспомнились ему слова Савватьки.
«А завтра ни свет ни заря эти же люди пойдут кто в кричную, кто в доменную, кто в кузню, кто в меховую фабрику».
Андрей не без удовольствия подумал, что теперь уже не страшно ему «доменное действо», что становится он работным человеком, таким же, как все, окружавшие его.
На следующий день поставили его на поддоменную работу. Андрей понял: тут обошлось не без Петровича и обрадовался: признают его, стало быть, заправским рабочим.
Живя на заводе, Андрей понял, кто здесь составляет главную силу. Такие, как Петрович, знали дело лучше всех приказчиков, вместе взятых.
На каждой фабрике были свои мастера-умельцы: искусные литейщики и кузнецы, слесари и токари, кричные мастера, управлявшиеся с раскаленным металлом, знаменитые строители плотин, каменщики, воздвигавшие здания на вечные времена. Каждый из них вносил в общее дело свой опыт и уменье. Без них рухнуло бы все заводское действо, и железное дело пришлось бы прикрыть.
Андрей все больше и больше втягивался в заводскую работу. Хотелось ему стать заправским мастеровым, но случилось так, что в жизни его снова произошел крутой поворот.
Наступила весна, и по улицам побежали мутные ручьи. Лед на пруду побурел. На деревьях, еще голых, неумолчно кричали грачи. Все чаще заводские крестьяне стали поглядывать на обнажавшуюся землю: с каждым днем все больше манила она хлеборобов.
B этот роковой день Андрей встал по обыкновению на рассвете, хотя и было воскресенье. Расчесал кудри, умылся и, не зная, чем себя занять, взял книжку. Ее оставил один из постояльцев Власьевны. Называлась она «Лолота и Фанфан».
«Кроткому духу нравится резвое журчание ручейков и густая тень рощей, а особенно тогда, когда я, о, люди, схоронил свое сердце далеко, далеко!»
Читая эти строки, Андрей усмехался. Сразу видно, что барин сочинял. Было время слушать журчанье ручейков. А тут спину некогда разогнуть. Перед глазами встала вчерашняя встреча с мастеровым из кричной фабрики. Парень шел и стонал.
– Что с тобой?
– Уставщик избил… Каждый день бьет, незнамо за что.
«Незнамо за что» били всех. Эх, кабы не было над работными людьми злодейской власти!
Андрей отправился к Никифору Лисьих, с которым последнее время подружился.
– Что-то надо делать, Никифор. Худо живется людям. Может, начальство не знает, как обижают нас уставщики и надзиратели?
– Как не знает! С ведома управителя и декуются над нами. Меня за пустое слово выпороли при конторе. А кому я согрубил?
– Нет, надо что-то делать?
– Слезницу писать?
– От слезницы толку не будет, а вот с глазу на глаз поговорить с управителем…
Никифор ничего не ответил, надел шапку и азям.
– Пойдем, хоть подышим.
У церковной ограды толпились приписные к заводу крестьяне. Они толковали меж собой.
– Время пахать…
– Да, теперь день год кормит.
– Уезжать надо. Мы не собирались так долго работать.
– Начальство нас обмануло.
– Кабы кто грамотный… Сходить бы к управителю. Может, отпустит.
Андрей толкнул Никифора в бок.
– Чуешь?
– Чую.
На другой день в поддоменнике, когда мастеровые стояли возле печи, дожидаясь плавки, Никифор сказал Андрею:
– Слышь, ночью-то пятеро приписных утекли на конях с завода.
– Толково сделали, – отозвался тот. – Жаль, что не все. Пускай начальство слово держит. За людей нас не считают.
– Начальству о нас заботы нет, хоть помри на работе.
– Тихо! – прикрикнул на обоих Петрович. – Глядите-ка, Перша-то слушал, слушал да и пошел… Куда он?
Один из работных выглянул в раскрытые настежь ворота.
– К конторе идет.
– Ну, ребята, спасайте шкуры, – сказал Петрович. – За язык спина ответит, мягче брюха сделают.
Парни приуныли.
– Что делать, Андрюха? – спросил Никифор. – Попали мы в петлю.
– Пойдем к Савватьке. Он поможет. Уйти с завода надо как можно скорее…
Савватьку они застали за работой: рыбак смолил лодку, посвистывая и напевая песню.
– Помогай бог!
– Здорово, коли не шутишь. Садитесь на приступок. В избу не зову, необиходно у меня.
Изба у Савватьки покосилась, крыша прогнулась, а затянутые бычьим пузырем окна походили на бельма.
– Мы к тебе, Савватий, по делу. Выручай из беды. Надо спасаться, пока не поздно. Заводское начальство не сегодня, завтра доберется до нас. Увези к деду Мирону.
– Не могу, милок. Погляди, какая ростепель!
Андрей оглянулся вокруг: действительно, о поездке куда-нибудь нечего было и думать. Дорога походила на сплошное болото. В лесу еще лежал снег.
– Так не выручишь?
– Как не выручу, ячменна кладь! Провожу вас в свою землянку на Каме, там дождетесь ледохода. Лодка у меня есть – садись и плыви, куда хошь.
Последний час коротал беглый писец Андрей Плотников в Чермозе. Власьевна уже знала о его намерении и готовила ужин.
– Мне и есть-то неохота, – говорил Андрей, – скорей бы Никифор пришел.
– Как перед дорогой не поесть, Андрюшенька. Что-то с тобой станется? Выбирай себе товарищей добрых, а с лихими людьми не связывайся.
– Для меня, Власьевна, самый лихой человек – это заводской начальник да полицейский служитель.
– Оно и верно. Сама начальство не люблю. А все-таки сидишь тихо, так и начальство не тронет.
Андрей хотел ответить, что ничего не боится, но в ставень постучали. Это был Никифор.
– Готов?
– Готов.
– Садитесь, поешьте, – упрашивала Власьевна, но приятели отказались: хотелось скорее уйти от опасности.
Сердечно простился Андрей со своей хозяйкой, благодаря ее за все заботы о нем. Домна Власьевна прослезилась:
– Как родного сына, тебя провожаю. Так весь век и расстаюсь с дорогими сердцу: в молодости мужа похоронила, потом друг милый в разбойники ушел, а теперь и с тобой прощаюсь. Береги себя, Андрюшенька, не ввязывайся в худые-то дела.
Ночь была звездная. Тихо, тихо журчали ручьи. Черные тени от деревьев и домов падали на землю, не успевшую еще застыть. Лес маняще темнел вдали.
Савватька ждал их уже во всей амуниции, с дорожной сумой, с топором за поясом у ворот своей усадьбы, от которых остались одни вереи (притворы ушли на истоплю).
– Где вы запропали, ячменна кладь?
– Не сердись, Савватий! Пошли.
Земля начала подстывать, идти становилось все легче и легче.
Андрей с Никифором поселились в землянке на крутом берегу Камы.
Неласковая северная весна улыбалась все чаще. Уже зазеленела трава на угорах. Лес звенел от птичьего гама.
Солнце играло в голубой вышине, только ветер с севера, с далекой колвинской и вишерской пармы дышал холодом, да в разлогах под сенью островерхих елей еще лежал белыми плешинами нерастаявший снег.
Лед на Каме тронулся ночью. Андрей, проснувшийся от шума, разбудил Никифора. Тот поднялся недовольный, почесываясь.
– Чего ты?
– Да погляди, красота-то какая!
Андрей стоял на берегу и не мог оторвать взгляда от быстро несущихся льдин. Они со скрежетом задевали одна о другую. Вода под ними шипела и пенилась. Кама словно срывала с себя оковы. Все шире и шире становились разводья. Они блестели в лучах полного месяца. А льдины плыли и плыли…
Всю ночь и весь день плыли они.
Вскоре Кама очистилась от льда.
– Ну, Никифор, скоро и мы с тобой поплывем.
– Я к себе в Ильинское. Тятька с мамкой, поди, глаза обо мне проплакали.
– Берегись, больше суток тебе там жить нельзя. Поймают – засекут. Укажу я тебе надежную пристань.
И Андрей рассказал, как отыскать землянку дедушки Мирона.
– Пожалуй, и вправду нельзя мне оставаться дома. Стало быть, вся жизнь моя теперь по ветру летит? Как ты полагаешь?
– Не жалей, Никифор.
– Я на все пойду. Мне самого себя не жаль. Только от родных мест неохота уходить.
– Может, еще и наладится твоя жизнь. А я на низ подамся, в Кунгур либо в Екатеринбург. В большом городе и укрыться легче.
Утром Никифор все-таки ушел в Ильинское.
Андрей готовил лодку к отплытию, конопатил щели, прибил доску на сиденье, стругал весла.
Отплывал он в ясную погоду, в солнечный ветряный день. Ветер завивал водяные стружки. Широка и величественна была в эти дни Кама. Вся она радостно светилась под солнцем, словно торжествуя свое освобождение. Прибрежные тальники поднимали над водой верхушки голых веток. Вода прибывала. Мутная, сердитая, она заливала пойму. Река текла, кружа воронки, подмывая глинистые берега, и чем дальше, тем шире становились камские просторы.
Андрей полной грудью вдыхал свежий речной воздух. Как проголосная песня, лилась перед ним Кама, силой и волей веяло от нее.
Чем дальше плыл Андрей, тем больше видел он народной беды. Она как будто со всех сторон облегала его.
Вот уже около недели плыл он вниз по Каме. Недалеко от Осы зашел в деревушку. Посредине деревни возвышалась виселица. Пусто, ни души не было на улицах, некоторые избы стояли с заколоченными ставнями.
– Что тут у вас учинилось? – спросил Андрей первую встречную.
Женщина, не глядя на него, тихо, неохотно проговорила:
– Драгуны наезжали.
Андрей догадался, что попал на кровавый след карательного воинского отряда князя Вяземского.
– Будь навеки проклят, злодей, – прошептал он.
В Осе решил отдохнуть, купить хлеба.
Зашел на постоялый двор в посаде. Постояльцев оказалось немного: один торговый с помощником, молодым пареньком, да отставной капрал. Все трое сидели за столом, ели щи и беседовали. Подсел к ним и Андрей.
В открытое окно виднелась крепостца, обнесенная тыном с деревянной воротовой башней. На крепостном валу играли ребятишки.
– А это для чего построили? – спросил Андрей.
– Видать, не здешний ты, – ответил торговый. – Был бы здешний, узнал бы, как без крепостей жить. У нас в Кунгуре башкирцы весь город спалили, теперь на новом месте стоит город… Вот какое творится в наших краях. Да что башкирцы, своих бойся, особливо, ежели у кого власть в руках.
– Так ты кунгурский? – спросил отставной капрал. – Земляки будем. Я неподалеку живу от Кунгура.
Был он уже в летах, черные глаза светились умом и энергией. А купец показался Андрею смешным: толстое лицо, маленькие плутоватые глаза, на голове волосы редкие и кудрявые, торчком во все стороны. Говорил купец бойко.
– Давно службу кончил?
– Не так чтобы давно.
– Повидал, наверно, всякого?
– Пришлось и на войне побывать. Знатно бились. Под Егерсдорфом мне в ногу стрелили, а то бы еще долго с пушкой ездил.
– Откуда родом-то?
– Из Богородского.
– Знаю, недалече от Кунгура. А я купец кунгурский Шевкунов… Слыхал, может?
– Как не слыхать? Шевкунов… Юфтью торгуешь?
– Юфтью. Мы люди именитые.
«Именитый человек» положил ложку, вытер платком безбородое лицо и сказал:
– Прилягу на часок… Ванька! Карауль!
– Прилягте, ваша милость.
Андрей сел за стол и, развязав кошель с сухарями, принялся за еду.
– Скуден, парень, твой обед, – усмехнулся капрал. – Бери ложку и хлебай… – Он придвинул к нему чашку со щами. – Далеко путь держишь?
– Хочу до большого города добраться. Там работу легче сыскать.
Проницательный взгляд бывшего капрала ощупал его.
– Да, справедливо говорится: рыба ищет, где глубже, человек – где лучше. Нашему брату, людям подлого звания, есть над чем подумать… Видал деревню-то?
– Страшно глядеть.
– Бунтовали мужики.
Капрал помолчал.
– Костер потушили, а угольки тлеют.
Много бы мог пересказать старый воин из того, что узнал, проезжая через заводы и села.
Рассказал бы он о том, как крестьяне Масленского острога и Бореневской слободы отказались дать на Азяш-Уфимский завод приписных и долгое время стойко выдерживали осаду, не страшась ни пуль, ни ядер. Рассказал бы, что на Ижевском и Боткинском заводах дошло до вооруженного столкновения между мастеровыми и воинской командой.
А в Невьянском заводе мастеровые, бросив работу, учредили мирскую избу, где устраивали многолюдные сходки.
Мог бы обо всем этом рассказать старый капрал, но время настало такое, что лучше было держать язык за зубами.
Андрей молча и жадно хлебал горячие щи. Давно уже не ел он горячего.
Ел и думал, что ночевать придется на берегу Камы.
На свежем воздухе сон приходит легко. Андрей спал, и снилось ему, будто баюкает его в лодке камская волна. Спал так крепко, что, когда проснулся, ничего не мог понять. А пробуждение было неожиданным и внезапным. Еще сквозь сон почувствовал, как кто-то сжимает ему руки и выворачивает их. Вскрикнул и открыл глаза. Перед ним стояло несколько человек. Один из них, действительно, держал его за руки.
Андрей отшвырнул его от себя и попытался приподняться, но тут же упал – ноги были связаны. Стоявшие над ним захохотали.
– Попалась птаха!
– Чего с ним цацкаться? Тащи в лодку!
Как ни сопротивлялся Андрей, его все же скрутили, связали ремнем руки и поволокли к лодке.
«Что со мной будет?» – промелькнула мысль.
– Скажите мне, кто вы и куда меня везете?
– А тебе не все одно? Везем туда, откуда не воротишься.
– Далеко?
– Небось, доедем.
– Для чего ж вы меня везете?
– Вот дурень! Нешто не знаешь, для чего. Будешь работным человеком. Еще благодарить нас станешь.
И все снова захохотали.
Широки камские просторы. Высоки и могучи вековые леса на крутых камских берегах.
Баюкали когда-то камские волны и персидские суда с цветными парусами, и новгородские ушкуи, и московские струги.
Кровными узами связала себя Пермь Великая с русской землей. Под боевыми стягами Ермака плыли ее сыны в далекий и трудный сибирский поход. Отозвались они и ка призыв Минина спасать родину. Под Полтавой гремели пушки из уральской меди и дрались уральские рекруты, шли уральцы в рядах суворовских чудо-богатырей.
Великий Петр вещим оком разгадал славное будущее Урала. Здесь заложил он широкую основу отечественного железного дела, а вместе с тем показал путь промышленникам и заводовладельцам.
И вот рядом с вотчинами бывших новгородских гостей Строгановых появились владения новых уральских магнатов: Демидовых, Походяшиных, Твердышевых, Осокиных, Турчаниновых, Яковлевых и титулованных заводчиков: Шаховских, Голицыных, Воронцовых, Чернышевых, Шуваловых.
Тысячами пудов везли с Урала штыковое и полосовое железо, не уступавшее в добротности «свейскому», везли уральскую медь, и на рынках Лиссабона, Лондона, Амстердама, Нанта и Гамбурга русский металл славился как отличный.
В огне и буре шел восемнадцатый век. Он гремел Полтавской викторией, победами в Семилетней войне, под Фокшанами и под Измаилом. Россия выходила на первое место среди европейских держав. А внутри страны зрел посев народного гнева. Народ изнывал в оковах, тосковал о воле.
…Связанного по рукам и ногам Андрея везли на медеплавильный господина Осокина завод. Был этот завод больше похож на крепость. Все – и фабрики, и магазейны, и казармы, где жили работные люди, – заводчик приказал обнести частоколом. У ворот бессменно стоял караул.
Андрея втащили в караульню, и тут же его принялся допрашивать полупьяный сержант. Видя, что от нового работника трудно чего-либо добиться, он распорядился развязать пленника и направить в ближайшую землянку, куда уже сходились из фабрики работные люди.
Размяв затекшие мускулы рук, Андрей почувствовал себя легче. Спросил у сгорбленного рудоноса, как живется работным людям на Юговском заводе. Тот повернул к нему костлявое бескровное лицо и сказал хриплым голосом:
– Порядки известные – раным-рано гонят на работу. Все робят: и мужики, и бабы, и старики, и малолетки, и русские и башкирцы, и вотяки и чуваши.
Поглядел Андрей на фабрики, и тоскливо ему стало. Поднимался над ними какой-то зловещий желтоватый дым. Фабричные строения чернели у подножия плотины. В сливных каналах колебалось отражение пламени, вспыхивавшего над плавильными печами. Пруд багряно рдел в лучах заката.
Горько задумался Андрей о своей доле. Почему же он, Андрей Плотников, снова оказался не хозяином, а рабом горестных обстоятельств судьбы своей? Может ли он распорядиться собою, жить по своей воле? – «Могу», – ответил он сам себе.







