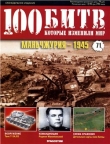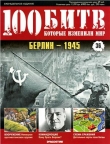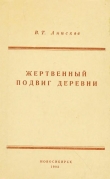Текст книги "Трагедия деревни Мидзухо"
Автор книги: Константин Гапоненко
Жанр:
Публицистика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 10 страниц)
В то же время в поселке Найбути в подземелье работал Че Хак Ен. Его мобилизовали. Это значило, что за попытку уклонения от явки на пункт сбора или побег он объявляется дезертиром. Всем собранным на пароход сначала сказали, что везут на работу в Японию. Но в порту Осака они простояли двое суток, их никуда не выпускали, а перед выходом в море назвали новый пункт назначения: Карафуто, порт Отомари. И здесь с выгрузкой задержали на двенадцать часов, в зарешеченные вагоны с охраной посадили лишь в полночь. На жиденькой подстилке измученные дальней дорогой они и дремали, скрючившись, до самого приезда в Найбути. Утром, перед выгрузкой, их встретили представители специальной службы – молчаливые, строгие японцы в форме цвета хаки без каких-либо знаков различия.
Сначала прибывших погнали на медицинский осмотр. Пустая формальность, а выполнялась неукоснительно. Потом выдали форму – рабочий костюм из жесткой брезентовой робы и легкой обуви наподобие кед – дзинатаби. Разместили в казарме, на втором этаже. Широкий проход посредине предназначался для построений. За редкими столбами, подпиравшими потолок, находились спальные места. Че Хак Ен получил подголовник и одно одеяло (предупредили, что на весь срок службы), а постелью оказалась годза – тонкая подстилка из рисовой соломы. Он обратил внимание, что тут таких казарм три, они образуют полукруг, в центре которого столовая да несколько небольших помещений, предназначенных, видимо, для японцев. За пределы этого поселения рабочий выйти не мог, равно как и нарушить жесткие тиски казарменного режима.
– Окирэ! Вставай! – в половине пятого раздавалась команда, которая не поднимала только мертвого.
Перед завтраком приказывали построиться. В несколько секунд каждый рабочий занимал свое место и замирал. Надзиратели считали поголовно и отправляли в столовую. Считали по выходе из столовой, потом при входе в шахту. При выходе на поверхность считали снова. Считали по головам во время сна.
На завтрак давали порцию каши. Она состояла на одну треть из риса, на две трети из сои. Тут же каждый получал шахтерский обед – бэнто, коробочку с рисом и морковным кружочком посредине. Надзиратели следили, чтобы рис не съедали раньше времени. Было замечено, что у тех, кто нарушил этот порядок, падала выработка.
В семь утра начиналась работа в забое. Она продолжалась с небольшими перерывами до семи вечера, когда на смену первой партии приходила вторая. Работать с таким напряжением предписывали парламентские законы и правительственные постановления военного времени. В самой метрополии оборонные заводы переводили своих рабочих на казарменное положение и удлиняли продолжительность рабочего дня до шестнадцати часов.
По выходе на поверхность шахтеру предоставлялась возможность пройти водную процедуру. Смена бросалась в небольшой бассейн с проточной водой. Большинство мылось без мыла, редко кто припасал заранее тоненький кусочек. Вода сразу чернела. Дно бассейна становилось скользким, неприятным. Толкаясь, каждый норовил пробиться поближе к отверстию, откуда поступала теплая вода, чтобы вымыть лицо.
Итог рабочему дню подводил скудный ужин, и после очередного пересчета смена валилась на годзу, отдаваясь на съедение сонму насекомых.
Этот суровый режим не имел сбоев, перерывов, выходных и праздничных дней, на него не влияли дожди и метели. Праздники значились только на календаре. В жизни шахтеров их не было. Более того, праздники объявлялись «патриотическими днями», и администрация добивалась выработки выше обычного. Далее следовала то неделя «мобилизации национального духа», то неделя «помощи фронту». Или шумно развертывалась кампания «по укреплению экономики военного времени». И с каждым днем работать надо было интенсивнее, угля выдавать больше и больше. При изношенном техническом оборудовании увеличить выработку было трудно, тогда в ход пускались призывы, угрозы, наказания; надсмотрщики, подгоняя, метались хуже цепных псов.
Один раз в месяц рабочий получал конверт, в котором было пять иен. Так платили проходчикам, забойщикам, их подручным, плотникам, откатчикам, ремонтникам, электрикам. Остальную часть заработка, за вычетом за питание, жилье, обмундирование, высылали родным шахтера. Якобы так. Поначалу даже потребовали, чтобы каждый написал сам или хотя бы назвал свой домашний адрес. Однако никто не знал и не смел спросить, какую часть заработка высчитывали, какую высылали, если высылали вообще. Ни один шахтер никаких сведений из дому не получал. Люди жили в полной изоляции, знали лишь, что Япония ведет войну с Америкой. Как развиваются события на фронте, где проходит фронт, где союзники, где противники – ни единого слова об этом не говорилось. Беспрестанно внушали одно: Япония – превыше и сильнее всех, японский солдат превосходит любого противника, надо лишь напрячь силы, чтобы победить. А что касается противников, врагов, то их находили тут же, в шахтерской массе. Врагом объявляли любого, кто допускал малейшую провинность. Заболел шахтер – враг, не хочет работать в пользу империи, достал сигарету и тайком выкурил ее – враг, поклонился начальству без достаточного усердия – тоже враг. Вечно голодный кореец изыскивал возможность достать хоть что-то съестное. Самих шахтеров в поселок не пускали, лишь через кого-то можно было с большим риском приобрести кусок вяленой рыбы или сушеную селедку. Однажды японский надзиратель поймал корейца с поличным – тот ел жареный рыбный фарш. Расправа последовала незамедлительно. Шахтеру скрутили руки назад, затолкали в рот упаковку с остатками фарша и выставили у входа в столовую в назидание другим: вот он, враг империи, он захотел поесть лучше, чем остальные! Каждый проходивший мимо запоминал выпученные глаза несчастного и тонкую струйку слюны, вытекавшую через отверстие фаршевой упаковки. Чем дольше он стоял, тем ярче окрашивалась слюна в алый цвет.
Сцены подобных издевательств не затмевали ужаса перед тако – тюрьмой, которая была в Найбути. В тако хозяйничала полиция. Поэтому появление полицейского в казарме вызывало всеобщее оцепенение. Взять могли любого без объяснения причин. Выстраивали шахтеров в шеренги, полицейский в сопровождении человека из спецслужбы и представителей администрации медленно шел вдоль строя. Не слышно было в эти минуты даже дыхания людей. Стучали только шаги. Но вот они затихли – жертва определена.
– Этот! – тыкал пальцем в шахтера полицейский, поворачивался и уходил.
Он даже не считал нужным удостоить взглядом обреченного или оглянуться: идет тот или на месте умер от страха. Что происходило дальше, никто не знал. Видели только потом, что мучеников заковывали в цепи по двое, и в этом мучительном тандеме они должны были выполнять самые тяжелые и опасные работы. Били их, за их смерть никто не отвечал. В бездне тако исчезали люди, и никто не помнил случая, чтобы кто-нибудь оттуда вернулся...
Вполне возможно, что найдется читатель, у которого мелькнет мысль о том, будто наши рассказчики несколько сгущают краски. Тогда можно привести страничку из прошлого японских углекопов. Герой повести Кисё Никадзато «Шахта в море» Хема читает достоверные документы о прошлом шахтеров, живущих на небольшом острове. «Кусакира заслуженно пользуется дурной славой. Это тюрьма, это совершенно особый мир, со своей властью, своими законами, своей чудовищной системой насилия. Самое тяжкое наказание для углекопов – запрещение переписки с родными и полная изоляция от внешнего мира. Провинившимся не разрешается даже выходить из барака. Их водят только на работу – в шахту».
«Стоило кому-нибудь из шахтеров нарушить установленные правила, как артельщик вызывал специальных экзекуторов, набиравшихся из числа отпетых негодяев и хулиганов, и провинившегося секли розгами. Если наказуемый пытался сопротивляться, его приговаривали к десятикратному количеству ударов и пороли до потери сознания так, что тело превращалось в сплошное кровавое месиво. При особо тяжких проступках применялось наказание, называвшееся «наглядным уроком». Виноватого связывали, подвешивали вниз головой и избивали палками. Остальные шахтеры должны были присутствовать при экзекуции. Нередко такое истязание приводило к смертельному исходу...»
О том, как зарождающийся капитализм превращал жизнь человека в ад, сказано в фундаментальном исследовании Джеймса Л. Мак-Клейна «От сёгуната Токугавы в XXI век», изданном в Москве в 2011 году
На начальных этапах индустриализации, пишет исследователь, типичным фабричным работником была женщина, занятая в текстильной промышленности. По мере расширения фабричного производства вербовщики поставляли на работу незамужних девочек-подростков из крестьянских семей. Документально зафиксировано, что рабочий день на фабриках длился с рассвета до глубокой ночи, составляя от 13-14 часов до 17 или 18 часов. Рабочие помещения были тесными, шумными, душными, воздух наполнен тончайшими волокнами шелка и хлопка, которые набивались в глаза, рты, уши, забивали поры на коже. Мастера-мужчины не сильно отличались по своим повадкам от армейских сержантов, медлительных они подгоняли ударами бамбуковых палок. Девушки, торопясь, теряли осторожность в работе, их руки и ноги попадали в механизмы станков. К концу столетия утрата пальцев на руках и ногах уже не фиксировалась врачами, поскольку явление это стало обыденным.
Фабричные общежития представляли собой постройки тюремного типа, они были окружены заборами высотой до двух с половиной метров, девушек при попытке побега нещадно били. Некоторые компании считали выделение каждой девушке индивидуального спального места излишней роскошью. Питание было скудным, его едва ли доставало для молодого организма. Что касается заработка, которым заманивали вербовщики, то он почти весь уходил на многочисленные штрафы. «Работа на фабрике – это работа на каторге», – пели мотальщицы шелка.
Так капиталисты относились к цвету своего народа.
Вполне допускаем, что не со всеми корейцами, завезенными на Карафуто, судьба обошлась так сурово. Случалось слышать мне от людей послевоенного поколения, что семейные корейцы жили при японцах неплохо, заработков хозяина вполне доставало, чтобы прокормить семью. Это уже при советской власти корейские женщины вынуждены были заняться огородничеством, торговлей, шитьем.
История сахалинских корейцев ждет глубокого научного исследования, только такой труд выявит истину с достаточной глубиной. Мы же выскажем лишь общее мнение, которое не опровергают даже те, кто «хорошо жил»: насильственное переселение корейцев на Карафуто в качестве дешевой рабочей силы было трагедией десятков тысяч человек, навсегда оторванных от родного дома. Карафуто стал для них местом каторги, слез, унижений, нередко даже смерти. Сколько их сюда привезли, где безымянные могилы умерших, погибших, пока неизвестно. Современному читателю, осведомленному о миллионных жертвах, ничего не скажет любая цифра. Суть драмы легче понять через конкретную человеческую биографию. Расспросите еще сотню, и они расскажут одно и то же, точь-в-точь. Будет лишь другое место действия, иные детали обстановки, но жизнь корейца, работавшего в Торо и Найбути, по своей сути не отличалась ничем. Любой из них был песчинкой в море, и волны его обкатывали как угодно. Не случайно в нашем рассказе на первом плане очутились не Дю Сан Ен, не Че Хак Ен, а порядки, учрежденные на шахте. Они полностью властвовали над человеком.
...Биографии двух молодых корейцев, о которых мы повели речь в самом начале, обрели содержание лишь после того, как они стали зятьями японца Сато. Но период этот укоротили саблями.
Набег
Туман поутру.
Вдалеке забивают сваю:
Бам-бам-бам.
Бусон (1716-1783)
Вечером в доме Куриямы Китидзаемон участников дневной расправы над корейцами угощали ужином, который приготовил Такахаси Иоримицу. Такахаси неплохо управлялся самодзи – деревянной лопаткой, раскладывая в чашки рис. Сам хозяин подавал разведенный спирт и ключевую воду, чтобы запивать.
Заговорили о войне, о прошлом. Считали, что не все потеряно и сейчас. Вспоминали историю, приводили примеры, когда чудеса спасали японцев. Каждый школьник знает о неудавшемся походе Хубилая, монгольского правителя Китая. Задумал Хубилай провести свое войско по деревянному настилу, проложенному поперек десяти тысяч судов, поставленных в Корейском проливе. Но налетел божественный ветер – Камикадзе, и гигантский флот почти весь пошел ко дну. Сейчас в Японии десятки тысяч камикадзе – смертников, готовых разметать вражескую силу. Надо быть таким же бесстрашным, как они, и нога чужеземного завоевателя никогда не ступит на священную землю Японии.
Хмелели не столько от выпитого спирта, сколько от речей бывалых солдат. Они рассказывали различные эпизоды из военной жизни, в которых победителем выходил всегда японский воин. Он терпелив, вынослив, бесстрашен, ловок, в единоборстве превосходит любого противника. Да, он бывает беспощаден, жесток, не знает жалости, но империя всегда сильна была тем, что сурово карала своих противников. Поэтому справедливо наказаны и здешние предатели.
Неожиданно Морисита поднял голову и запел: «Тверды лица воинов, спускающихся с решимостью разбить своих врагов...».
Несколько голосов стали подтягивать. В старательно ведомой мелодии трепетало знамя Страны восходящего солнца, звенела вера в победу над коварными врагами. В груди у молодых горела жажда подвига.
Наконец Морисита и Хосокава встали. Им предстояло немало дел. Остальным было приказано ночевать здесь, подъем предвиделся ранний. Корейцев в Хатигосен надо убить на рассвете...
Накануне непоседливый Хосокава съездил в лагерь беженцев, ютившихся в доме его отца и вокруг, разъяснил, что обстановка остается прежней, что отлучаться в деревню запрещено. Лишние свидетели ему были не нужны. Раз несколько он показывался в центре. Потом доверительно сообщил, что встретил там полицейского Исэда Рюдзиро. Разговор полунамеками шел вокруг случившихся событий. Исэда будто бы дал им совершенно определенную оценку:
– Что ж, правильно сделали.
Никаких дальнейших указаний или советов он, разумеется, не давал. Сама обстановка диктовала, как действовать.
Хосокава был в центре деревни третий раз, когда к нему подошли Курису Набору и Мива Мацумаса, представлявшие северную окраину деревни.
Мива Мацумаса приходил с надеждой встретить своего брата, который должен был ехать из Футомата в эвакуацию. Его соседу никак не сиделось одному в такой тревоге дома. Два приятеля из Хатигосен и Хосокава словно искали друг друга.
Курису Набору осведомился:
– Верно ли, что у вас в Урасима убиты все корейцы?
Хосокава многозначительно помолчал, улыбка превосходства скользнула по его полным губам.
– Быстро до вас дошло. Ну а вы что думаете делать со своими чонга?
Чонга – холостяк. Так презрительно называли корейцев, не способных к определенному возрасту создать семью. Семьей они не могли обзавестись потому, что у них не было земли, жилища, необходимых средств. Но именно за это и презирали.
Что делать с корейцами, знали все три собеседника. Курису лишь высказал сомнение:
– Сил у нас маловато.
– А мы поможем, – охотно откликнулся Хосокава. – Сейчас поеду посоветоваться со своими, потом дам ответ.
И вот теперь он выполнял свое обещание. К дому Курису Набору он приехал, когда уже стало темнеть, не слезая с лошади, вызвал его на улицу и по-военному проинформировал:
– Мы придем. Общий сбор у Нагая Акио в четыре часа утра. Оповестите всех своих.
У Курису Набору находился Мива Мацумаса. Вдвоем они тот71
час отправились к Касивабаре Дзюнси. А там был Митинака Тадао. Теперь одиночество гнало людей к чужому очагу, дома в пустоте не сиделось.
Все четверо выразили свое полное согласие принять участие в предстоящем деле. Тут же стали прикидывать, у кого какое имеется оружие, кого предстоит оповестить, чтобы пополнить отряд. После короткого совещания они быстро разошлись поднимать соседей, пока не стемнело окончательно.
К Судзуки Хидео пришел Мива Мацумаса. Судзуки Хидео одобрил задуманную расправу: конечно, корейцев надо убить, но он слаб здоровьем и мало пригоден для практических действий.
– Будешь стоять в засаде, – облегчил задачу Мива и для весомости добавил, что к сараю Конбэ идут все японцы.
Оставшись один, Судзуки долго мучился. Что было делать? Уже когда вышла ранняя луна, он собрался и пошел к соседу Ноозава за советом. Hooзaва считался человеком сведущим, мудрым, за ум его уважали во всей деревне, он мог подсказать, как поступить. Но соседский дом оказался пуст, и Судзуки пришлось решение принимать самому. После колебаний он все же достал старую самурайскую саблю.
Курису Набору догнал Хасимото Сумиеси, когда последний вел свою корову в Урасима, куда эвакуировались родители. Корову необходимо было доить; Хасимото поспешал ввиду предстоящей темноты – путь был неблизкий. Курису окликнул его, остановил.
– Завтра утром пойдешь с нами.
– Куда?
– А разве ты не слышал, какие зверства чинят корейцы над японцами? Ты не встречал японских беженцев? Мы решили уничтожить всех корейцев, живущих в нашей деревне, чтобы у нас не повторилось то же, что происходит в Эсутору и Маока.
У Хасимото Сумиеси было с избытком времени для размышлений, пока он отводил корову, но он не размышлял. Он мог лишь вообразить, что скажут ему руководители молодежной организации, где он состоял уже год, его сверстники, с кем вырос и учился тут, в деревне, если он не пойдет. Что подумают о нем уважаемые на селе люди? К таковым относился и его отец. Он имел пятнадцать гектаров земли, на лето нанимал двух работников. Крестьянский двор Сумиеси в деревне считался в числе лучших. Юноша был предан семье, предан своей молодежной организации. Он был вставлен в систему моральных зависимостей на селе, как патрон в обойму, и должен был выстрелить при нажатии курка.
По возвращении домой Хасимото Сумиеси приготовил к утру кинжал.
Нагая Акио, в доме которого Мориситой был назначен утренний сбор, готовился к предстоящему набегу с некоторым трепетом. У него не имелось оружия. Можно было бы найти тесак, но тогда пришлось бы подходить к человеку лицом к лицу, убивать его, видеть кровь. Именно это его пугало, а еще больше он боялся признаться самому себе в своей робости, что об этой робости узнают другие.
Тогда Нагая Акио обратился к Китияме Китаро, которому раньше продал ружье. Китияма, ни о чем не спрашивая, одолжил...
К Курияме Китидзаемон Морисита пришел в начале четвертого часа утра 22 августа. Следом подоспели Хосокава Хироси, Курису, Муфинэ Эцуро. Подняли спящих, Такахаси Иоримицу подал завтрак. Наскоро поели, стали выходить на улицу. Не без суровости Морисита обратился к Курияме, который, похоже, никуда не торопился.
– Ты что же, не пойдешь с нами?
– Я не молод, прибаливаю, – оправдывался Курияма. Видно было, что он уклоняется в такой ответственный момент, но разбираться не оставалось времени, и Морисита лишь отрубил:
– Обойдемся без тебя.
В пятом часу стали собираться у Нагая Акио. В доме за плотно занавешенными окнами тускло горела лампа с закопченным стеклом, но большинство прибывших внутрь не заходило, топталось во дворе. Порхал негромкий говор. Морисита спешно производил осмотр своего отряда, безоружным дали кому короткую саблю, кому охотничье ружье, кому тесак «ната», слегка изогнутый, постоянно наточенный. Он имелся в каждом доме, применялся для стесывания и колки очень мелких дров.
По подсчетам Мориситы, силы были достаточные, человек двадцать. Небо начало светлеть, и он распорядился:
– Пора выходить.
Разговор угас, отряд двинулся. Шли друг за другом без топота, размеренным шагом, как еще совсем недавно ходили на сенокос. Миновали молчаливый центр деревни, свернули в распадок, где нежно журчала Дайку-гава.
Около дома Ясуго Судзюро, когда до цели назначения оставалось метров полутораста, Морисита подал знак. Все остановились. Почти рассвело, в сером тумане явственно проступал дощатый барак...
Построил как-то японец Конбэ для своих хозяйственных нужд сарай, но толком не использовал, а тут пришел с выгодным предложением подрядчик Ямамото. Конбэ еще прошлым летом охотно сдал ему сарай в аренду. Ямамото в сарае прорезал четыре окна, выходивших на дорогу, вставил застекленные рамы, на правой половине настелил полы, а в левом углу отгородил небольшую комнатушку. В комнатушке обитал он сам с семьей – женой и пятью детьми. На правой стороне поселились стряпуха, старик, помогавший ей и жене подрядчика, да девять работников.
Прошлым летом Ямамото занимался ремонтом дорог, а нынче взял выгодный подряд у сельского кооператива на рытье осушительных канав. Сезонные работы диктовали свой режим, каждый день был на вес золота, отдыхали только в ненастье. Корейцы-землекопы горбатились с утра до вечера, спеша выполнить условия договора до осенних холодов и дождей. Жители Мидзухо изредка видели их спины, а в лицо знали лишь самого Ямамото, да и то не все. Жена подрядчика занималась детьми, шитьем, стиркой, ухаживала за мужем. Только старуха да старик могли пойти к деревенскому лавочнику за самым необходимым.
В бараке поднимались рано, уже кто-то из корейцев выходил на улицу, и Морисита поторопился с распределением обязанностей. С северной стороны, напротив окна, поставили Нагаи Котаро, Муфинэ, Судзуки Хидео, Курияму Мамору, еще несколько человек. Второй группе во главе с Киосукэ Дайсукэ и Какутой предстояло пойти со стороны зарослей. Самое ответственное дело – штурм – брали на себя Морисита и Хосокава. Инструктаж был строгий, Морисита требовал:
– Ни один кореец не должен уйти! Иначе всем японцам в нашей деревне будет очень плохо.
Хосокава добавил для тех, кто имел ружье:
– Будете стрелять в корейцев, так смотрите, чтоб не попали в своих.
Киосукэ Дайсукэ неожиданно предложил:
– Я сначала пойду в разведку, все высмотрю, потом подам сигнал.
– Нечего ходить, никуда они не денутся, – возразил Морисита, но Киосукэ уже пошел крадучись. Недисциплинированность одного могла осложнить выполнение всей затеи. Важно было не спугнуть, налететь внезапно, чтоб не разбежались. О том, что они могут вооружиться лопатами и дать отпор, он не допускал и мысли. Унтер решительно скомандовал:
– Сусумэ! Вперед!
Ловкий, натренированный, он быстро и бесшумно преодолел расстояние, отделявшее его от барака, рванул дверь и хищником прыгнул внутрь. Оттуда выплеснулся разноголосый крик, будто вспугнули птичью стаю. Хосокава бежал следом. В дверях он столкнулся с корейцем, пытавшимся выскочить из барака. Хосокава вонзил ему саблю в живот. Раненый закричал от испуга и от боли и схватился руками за саблю. Хосокава рванул клинок на себя, кореец с окровавленными руками и бурым пятном на рубахе рухнул. Дверь вновь хлопнула, и молодой кореец с тонким еловым колом в отчаянии кинулся на Хосокаву. Хосокава, защищаясь саблей, ловко отскочил, кореец запнулся, упал – его тут же настиг меткий удар ефрейтора-резервиста. Зазвенели разбитые стекла, изнутри и снаружи закричали:
– Убежал! Убежал! Догоняйте его!
Грохнул из своего ружья Касивабара Дзюнси. Глухое эхо покатилось по распадку. Кореец, у которого рубаха уже была обагрена кровью, упал. К нему кинулись Нагаи Котаро, Курияма Мамору. Раненый часто и громко кричал:
– А-а! А-а! А-а!
После удара Нагаи он затих, а несколько последующих вовсе лишили его жизни.
В бараке свирепствовали, и корейцы видели свое спасение лишь в бегстве через окна. На очередную жертву обрушился выстрел Чибы Масаси. Выстрелом он достал корейца: это было видно по окровавленному лицу и задетой груди, но несчастный все же предпринимал отчаянную попытку спастись. За ним кинулся Курису Набору, подбадривая себя криком:
– Бей его! Бей!
В несколько прыжков Курису догнал корейца. Тот, не зная, как защититься, выставил руки вперед. Он часто дышал, грудь его и живот под разрезанной рубахой колыхались, будто их изнутри раздували сильные мехи. Курису сначала ударил его по рукам, потом стал бить по голове, по плечам.
Тут еще один сделал попытку спастись. За ним, как на охоте, гнались Судзуки Хидео и Нагая Акио. Нагая держал ружье в руках, но, растерявшись, не стрелял, а лишь кричал, как будто другие этого не видели:
– Кореец бежит! Кореец бежит!
Было похоже, что убегавший ранений не имел, страх гнал его изо всех сил, может, ему и удалось бы скрыться, но тут он увидел вооруженного Курису Набору и растерянно заметался. Метрах в сорока от сарая Курису успел пронзить ему спину.
На Муфинэ Эцуро напоролся кореец со страшной раной через все лицо, видно, от сабельного удара. Муфинэ выстрелил и попал, бежавший завалился на бок. Но когда к нему подбежали, он встал и двинулся прямо на Нагаи Котаро. Кровь заливала ему лицо, он уже ничего не видел перед собой, обезумев от страха и боли. Нагаи встретил его сабельным ударом...
– Не пропусти! Не пропусти! – Это кричал Хосокава из окна вслед босому человеку в пиджаке. Митинака Тадао прицелился и выстрелил, но похоже было, что промахнулся, и беглец стал приближаться к зарослям. Ему наперерез бросилось несколько человек, однако Хосокава оказался ловчее. Он легко, не выпуская короткой сабли из рук, перебросил свое тело через подоконник и раньше других достал бежавшего ударом. Другие уже добивали.
Из сарая вывели Ямамото. След сабельного удара тянулся у него через всю спину, кровь текла по щеке, левой рукой он придерживал правую, которая, видно, была повреждена. К нему подскочил Киосукэ Дайсукэ.
– Ну что, больно? Больно или нет?
Киосукэ Дайсукэ, несмотря на свою плотность, прыгал вокруг израненного Ямамото. Он походил бы на мальчишку в уличной драке, желающего непременно досадить своему противнику, был бы вдругорядь просто смешон в своей излишней суете и крикливости, если бы не окровавленный вид подрядчика.
– Мне все равно, – отрешенно ответил Ямамото.
– Тебе не больно! – разъярился Киосукэ и пырнул корейца кинжалом в бок. – Тебе все равно!
Ямамото по-прежнему стоял.
– Ему не больно, ему все равно! – взвизгнул Киосукэ. – Бейте его!
Бросились бить. Били даже тогда, когда он рухнул и перестал подавать признаки жизни.
В бараке оставался еще один живой кореец.
– Выходи! – приказал ему Морисита. – Мы сохраним тебе жизнь.
Кореец повиновался. Прижимая руки к груди, он стал просить о пощаде. Он шел потихоньку, затравленно озираясь и надеясь на чудо. Пронзенный смертельным страхом, он лепетал как в бреду:
– Я не виноват, я ни в чем не виноват...
Когда он поравнялся с Хасимото Сумиеси, кто-то крикнул:
– Убей его!
Хасимото растерялся. Тогда Хосокава взмахнул саблей и грубо выругался. Хасимото показалось, что сэнсэй, свирепый учитель Хосокава, замахнулся саблей прямо на него, и он ударил молившего о пощаде корейца кинжалом в грудь.
Хасимото почувствовал невесть откуда взявшуюся злобу на свою покорную жертву. Лучше бы он убегал, тогда бы за ним погнались другие, кто ловчее Хасимото, они бы и убивали. Подавляя отвращение, Хасимото вонзил кинжал второй, потом и третий раз. Его поразило, как быстро стало мертветь тело корейца. Так и не закрылся расширенный рот, из глубины зева неприятно высунулся окрашенный кровью язык. Бил в грудь, а в крови оказался язык...
Наконец из барака вывели женщину. Одета она была в синее шелковое чогори – национальное платье, такого же цвета, лишь немного темнее, момпэ – шаровары; из-за ее спины, из оби – темно-вишневых лямок – выглядывала головка маленького ребенка, завернутого в синие, как материнское платье, пеленки. На руках женщина держала девочку, которой было годика два. На девочке была светло-синяя шелковая рубашонка и шелковое коричневое момпэ. Ее тонкие ручонки впились в материнскую одежду, она пряталась за голову, лишь глаза дико взирали. За руку женщина держала мальчика лет пяти. Личико его было измазано слезами, белая рубашечка спереди испачкана только что, короткие темные штанишки придавали ему вид неоперившегося птенца, выброшенного ветром из уютного гнезда. За материнское чогори цеплялись еще две девочки, старшей из которых было лет девять. Девочки различались лишь блузочками – розовой и белой, а момпэ было синее, как у матери. Дети мелко-мелко семенили, ужас переполнял их глаза, внутренние рыдания продолжали сотрясать их.
Это была Иосино, жена только что убитого Ямамото, и их дети. Мимо мертвого отца, не заметив, они прошли в двадцати шагах.
Неизвестно, как они сумели одеться в той кровавой кутерьме, как выдержали их сердечки, как устояли, не подкосились их тоненькие ножки. Но и женщина, и дети с их яркими одеждами, словно снятые с цветной картинки, явили неожиданный контраст только что случившемуся кровавому побоищу и смутили всех присутствующих. Никто не шевельнулся, не произнес ни звука.
Морисита приказал жителям Урасима идти домой, а тем, кто жил поближе, в Хатигосен, велел закопать трупы.
– Этих, – показал на женщину и детей, – я беру на себя.
Кажется, все вздохнули с облегчением, когда Морисита увел женщину и маленьких пленников.
Распоряжаться дальше стали Курису Набору и Касивабара Дзюнси. Из барака выволокли на одеяле труп женщины лет сорока, стряпухи Сиосунды Сейкити, с длинной резаной раной на ноге и окровавленным боком. Следом вынесли труп мужчины. У него было изувечено лицо и разбит пах, отчего брюки набухли кровью. Их оттащили в кусты, за глухую стену барака. Принялись убирать корейца, убитого Хасимото Сумиеси, но вдруг над долиной стал нарастать гул, переходящий в воющий свист.
В утреннем небе, соприкасаясь с первыми солнечными лучами, показались над долиной три краснозвездных самолета. Казалось, они летели прямо на барак, на участников набега и видели в деталях все, что делалось на земле. Японцы бросились в кустарник и замерли.
Лишь после того как гул затих, они, на сей раз не выполнив приказа Мориситы, поспешили сначала домой, потом к месту эвакуации своих семей.
* * *
Из протокола допроса обвиняемого Хосокавы Хироси 22 августа 1946 года.
«Вопрос: Данные судебно-медицинского исследования эксгумированных трупов корейцев свидетельствуют о том, что все совершенные вашей группой убийства носили характер зверств. Вы это подтверждаете?
Ответ: С актами судебно-медицинского исследования трупов я знаком, однако я не могу признать за собой вину в том, что убийства, совершенные нами, носили характер зверств. Убивая корейцев, мы не ставили своей целью причинить какие-либо мучения. Убийства в основном совершены саблями, вы сами понимаете, что с одного удара убить трудно, тем более что человек сопротивляется и убегает. Поэтому вместо одного удара наносили больше, т. е. до тех пор били, пока человек не умирал... Мы не думали, что эти убийства носят характер зверств, нам надо было убить корейцев, и мы их убивали, а как убивать, мы не задумывались. Важно было, чтобы все корейцы были убиты».