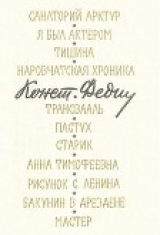
Текст книги "Повести и рассказы"
Автор книги: Константин Федин
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 34 страниц) [доступный отрывок для чтения: 13 страниц]
10
Спасаться, надо было спасаться. Какое бездушие окружало доктора Клебе! Все думали о себе, никто – о нем. В своем маленьком кабинете он валился на диван, вскакивал, брался за письмо, уничтожал, комкал написанное. Когда отбыла из Арктура сумасбродная мадам Риваш, у Клебе вырвалось внезапное напутствие:
– Пошла бы у старушонки горлом кровь, она узнала бы!
Он увидел, как застыло лицо доктора Штума, и тотчас разъяснил свою мысль:
– Несчастная особа – эта мадам Риваш. Я говорю: а вдруг у нее пождет горлом кровь?..
Легко было Штуму разыгрывать великодушие. Он получал жалованье главного врача в кантональном санатории. Он имел частную практику. А Клебе? Бедный Клебе!
Как-то раз, в поисках пациентов, он вспомнил молодую швейцарку, незадолго лечившуюся в Арктуре. Он написал ее отцу, что если не будет повторен курс лечения, то девушка заболеет обострением процесса. Отец немедленно прислал дочь. Она нравилась Клебе, он надеялся, что ее общество оживит Арктур. да и сама она была не прочь пожить в горах. Одним свободным местом в санатории стадо меньше. Но Штум, послушав больную, с прямодушной усмешкой сказал:
– Поезжайте-ка, дорогая, вниз, нечего вам тут делать, – у вас все хорошо.
Клебе проглотил эту бестактность: ведь он обязан был, наподобие пациентов, выполнять предписания лечащего врача. И в бешенстве он обругал Штума:
– Подумал бы, дьявол, хоть о больных, если ему наплевать па меня с моим Арктуром!
Все, что можно было измыслить, чтобы помочь Арктуру, Клебе давно измыслил. Если пациент начинал поговаривать о возвращении домой, он находил у него ухудшение. Если больной чувствовал себя слишком хорошо, Клебе думал: не споткнется ли он, если его отправить в увеселительную прогулку на санях или пристрастить к хождению на файф о’клокн в кургауз? В этих невольных и редко удававшихся умыслах Клебе не видел ничего дурного, потому что считал, что любит своих пациентов и заботится искрение об их долголетии. Майор сказал однажды:
– Наш добрый Клебе желает всем больным многая лета. Но только многая лета – в санатории Арктур.
И правда, доктор Клебе, в известном смысле, был похож на Англию, у которой мотивы высокого рыцарства всегда совпадают с мотивами выгоды. У него только недоставало английского юмора, чтобы свою корысть всегда представить благодеянием для человечества. Как Англия, он любил свое благородство, но нельзя сказать, что был готов защищать его любою ценой.
Он был воспитан европейским университетом, где медицина почитается гуманнейшей из наук, и в глубине души был верен воспитанию. Но происходившее с ним происходило не в глубине души, а на какой-то очень чувствительной поверхности, по которой даже не скользнул университет с его гуманизмом и которая привыкла, чтобы ей было хорошо. Этой поверхностью Клебе как бы ограждал неприкосновенность задушевных, глубоких чувств. Он верил, что если спасет Арктур, то исцелит своих больных. И не его вина была в том, что спасти Арктур могли бы только неисцеленные больные.
Клебе брался за перо. Он сочинял письмо германской химической фирме, чтобы она прислала бесплатно препарат кальция для научных испытаний в Арктуре. Он просил об этом уже не первый раз и каждый раз боялся получить отказ. Но фирма щедро рекламировала свой товар и присылала задаром целые пакеты пятикубиковых ампулок кальция, желая в вежливых сопроводительных письмах успеха научным опытам господина доктора Клебе и прося сообщить об их результатах. А господин доктор, тщательно порвав письма и замазав чернилами слово «gratis» на пакетах, выставлял каждый понедельник в счета пациентам каллиграфическую строчку: столько-то инъекций кальция по столько-то франков за ампулу, всего столько-то франков.
Набравшись решимости, он писал добродетельной фирме, что продолжает с хорошими результатами научное применение высокоценного препарата кальция и просит предоставить возможность довести опыты до желательного науке и уважаемой химической фирме конца. Он писал в четверг, прошлый понедельник был забыт, наступающий был далек, некоторое противоречие между посланием фирме и счетами пациентам сглаживалось временем, да и не противоречие беспокоило Клебе, – он тревожился, что иа этот раз за кальций придется платить, и его охватывал необоримый испуг, что именно кальций разорит санаторий вконец. А ведь надо было спасаться, спасаться!
Можно было бы пойти на худшее: брать в Арктур умирающих, которых с охотой отдавали на дожитие все санатории и особенно пансионы. Но это значило навсегда проститься с репутацией Арктура, как со счастливым местом, где выздоравливают, и прославить его похоронной конторой. К тому же Клебе, человек больной, отыскивал в судьбе других больных – свою, и смерти производили на него подавляющее впечатление, которое он должен был утаивать так же, как свою болезнь.
Бывало, знакомый врач из Люцерна посылал в Арктур больных, не находя у них ничего определенного, просто но дружбе с доктором Клебе. Но это происходило в безоблачное время, когда Клебе ничего не стоило пригласить люцернского друга, в сопровождении знакомых, отдохнуть в горах. Нынче друг присылал только открытки с видами Люцерна на рождество и на пасху.
Клебе решительно заклеил конверт, но, отодвинув письмо и придавив его кулаком, задумался. Хорошо. Допустим, еще раз прибудет кальций «gratis». Разве возместит бесплатное лекарство убыток, причиняемый отъездом пациента? Один какой-нибудь веснушчатый Вилли Бауэр выгоднее сотни ампул кальция. А вдруг уедет Левшин? Или Кречмар? Или Левшин вместе с Кречмар? То есть что значит – вместе? Они не могут уехать вместе, они уедут врозь. То есть как так – врозь? Значит, они уедут оба? Это не может быть. Кто-то должен остаться. Разумеется, кто-то останется. Однако, если кто-то останется, значит, кто-то уедет. Но ведь это кошмар, если кто-то опять уедет! Это просто нельзя вытерпеть. Сколько же останется пациентов? Англичан двое, майор – три, потом – четыре, пять, шесть. Шесть человек! А чтобы только покрыть расходы, нужно восемь. Не говоря о долгах. Черт возьми, шесть человек! Надо удержать хоть седьмого. Надо остановить Ингу. Она недавно получила деньги. А если она умрет? Нет, она не умрет. Пока у нее есть деньги, она протянет. Такие тянут долго. И Штум о ней заботится, – наверно, сам будет платить за нее, если она останется без денег. От него можно ждать, он юродивый. Значит, семь человек. Это все-таки лучше, – восьмого можно будет где-нибудь подыскать. А вдруг… вдруг англичане тоже… Нет, англичане не уедут. Пастору понравился Арктур. И он будет жить, хотя давным-давно кончилась его служба в кирке. Если англичанам что-нибудь понравится – они ведь тоже юродивые. Вот Левшин непременно уедет, его не удержишь, он слишком поправился. Может быть, Штум подействует на Левшина? И тогда пусть уезжает Инга. Инга Кречмар – тяжелый случай. Надо действовать, пока они не разбежались, все эти калеки… О боже!..
Кто-то постучал в дверь, Клебе встрепенулся. Вошла Лизль с ведром.
– Можно помыть пол, господин доктор?
Он подошел к ней. Она была в фартуке из розовой клеенки, черные кудри ее растрепались, на верхней губе сквозь темный налет пушка проступили капельки пота, – Лизль только что вымыла лестницу на всех четырех этажах. У нее был очень задорный вид, особенно из-за кудрей.
– Ну, что же, Лизль, – облегченно сказал доктор, – когда мы поженимся?
Она засмеялась и вытерла губы сначала одним плечом, потом другим.
– Я не шучу. Мне надоел этот большой дом, я его брошу и уеду куда-нибудь с вами.
– О, – сказала Лизль, – бросить большой дом!
– Черт с ним. Мы поселимся где-нибудь тут же, в горах! Здесь есть хорошие места, около Глариса или Визена. Купим маленький домик, вы заведете хозяйство.
– О, – сказала Лизль, – такой маленький домик! – и оттопырила пухлый, коротенький красный мизинец.
– Будем делать, что захотим, – сказал доктор.
– А если я захочу в кино?
– Поедете в Сан-Мориц.
– А если танцевать? Ведь вы не станете со мной танцевать.
– Можете танцевать с кем вздумаете, я не ревнивый.
– Ну, если не ревнивый – ищите себе другую. Я люблю итальянцев: вот это раса! Я с одним гуляла, думала – на мне живого мяса не останется: он меня всю исщипал.
– Если хотите, чтобы; вас щипали… – беспечно сказал доктор, подвигаясь к Лизль.
Она еще раз вытерла лицо плечами.
В ото время раздалось кашлянье за дверью, доктор отскочил к столу и начал стучать пресс-бюваром но письму.
– Войдите! – крикнул он, усердно разглядывая на свет давно просохшие чернила.
Вошел майор.
– С прогулки? Фён, кажется, утихает?
– Ничуть не утихает! Я хочу вам кое-что сказать, господин доктор.
– Пожалуйста, – пропел Клебе и повел взором туда, куда глядел майор.
Лизль принялась мыть пол. Кудри у нее раскачивались, густо занавешивая лицо. Синела выбритая шея. Руки размашисто перекатывали тряпку по полу, с чваканьем отжимая мутно-зеленую воду. И так хорошо был виден крепкий торс, гибко поворачивавшийся из стороны в сторону, следом за руками, и сильно сбитые, тяжеловесные бедра.
Майор и доктор, замолчав, смотрели на Лизль, как будто открыли что-то никогда не виданное и поражающее до глубины души. Потом доктор вдруг взял майора за локоть и повернул к двери.
– Так пойдем же отсюда, милый господин майор, – что здесь стоять?
В коридоре майор не сразу заговорил, отгоняя золотой сон. Когда доктор притронулся к нему, как к человеку, которого, желая разбудить, боятся испугать, он сказал:
– Да. да. Не обижайтесь на меня, господин доктор. Я понимаю, вам. трудно. И не думайте, что я не дорожу вашими заботами.
– Когда? – безжизненно вставил доктор.
– Еще не знаю. Еще не решил – куда. В Лугано или в Локарно. Но если я теперь не поеду вниз, я останусь здесь навсегда. Пришел час, Я человек военный, я слышу зорю, надо свертывать лагерь.
Они пошли наверх, оглашая лестницу домовитым поскрипыванием ступеней, и расстались замкнутые, чуть кивнув друг другу: майор – к себе, доктор Клебе – к Инге.
Он не мог исполнить свою программу – как самочувствие? температура? – самообладание покинуло его, or говорил без прикрас. Сгорбившись, потирая руки, он топтался по комнате или становился перед зеркалом, спиной к Инге, пожимал плечами и словно удивлялся – что там за человек в белом халатике вздрагивает от озноба, растирает ладони и бормочет.
– Разочарование, милая фрейлейн Кречмар, о, нам знакомо разочарование. Мы иногда жестоко раскаиваемся в привязанностях. Больной, которого мы возрождаем к жизни, делается нам близок и мил. Мы гордимся им, мы радуемся с ним вместе. А те, которых, несмотря на наши усилия, мы не в состоянии излечить, те нам еще дороже, еще любимей. Как для матери – несчастное дитя. Но кто поверит, что тобой руководят веленья альтруизма и науки?
– В самом деле, кто поверит? – сказала Инга.
Но Клебе не слышал ее.
– И что же мы получаем в ответ? Стоит пациенту поправиться, как он забывает обо всем и готов на любое легкомыслие. Возьмите майора. Он даже не поправился. Он убьет себя, если поедет вниз. А он едет. Возьмите Лев-шина. Один неосторожный шаг, и усилия, которые дали такой отличный результат, полетят в пропасть. А Левшин решил тоже уехать. И его не переубедишь. Он подозревает в моих уговорах нечто эгоистическое. Эгоизм – и я! Боже мой! Вот и еще одно разочарование!
Клебе поднял руки над головой и обернулся к кровати. С этим жестом, слегка напоминавшим библейский, он постоял несколько мгновений, словно обращаясь в столп. Инга смотрела на него немигающими глазами и так сжала губы, что номада стерлась, и они побелели. Даже ее обычный тик исчез – кожа на лбу разгладилась, точно омертвев. Он подумал: не отступить ли, не обратить ли все в болтовню или, может быть, решительнее напасть на Лев-шина, чтобы доказать правдивость своих слов о нем? Но Инга как будто и не сомневалась в его словах. Только во взоре ее Клебе увидел заточенную в острие ненависть, и острие было наведено не прямо на него, а куда-то совсем близко, рядом с кончиком уха, и от этого Клебе зябко передернуло. В тот же момент лицо Инги настолько выразило перенесенное испытание болезнью, что он понял: плохо! – и сразу нашел, как следовало действовать.
– Совсем забыл! – воскликнул он, щелкнув ладонью по лбу. – Платежный день! Сегодня у Арктура платежный день. Явятся считать мои бедные сантимы. Простите, милая фрейлейн Кречмар, простите.
Он выбежал, немного ободренный своей находчивостью: как-никак, пациенты лежали и лежали, а он платил и платил. Благородство было не на стороне пациентов.
Инга долго оставалась неподвижной.
С далекой дороги прилетел звон бубенцов и тяжелый топот копыт, слегка чвакавших по талому снегу. Потом возникла в хрустальном воздухе и стала переливаться, как струя воды, тирольская фистула: ули-ула-ули-уло, – то замирая на высокой ноте, то обрываясь на каком-то птичьем хохоте. Горы громко вторили песне, и когда она прокатилась, еще некоторое время вежливо побулькали фальцетом.
Нестерпимая тоска явилась в комнату с этой вечной шутливо-грустной песней гор и вытолкнула Ингу из неподвижности к действиям, которые всего несколько минут назад показались бы ей удивительными. Одежда, давным-давно неприкосновенно хранившаяся в шкафу, вдруг понадобилась. Выискивание, разглядывание чулок и белья – процедура, чуть-чуть возбуждающая женщину, увлекла Ингу новизною, но она словно боялась отвлечься от главной мысли, ведшей ее, как гипноз, и одевалась быстро, почти небрежно. Даже лицо она разглядывала мельком и, только все окончив, посмотрела на себя в зеркало продолжительно, задумавшись над тем, что похудела, но что, впрочем, всегда была худой, и это ей шло. Каблуки опять стали ей внове, точно она – школьницей – получила в подарок от отца первые туфли на французских каблуках, и подгибались колени, и сводило икры, и шаги делались все меньше, меньше и вдруг остановились около комнаты, в которую она входила первый раз.
– Можно! – расслышала она голос Левшина.
Насилу разжав стиснутый кулак, она взялась за холодную ручку и дернула дверь. Ей казалось, для этого нужна решимость, похожая на ту, какой набирается человек, когда ложится на операционный стол. Но едва она перешагнула порог, ее окрылило спокойствие, и, легко миновав комнату, она вышла на балкон к Левшину. Он встретил ее изумленьем.
– Вам разрешили встать?
– Неужели всю жизнь я должна спрашивать на каждый шаг разрешение?
– Что-нибудь переменилось?
– В чем?
– Я не знаю. Может быть, в вашем состоянии.
– Вас это интересует?
– Если вы встаете, одеваетесь, приходите к соседу…
– К соседу? Ну, что ж, мой дорогой сосед! Я чувствую себя хорошо. Настолько, что хочу и буду вставать.
– И Штум, конечно, того же мнения?
– Штум? Я еще не знаю его мнения. Я очень люблю Штума, но ведь, право, мое самочувствие вряд ли от него зависит.
– Я считал – именно от него.
– Ну, если хотите… Штум настоял на пневмотораксе. До того у меня не бывало кровотечений, плевритов. Теперь… Прямая зависимость от Штума, не так ли?
– Вот профессия, которой ничего не прощается: медицина!
– Я не виню Штума.
– Его нельзя винить, он человек доброй воли, – сказал Левшин.
– Я говорю, что люблю его. Это мало? По-вашему, я должна ему поклоняться?
– Не знаю, как это назвать. Но, чтобы сомневаться в нем, вы должны сначала исполнить его требования. Положим, вы и без того чувствуете себя хорошо.
– Надо же когда-нибудь это сказать! Иначе меня ждет судьба майора: будет страшно спуститься на два метра ниже Давоса.
Инга села в ногах Левшина, как не раз садился он к ней.
– В конце концов все расстаются с Арктуром, – сказала она, глядя в сторону. – И я решила уехать тоже.
Он не отозвался. Ее голос слишком плохо скрывал неуверенность или даже неверие в то, что она говорила.
Можно было думать, что никакого решения она не принимала и просто все та же капризная болезнь проявилась во внезапности ее прихода, в рассчитанности речей.
– Ведь вот вы тоже уезжаете, правда? – спросила она, как будто мимоходом, но тотчас рывком повернулась и взглянула Левшину прямо в глаза.
Это была слишком явная уловка, желание в чем-то поймать, обличить, и возмущение приливом хлынуло в голову Левшина.
– Да, – сказал он, – я уезжаю. Меня вызывают на службу.
Они не спускали взгляда друг с друга. Левшин слышал, как бьется пульс в его висках. Какую-то навязчивую зависимость старалась установить Инга между ним и своей судьбой. А его угнетало сострадание к ней, он не хотел быть нянькой ее болезни. И с упрямством, едва ли не с озлоблением, он повторил ложь:
– Вызывает служба. И притом – немедленно.
– Жалко, что я это узнала от посторонних, – проговорила Инга. – Прощайте.
Она подала ему руку с похолодевшей от влажности ладонью.
– И вы поедете вниз, несмотря на весну? – словно в последнем раздумье спросила она, уже обернувшись, чтобы идти.
– Почему же? Ведь вот даже вы не боитесь весны, – сказал Левшин низко осевшим голосом.
Он сразу почувствовал безжалостность своего словечка «даже», но ведь именно к безжалостности он себя звал, и ему стало легче, что Инга не обронила больше ни слова, и не взглянула на него, и ушла, правда немного странной походкой, точно впервые надев туфли на высоких каблуках.
Чтобы успокоиться, он поднялся с шезлонга, пошел в комнату. В зеркале он заметил покрасневшие от возбуждения глаза и признался, что ему стыдно своего вранья.
Когда кто-то подошел к двери, он встревожился, решив, что возвращается Инга и снова потребуются объяснения. Но вошел Карл.
– Записка от господина доктора. Будет ответ?
– Спасибо. Потом.
Конверт был тщательно заклеен.
«Уважаемый господин Левшин. Должен раскрыть Вам свой план, который облегчит столь необходимое для Вас дальнейшее лечение в Арктуре. Я взял смелость сказать фрейлейн Кречмар, что Вы якобы уезжаете. Не сомневаюсь, это ускорит ее отъезд, к которому, кстати, она давно готовится. Если бы Вы пожелали на несколько дней поехать в окрестности, чтобы рассеяться, то к Вашему возвращению фрейлейн Кречмар несомненно покинет Арктур, Зато Ваше пребывание здесь никто не будет отягощать, что мне доставит истинное удовольствие.
Преданный вам д-р Клебе».
Левшин скомкал письмо, швырнул его на умывальник, вылетел на балкон. Итак, все было проделкой доктора Клебе – непрошеного стряпчего и мастера благодеяний.
Левшин заново увидел Ингу, неуверенной поступью выходящую из комнаты, и в этот раз ясно понял, что оскорбил ее, хотя, сам того не зная, лишь продолжил начатый другим обман.
Он стоял, прислушиваясь к тому, что в нем происходило, Неизменная, насыщенная покоем даль простиралась перед Арктуром. Изломанные заледенелые вершины, в подножиях – темные окаймления лесов, едва заметные в снегах избушки пастбищ на склонах, неподвижное солнечное небо. Как привычно вселяло это в него спокойствие и ровность! Нет, Левшин не совершил ничего несправедливого, ему нечего поправлять, а ложь, доброе намерение лжи, – оно хорошо послужит и ему, и несчастной Инге.
– Правда, – сказал себе Левшин, – поехать в горы. Здешняя жизнь дала слишком большой отстой. Его надо взболтнуть.
В самом деле, не покушением ли на его свободу были все эти претензии Инги? Она обижалась на то, что он не давал ей повода обижаться. Укоряла тем, что у него не было перед ней никаких обязанностей. Нелепое, смешное положение!
Он услышал накатившийся издалека отголосок озорного фальцета: ули-ула-ули-уло – и согласно тряхнул головой его игривому призыву.
11
Поезд проходил мимо ущелья, в котором лежал Клавадель, и Левшин отвернулся от окна. Тотчас зазвучал в памяти рожок клавадельской почты. Каждый, кто отдал частицу бытия балконам Арктура, вкладывал в наивную мелодию свое особое чувство. Для Левшина это был зов к жизни. И сразу ему вспомнился разговор о Клаваделе с Ингой и то, как она слушала этот напев, бывший для нее тоже какою-то мечтою. Чтобы не помешать давно сложившемуся влекущему представлению о Клаваделе, не следовало видеть живую картину, наверно прекрасную, но несходную с воображаемой. Может быть, придется встретиться с Ингой, и она спросит, что такое Клавадель, и тогда будет легко ответить, что Клавадель – та самая мечта, которая ее занимала на балконе Арктура.
Это первое, немного грустное воспоминание об Инге улетучилось, как только Левшин миновал окрестности Давоса. Поезд шел в гору, останавливаясь на крошечных станциях. Теснее подступали к дороге вершины, темные скалы и камни все неувереннее выглядывали из-под снега.
В Филизуре Левшин побродил вокруг станции. Она торчала на обрыве, падавшем в узкую, запертую почти со всех сторон Альбульскую долину. На самом краю обрыва стоял фонтан – каменный столб с длинным краном, из которого струя отточенно падала в водоем, похожий на колоду, глуховато бормоча и выбивая серебряные подскакивающие брызги. Рядом покоился снег, недавно выпавший, рыхлый, с кружевной талой корочкой. Глубоко внизу горбилось кучное селение с остренькой, как шило, киркой, тоже заснеженное и чуть подернутое туманом – свинцовым в тени нависшей горы, дымчато-желтым на солнце. И сюда уже взобралась весна, но ей было трудно управиться: Левшин ясно ощутил нерушимое и словно предупреждающее дыхание близких ледников. Но в холоде, в снегах, в тумане долины содержалось столько чистоты, что день был похож на весенний, и незамерзающий фонтан своим бормотаньем как будто намекал на весну.
Весь путь не оставляло Левшина чувство приближения к весне, а он приближался к полосе вечного снега. Нагромождения, плывшие мимо, за окнами вагона, были фантастичны, и поезд, будто не веря, что можно пробраться по скалам, висящим над провалами ущелий, все время, чуть дыша, оглядывался на свой выгнутый хвост. Под Бергюном вагоны медленно взмывали в высоту, как летающие снаряды, и постепенно из-под ног вывертывался штопор пройденной дороги, на гигантских завитках которого были нарезаны виадуки, друг над другом, и с верхнего нижние казались сложенными из табакерок.
В Энгадине солнце пронизывало долину тихим довольством. Оттаявшие лунки вокруг деревьев свидетельствовали о готовности возрожденья. Но подъем но бернинской дороге раскрыл все высокомерие природы: суше, бесстрашнее сделалась синева неба, дунул ветер, ударив в широкие стекла вагонов, снежные поля кинули на поезд ослепляющие отсветы. И тогда над пустынями сугробов, заваливших ущелья, над изломами небрежно раскиданных вершин, поднялся с видом ко всему безразличного превосходства отрог великого горного содружества Бернины – окоченелый ледник Мортерач. Он не спеша опрокинул на ничтожный поезд отблеск солнца, сам как солнце, – и поезд зажмурился, замигал занавесками своих туристских окон и, словно пристыженный, еще незаметнее пополз вверх, в сторонке от крошечных, как спички, телеграфных столбов.
На первой остановке после перевала Левшин вышел из вагона. Это была безлюдная станция, никого не оказалось на перроне, никто больше не подумал расстаться о поездом, и он исчез под горой быстро, точно поскользнувшись. Всего два строения виднелись вдалеке: на тучной скале возвышался двухэтажный отель и пониже, в ее подножии, прикорнул павильон ресторана. Вытоптанной в заносах тропинкой Левшин пошел к отелю: рушился колючий, ледяной ветер, и хотелось скорее под крышу. Огромная вывеска, наращенная на скалу, оповещала о названии станции и приюта – Альп-Грюм, а также о том, что с террасы отеля такой-то высоты над уровнем моря открывается самый чудесный вид на ледники. Швейцарский крест на фундаменте террасы государственно скреплял бесспорность этого заносчивого утверждения.
В доме пахло протопленными печами, вода в умывальнике согрелась, комната сразу обнимала укромностью, тянуло подойти к незамерзшему окну.
Там, под ногами, тысячеметрового пропастью проваливалось сине-голубое пространство, непонятно сочетая полет с остолбенением. На дне обрыва колебались полутона зимующих садов Вельтлина, струясь долиною к соседним гребням Итальянских Альп. Величие здесь было так общедоступно, что нескончаемость далей за окном показалась Левшину просто составной частью дома.
Он испытал новое, легкое чувство телесной певучести, ему захотелось с кем-нибудь разделить его, и он опять вспомнил Ингу: какая жалость, что ее нет поблизости и что она так ужасно больна!
Он достал привезенные книги, сел к столу, перед окном, отыскал нужную страницу, положил на нее ладонь и долго смотрел через стекло в пропасть долины.
В воскресенье с поездом приехало много туристов. Левшин увидел их, когда они цепью потянулись по тропинке к гостинице. Они несли лыжи на плечах, их шествие было похоже па марш воинов с копьями. Вдруг в самом конце цепи Левшин разглядел знакомую фигуру. Это была доктор Гофман, она шла без лыж, он узнал ее по походке.
Он пошел встретить ее на крыльцо. Она раскраснелась и очень понравилась ему, – такой непринужденной, веселой он ее не знал.
– Меня послал Клебе – посмотреть, как вы тут живете.
– А если бы не послал, вы не приехали бы?
– Возможно. Ведь вы также и мой пациент, не только доктора Клебе.
Ей было к лицу даже лукавство, и вообще она была новой – без важного халата, в джемпере, завязанном на шее ярко-красным шнурком с кисточками.
– Как здоровье фрейлейн Инги?
– Ничего. Хорошо.
– Она собирается уезжать?
– Да. По-видимому.
– Почему вы хмуритесь? Вы думали, я не спрошу об Инге?
– Я не думала, что спросите о ней прежде всего.
– Но мы же все-таки поздоровались.
– Я думала – немного попозже.
– Немного позже, немного раньше – не будем аптекарями.
– Ну, не будем аптекарями. Спрашивайте.
– О чем?
– Об Инге.
– Я уже спросил. А вам хочется о ней говорить?
– Нет, ведь это вы начали.
– Я уже кончил. А вы все говорите.
– Да это вы говорите!
Они засмеялись.
– Вот какой план, – сказал Левшин, – сначала гулять, потом обедать.
– Принимаю.
– Или, может быть, хотите наоборот?
– Я хочу, как вы. Вы здесь хозяин.
– Здесь – в горах?
– И здесь – в горах, и здесь – в комнате.
– Тогда идемте.
В маленькой пристройке холла они примерили башмаки с кошками, обулись в шерстяные носки, взяли палки. День был безоблачный, солнце заметно грело, но тропинки звенели под железными шинами башмаков: холод держался стойко.
– Погодите, – сказала Гофман, снимая рюкзак, – я взяла очки, и, кроме того, мы должны намазать лицо вазелином, от солнца.
– Да ничего не случится.
– Нет, погодите.
Она принялась старательно натирать себе лицо, уши, потом мазнула по щеке Левшина. Он вытерся платком, она, смеясь, мазнула еще раз, и он растер мазок по всему лицу. Они надели дымчато-зеленые очки.
– Вы любили наряжаться? – спросила она.
– Я любил устраивать цирк.
– А я любила маски.
– Белый халат, инструменты в кармашке, правда?
– Ничуть не ново.
– Я вас всегда видел такой.
– Сегодня – не всегда.
– Я вижу.
Она пошла впереди. Тропинка шириною в ступню требовала осторожности, идти надо было расчетливо. Гофман иногда останавливалась, поэтому приходилось смотреть за ее шагом с двойным вниманием, она была слишком близко перед глазами, он видел только ее.
– Пустите меня вперед, – сказал он.
– С условием: чередоваться.
– Хороню.
– И как устанем, так – стоп.
Они поменялись местами.
Путь вел к перевалу, и скоро начался подъем. Ледник громоздился над окрестностью тупо, давя собою все вокруг. Они шли долго, а он не двинулся, и стало казаться – от него нельзя уйти, можно идти вечность, он все равно будет стоять рядом. Сквозь очки он был матовозеленый, светлый, как прозрачное бутылочное стекло, небо над ним – клеенчато-жесткое, серое.
Когда склон преградили камни, тропинка исчезла. По сторонам вычеркнулись и пропали лыжные следы, ноги начали проваливаться, шагать дальше стало слишком трудно. Левшин забрался на оголенный ветром камень, подал руку Гофман, и, держась друг за друга, они огляделись. Ледник стоял рядом. Все вокруг будто извинялось перед ним. Они сняли очки и попробовали взглянуть на него. Он хлестнул по глазам сиянием плавильной печи. Они зажмурились.
– Сколько, по-вашему, до него? – спросила она.
– В полдня вряд ли дойти.
– С вами и в день не дойти, – сказала она, улыбаясь и слегка толкнув Левшина.
Он не устоял на камне и, спрыгивая, потянул ее за собой. Чтобы не дать ей упасть, он обнял ее, и они смеялись, ослепленные снегом, в снегу по колена. Густо намазанные лица лоснились, поблескивали, это смешило еще больше. Мешая друг другу, они выбрались из сугроба, и ему не хотелось разомкнуть руки, он сжал ее крепко и рассматривал ее улыбку, открывая в ней что-то неожиданно влекущее. С ласковой настойчивостью она отстранилась и надела ему и себе очки.
Обратно она опять шла впереди, и в нем уже внятно росло беспокойное влечение к ней, и если бы она вздумала еще раз поменяться местами, он отказался бы.
Проголодавшиеся, в приятной усталости, какую дает зима, они добрались до ресторана. Припекало, и можно было устроиться на открытой террасе, гнездившейся над обрывом. Пухлая коротыга-итальянка принесла скатерть и карточку с нехитрым перечнем национальных блюд. Остановились на спагетти и бутылке кьянти, Левшин попросил коньяку. Все это расцвело на солнце торжествующими красками довольства – янтарь коньяка, кровяные пятна томатной подливки на спагетти, прозрачное, мясо – красное кьянти, бутыль которого, в неизменной соломенной плетенке, стала очень быстро пустеть. Закапали сыр и кофе, и это так же скоро исчезло.
После обеда подошли к перилам, облокотись, смотрели в обрыв, изредка поворачивая друг к другу головы. Тогда близость взгляда становилась смутной, и нельзя было сразу поймать привыкшие к глубине обрыва зрачки.
Высоко над террасой, как над гнездом, ныряли с тонким паническим свистом альпийские галки, похожие на обрывки черной бумаги, пущенные по ветру.
– Они что-то предвещают, – сказала Гофман.
– Вы путаете их с воронами.
– Это одна порода.
– Вы хотите сделать их вещими лично для нас?
– Я думаю только о нас.
– Тогда я согласен, – улыбнулся он, – в этом свисте есть что-то обещающее.
Он купил бутылку чинцано, и довольная итальянка старательно закатала ее в бумагу.
– Теперь домой, – сказал он.
В гостинице они переобулись в той же пристройке холла. За их отсутствие комнату протопили, и было очень тепло.
Стоя рядом у окна, они глядели в солнечную пропасть Вельтлина и дальше – на снежно-синюю горную кайму, и было так, будто продолжается только что прерванное глядение в обрыв, и так же смутно колыхнулись встретившиеся глаза.
– Это – вино, – сказала она.
– Нет, – сказал он и, притягивая ее к себе, почти поднимая, отвел от окна.
Страсть вытеснила собою все, а потом исчезла сама, и они, точно обманутые ею, услышали продолжавшуюся вокруг них жизнь: на крыльце стучали лыжами, в холле вежливо пробили часы, вдруг заговорили и весело затопали в коридоре. Он поцеловал ее в висок, туда, где под тонким пушком чуть бился пульс. Она казалась ему очень растроганной, и ему хотелось быть нежным.








