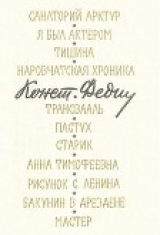
Текст книги "Повести и рассказы"
Автор книги: Константин Федин
сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 34 страниц) [доступный отрывок для чтения: 13 страниц]
Но за кулисами фон Сезмон неожиданно прошипела:
– Сколько вы заплатили за эти чудесные цветы?
Ее тон ошеломил меня, и я оперся о косяк. Надменная, она прошла мимо, высоко подбирая взбитые, воланчатые юбки.
Тогда ко мне подошел Генрион, певший судью, и, поправляя парики (на нем было три парика: во-первых, своя постоянная накладка с проборчиком, затем парик-лысина, который должны были обнажить в сцене базара крестьянки, стащив с судьи верхний, третий парик-букли), налаживая все это сооружение, Генрион подмигнул и показал на цветы.
– Ну, что? Этот красный веник, наверно, от твоих земляков? Скажи им, что они забываются. Это у вас в России случилась революция, а у нас пока все на месте.
– Пока на месте, – сказал я, поворачиваясь и уходя.
– Что такое? – крикнул Генрион. – Что ты сказал?
– Я говорю – я не знаю, от кого эти цветы.
– Смотри!
Я ушел в уборную. В глазах хористов мелькало что-то смешанное подозрение, неудовольствие, усмешка.
Я перебирал в уме, кого можно было бы заподозрить в желании польстить мне, или раздосадовать меня, или подшутить надо мной. Неожиданно что-то уверенное и счастливое пролетело через мое сердце: никто во всем городе, никто в целом мире, никто, кроме Гульды! Я пересмотрел весь букет, каждый цветок – ни письма, ни записки, никакого знака или намека. Так я убедился, что цветы – от нее.
В финале, во время бурного квинтета, прямо против меня, в ложе, я увидел ее. Я узнал ее сразу, по худой и такой особенной неслаженной руке, по одному сгибу руки, державшей бинокль, по наклону головы на тонкой и удлиненной шее. Лицо ее находилось в тени, и я не мог долго вглядываться в него, но нечего было уверять себя дольше: это была Гульда.
Я насилу дождался занавеса. Мне надо было переодеваться, снимать грим, а за это время, как ни длинны были бы очереди у театральных вешалок, публика, конечно, должна была разойтись. Я торопился больше, чем перед началом спектакля. Вылетев из театра и подбежав к главному подъезду, я увидел только отдельные исчезавшие в полумраке фигуры. Я остановился. В тот же миг отворилась крайняя дверь, и вышла Гульда. Я узнал бы ее в кромешной тьме. Я понял, что она стояла за дверью, глядя на улицу через стекло. Я бросился к ней. Она пошла быстро, почти бегом.
– Мы помирились, да? – говорил я тихо, шагая следом за нею. – Ответь, скорее ответь. Я не могу больше ждать. Я не могу без тебя!
– Ты с ума сошел, – быстро сказала она, – нас увидят!
Я только приподнял воротник пальто.
– Все равно.
Она повернула в переулок. Я крепко взял ее под руку.
– Милая, милая!
Она все время молчала. Ничуть не уменьшая шага, мы носились по глухим улицам, в темноте. Небольшая площадь с киркою показалась нам особенно надежной по безлюдию. Мы долго ходили вокруг кирки, посередине площади.
– Все равно, – изредка повторял я. Потом я вспомнил ресторан, у которого был глухой черный вход из узенького, как трещина, проулка.
– Все равно, – наконец легко сказала Гульда.
Мы забрались в трещину, мимо пустых винных бочек проскользнули в низкую дверь и очутились в маленькой нише, отделенной от ресторана занавеской. Появился сухорукий хозяин, всепонимающе, гостеприимно улыбнулся и задернул здоровой рукой занавеску. Впрочем, ресторан был совсем пуст.
Мы уселись за дубовый намытый, выскобленный стол, на такие же дубовые теплые скамьи. Мы взяли друг друга за руки. Я рассматривал каждую черточку лица Гульды беспамятно и жадно. Она второй раз рождалась для меня, бесконечно знакомая и так удивительно новая. Улыбка, с которой она отвечала мне взглядом, светилась и, наверно, освещала меня.
Так прошло много времени. Гульда закрыла мне глаза ладонью. Пальцы ее были горячи и костлявы.
– Надо что-нибудь заказать, – сказала она.
– Вина, – ответил я.
– Шампанского, – сказала она и тотчас повторила:– Шампанского! Давай разопьем с тобою ту бутылку, которую тебе проспорил наш химик!
– Две бутылки, – поправил я.
И, счастливые, мы хорошо засмеялись.
9
Лагерь лежал близко от города. Он был обнесен колючей проволокой, и между нею и задними стенами бараков, без окон и дверей, ходили ландштурмисты.
В лагере содержались солдаты – русские и французы. Летом, во время вызревания хлеба, пленные предпринимали побеги, в колосьях можно было прятаться, а зерном, хотя бы и неспелым, – кормиться. Осенью начинались самоубийства. И летом и осенью, во все времена года пленные мерли от голодного истощения. Позеленевшие жеваные шинели висели на людях, как на вешалках. В больничных палатах для хроников случается больше оживления, чем бывало на лагерном дворе. Пленные двигались вдоль бараков серыми тенями. Лагерь был скопищем обреченных, которых власти утешали вечным и единственным припевом: «Вам тут хорошо, а каково-то нашим у вас, в Сибири?»
Почти каждый день в лагере бывали похороны. Магистрат отвел для пленных участок на окраине городского кладбища, подальше от мраморных надгробий с задумчивыми ангелами и урнами. Сомкнутым солдатским строем разрастались там ряды черных деревянных крестов.
Общение пленных с внешним миром каралось без пощады. За похоронами постоянно наблюдал караул ландштурма под начальством офицера. Обыватели не подпускались близко, но среди них находились поклонники русских панихидных напевов, и на кладбище, поодаль от ландштурмистов, которые замыкали пленных, всегда собиралась кучка любителей пения. Утренняя газета посвятила хору пленных специальную статью, имевшую – из-за частого упоминания слов: «Византия, ориент, ортодоксия» – крайне научный вид, благосклонно отозвалась о голосах и о хоровом регенте по фамилии Баринов. Этого Баринова оставили в лагере только из эстетических соображений, потому что, если бы не хор, его нашли бы годным для любых работ – статного, ширококостного, как грузчик, белолицего усача.
В солнечный день, проходя мимо кладбища, я загляделся на плющ, глухо укрывавший каменную ограду. Его темная лоснившаяся, маслянистая листва, плотная и неподвижная, тяжело насыщенная влагою и густой краской, казалась мертвой, как металлические листья венков. Растение скорби, оно навевало тоску.
Вдруг я услышал гортанное пение хора в унисон. Оно изредка переходило в двухголосое и опять сливалось в один голос странного альтового тембра режущий, словно кричащий от нестерпимой обиды. Пели за оградой. Я быстро дошел до ворот и, пробравшись проспектами из памятников до кладбища пленных, присоединился к немногим почтительным штатским ротозеям.
Происходило нечто торжественное. Пленные французы и русские выстроились под углом друг к другу. Между ними, внутри угла, стоял патер, против него, поодаль, комендант лагеря и молодой офицер – начальник караула, опоясавшего все поле действия. В центре черных крестов возвышался, в рост человека, гранитный камень, заостренный вверху, декорированный зеленью снизу. Венок из плюща был прислонен к камню, и привязанная к венку германская черно-бело-красная лента клубилась на земле.
Патер глядел себе в ноги. Комендант лагеря – низенький майор – положил руки на эфес могучей сабли, и у него был такой вид, точно он был вынужден терпеть противное его воспитанию.
Французский хор пел по-латыни, обиженными высокими тенорами распиливая прозрачный воздух. Это было даже не пение, а какие-то свитые болью вопли, мерно бросаемые в солнечное, спокойное небо.
Когда французы кончили, их регент взглянул на Баринова, стоявшего против него, во главе русских. Баринов повернулся лицом к своим, поднес к губам камертон-дудочку, затем промурлыкал нужные тона и, строго растопырив локти, тряхнул головой. Началось многоголосое пение, иногда стихавшее до шепота, а то поднимавшееся до погребальных рыданий.
Я разглядывал бескровные лица пленных, стараясь что-нибудь угадать за их внешним больным безразличием. Неожиданно мне стало не по себе, как случается, когда чувствуешь чей-нибудь неотступный взгляд. Кто-то непременно должен был смотреть на меня, я озирался, но безрезультатно. Вдруг впереди хора я увидел низенького солдата с необычайно знакомым лицом. Я не сразу мог связать это лицо с солдатской шинелью, но потом в один миг узнал его и невольно шагнул вперед.
Шер стоял с басами, в сторонке от Баранова, подальше от его регентских мановений. Он не сводил глаз с меня, без самой маленькой перемены в лице, деревянный и важный.
Хор пел: «Ты еси бог, сошедый во ад и узы окованных разрешивый». Я всмотрелся в движение шеровских губ. Он не знал ни слова из чужих для него песнопений, но ловко шевелил губами, как это выделывали хористы в опереттах, если не успевали вызубрить текст. Секрет сводился к верному угадыванию протяжных гласных, и когда это получалось, тогда надо было брать реванш за невнятное вышлепыванье губами согласных и неударных и уж тянуть вовсю. Мне стало смешно и противно. Шинель была Шеру не по росту. Вшитая в левый рукав малиновая полоска – отличительный знак пленного – приходилась у него ниже локтя, пальцы чуть виднелись из-за обшлагов, подбородок утопал в воротнике. «Ты еси дева чистая непорочная», – пел хор. Нет! Я больше не мог видеть Шера! Конечно, ему было все равно, что петь. Если бы его посадили к пленным зуавам, он пел бы с зуавами, за здравие или за упокой. Ему надо было вырваться из лагеря хоть на часок, вот и все. Кажется, я слышал его сердце, когда встречались наши глаза. Он ликовал, что, пустившись отпевать мертвецов, негаданно увидел меня – живого приятеля. Но мне было невыносимо его опереточное участие в панихиде, между черных крестов войны. Я отступил на шаг и стал так, чтобы не видеть его.
Когда панихиду пропели, комендант лагеря, не тронувшись с места, не шелохнувшись, чуть-чуть выпятил подбородок и произнес в тишине могил:
– Французские солдаты, русские солдаты, военнопленные! Комендатура лагеря открывает ныне этот памятник по вашим умершим землякам, чтобы вы еще раз убедились, как высокочеловечны военные обычаи народа, который вы, по преступному наущению ваших правительств, считаете своим врагом. Военнопленные! Мы возлагаем венок, украшенный нашими благородными национальными цветами, на могилы наших врагов, которые нашли покой, я бы сказал – гостеприимный покой в нашей немецкой земле. Мы поступаем по слову господа нашего Иисуса, завещавшего прощать врагов. Мы прощаем наших врагов, которые спят вечным сном в этой земле. Конечно, мы знаем, что не все спящие здесь заслужили прощения. Среди них были такие, которые умерли со слепою ненавистью к нам, немцам. Но мы, немцы, хорошо знаем, кто ответствен за их ненависть…
Я опять взглянул на Шера. Он с умилением поднял взор к небу, как будто проповедь коменданта пробуждала в нем возвышенно-религиозные чувства, и сложил на животе руки, переплетя чуть видневшиеся из обшлагов кончики пальцев.
– Военнопленные, – продолжал майор, – вы страдаете от тоски по родине, от некоторых, однако совершенно умеренных, неизбежных, разумных лишений. Но подумайте о страданиях наших дорогих братьев в знойных колониях Франции и ледяных пустынях Сибири. Насколько же их страдания мучительнее, тяжелее и глубже ваших! Я бы сказал – их страдания невыносимы! Они подвергаются жестокостям, мучениям, они подвергаются пыткам. О, мы, немцы, ничего не простим своим мучителям! Наша карающая рука, после военной победы над врагами, настигнет всех виновников наших немецких страданий. Ни один волос, упавший с головы немецкого солдата, не останется не возмещенным сторицею. Берегитесь! – говорим мы нашим врагам. – Капля немецкой крови, пролитая вами, может быть нами забыта лишь тогда, когда растворится в море вашей!..
Майор стоял по-прежнему неподвижно, но теперь уже не только подбородок, а все лицо его – пятнисто-розовое – выпятилось вперед, точно отслоившись от туловища. Он как будто был составлен из двух человек: один – с неистовым лицом – выкрикивал каменные слова, другой – положивший руки на эфес сабли почтительно слушал его.
Во время этих выкриков начальник караула незаметно подозвал к себе фельдфебеля и отдал какое-то приказание. Медленно, далеко с тыла обходя русский хор, фельдфебель осматривал пленных взглядом профессионального дрессировщика людей. Он придерживал шашку, зажав ее в левой руке немного ниже эфеса. Вдруг, поравнявшись с Шером, он быстро ударил эфесом по его сцепленным рукам, разомкнув их силою удара.
Я видел, как вздрогнул и зажмурился Шер, как дернулись его руки вверх, к лицу, но фельдфебель рванул их книзу, и Шер уже стоял, вытянув руки, как требовалось – по швам, – и только из-под обшлагов шинели совсем не было видно его пальцев.
Пленные не шелохнулись, патер глядел себе в ноги, фельдфебель важно отошел на свое место, и майор гладко оканчивал речь:
– Вы хотите сократить свое пребывание в плену и возвратиться скорее на родину? Это зависит от вас. Напишите к себе домой, как человечны немцы в обращении с вами, как они прощают своих врагов. Напишите, что мы непобедимы, что наши силы никогда не истощатся. Напишите, что сопротивление ваших войск бессмысленно, что, пока они еще не разгромлены окончательно, им следует скорее добиваться с Германией мира. Сделайте это, и вы скоро отправитесь из плена домой…
Майор смолк. Из французского хора выступил переводчик, стал читать речь по-французски.
Я последний раз взглянул на Шера. Он был бледен и, не мигая, смотрел в пространство, руки по швам.
Меня охватила холодная дрожь, от злобы или бессилия. Я пошел вон с кладбища, но по дороге, в усталости, сел на скамью. Старухи уборщицы подметали дорожки, изредка перекидываясь двумя словечками, останавливаясь, чтобы вздохнуть. Синицы уже начали кучиться и стайками прыгали с могил на полуголые деревья, исследуя всякие щели, скважины, дупла. Последние пряди паутины, расклеившись на решетках оград и сучьях тополей, нет-нет посеребрялись солнцем.
Собиралась зима, новая, четвертая военная зима, а надежд на мир словно становилось меньше. Все происходящее было временно, – конечно, я хорошо понимал это. Но, как припадок, подкрадывалось иногда отчаяние, и я не ждал для себя никаких перемен. Мне все чудилось, что я непременно умру, что вот как раз в самый канун какого-нибудь замечательного события, за день до объявления перемирия, я распрощаюсь с жизнью. Мне стыдно было бы признаться в этой мысли, но она ютилась во мне, и только в споре, в противоречии мне удавалось ее прогнать.
Странно, в эти минуты, когда Шер еще стоял у меня перед глазами – руки по швам, – я вспомнил все, что передумал за войну о справедливости, возмездии, о праве общества на человека – обо всех вещах, легких, как школьные задачки, и трудных, как жизнь и смерть. Я поднялся и ушел под похоронное, едва доносившееся пение «вечной памяти», подумав, что эти-то слова Шер, наверно, знает, да вряд ли поет их сейчас – из-за боли.
Я решил зайти к Розенбергу, чтобы выговориться и отвести душу. Я постучал в его комнату, и он тотчас громко крикнул: «Да!» Я открыл дверь, но войти не мог: комнату будто перевернули потолком вниз, потрясли и опять поставили на пол. Ни одна вещь не лежала на своем месте – ящики комода и стола были выдвинуты, книги рассеяны по углам, печь отворена, зола из нее выгребена, белье, башмаки, письма, чемоданы, газеты фантастически перемешались, матрас стойком прислонился к стене, на кровати валялись подушки в распоротых наволоках. Сам Розенберг, на корточках посередине этих развалин, подбирал бумаги.
– Шагайте прямо, – сказал он, – тут уже ничему повредить нельзя.
– Что случилось?
Он приподнялся и, перешагнув через хлам, сел на кровать.
– Они увезли с собой целую корзину книжек.
– Обыск?
– Погром, – ухмыльнулся он. – Но меня почтили: распоряжался сам секретарь полиции.
– Что им понадобилось?
– Книжки, книжки, больше ничего. Антивоенные книжки.
– Но ведь им, должно быть, на руку, что вы против войны?
– С какой стороны, знаете ли… Он занялся своим пенсне, протирая его платком и разгибая тугую пружину.
– Могли забрать и вас, – сказал я.
– Они еще поправят свое упущение.
– Но с чего они взяли? – воскликнул я. – Ведь должно было что-нибудь толкнуть их к обыску.
– Шер, – сказал он.
– Что – Шер?
– Шер, думаю я, был поводом к обыску.
Я схватился за кровать, чтобы удержаться на месте. Розенберг близоруко сощурился, надел пенсне, взглянул на меня через стекла и засмеялся.
– Нет, не то, не то!.. Шер явился ко мне за книжками перед тем, как идти в лагерь. Я дал ему кое-какие брошюры насчет войны, швейцарские издания. Наверно, отсюда все пошло: он взял их с собою в лагерь. А у меня все, что было швейцарского, – все забрали, даже карту альпийской растительности.
– Вы решили перебросить в лагерь литературу, правда?
Он помедлил немного.
– Я хотел заняться с Шером политикой.
– Ну, об этом позаботятся без вас!
И я рассказал обо всем, что видел на кладбище.
10
Сезон шел к концу. Гульда уехала к подруге и писала мне почти каждый день. Я изучил ее руку не хуже своей, ее письма я узнал бы на ощупь, с закрытыми глазами. Она касалась в них многих предметов, но в сущности всегда говорила об одном. В ее неустанной болтовне было так много счастья, что невольно я запоминал письма наизусть. Мне казалось, я отвечаю ей очень разнообразно, потому что пишу о прочитанных книгах, о своих планах, о войне и плене, но это было все то же, все то же: мы не могли жить друг без друга, и в этом заключалась вся наша жизнь. Книги, которые она подарила мне, обладали такой прелестью, что я читал их почти с трепетом, их вид вызывал во мне нежность, я мог бесконечно разглядывать и держать их в руках не читая. Мы условились – весною дать себе волю в наших встречах. Но Гульда не знала, скоро ли возвратится: болезнь подруги задерживала ее, и это заставляло нас еще больше тосковать.
Перед закрытием сезона труппа подписала с директором контракт на весенние гастроли в маленьком городке Рудных гор. Чтобы заинтересовать всю труппу, директор обещал хору бенефис. Но все равно было приятно побывать в другом городе: обычные репетиции отменялись, везли готовый репертуар, поездка должна была обратиться в прогулку.
Несколько свободных дней до гастролей предприимчивый Генрион вздумал посвятить окружным деревням. Он сколотил крошечную бродячую труппу, человек из двенадцати, и стал торговать оперетками по сходной цене. На один из спектаклей он пригласил меня, но я отказался. Он прислал ко мне парламентером Лисси.
– Ты что делаешь? – сказала она с укором и возмущением. – Ты кому отказываешь? Режиссер тебя приглашает, делает честь, а ты? Кроме того, это не коллегиально. Ты расстраиваешь дело. Мы должны страдать из-за твоих капризов, как ты думаешь?
Она уговорила меня – мне трудно было устоять.
В воскресенье, почти с восходом солнца, мы выехали из города и провели в поезде часа два. Мы приехали в большое село, живописно расположенное в отлогой местности. Было видно много дорог, по которым двигались к селу повозки, на базар.
День прошел в приготовлениях сцены и зала. Это была гостиница с рестораном и помещениями для разных сельских союзов – стрелковых, хоровых, спортивных. Зал был похож на громадный гроб.
Мы подцветили его бумажными флажками. Неглубокая сцена упиралась в брандмауэр, декорационный задник, изображавший зеленую рощу, висел прямо на нем, и когда актеру требовалось перейти за кулисами с одной стороны сцены на другую, было видно, как волновалась зеленая роща и на ней выпячивались и передвигались живот, колени, плечи пролезающего за декорацией человека. В зале перед сценою расставили по-ресторанному столики, за ними – ряды стульев и скамей. На улицах были расклеены афишки, заранее напечатанные Генрионом в городе.
Оставалось только ждать публику.
Она собиралась медленно, точно ее тащили насильно. Крестьянские семьи расселись за столиками, потребовали пива и развернули узелки с закуской, привезенные из деревень. Пока мы звонками торопили занять места, крестьяне резали сало, облупливали засоленные яйца. Генрион через щелку занавеса долго смотрел на приготовление закуски.
– В деревне еще много добра у крестьян, черт возьми, – сказал он.
За ним поглядела Лисси.
– Они прямо благоговеют перед нами, – сказала она.
Мы тоже приложились к щелке занавеса. Сало резалось острыми карманными ножами, довольно толсто, аккуратно. Оно было розовое. Кельнерши разносили по столам горчицу, громко приговаривая: «Приятного аппетита». Крестьяне чуть отзывались в ответ. Мы дали энергичный последний звонок, наша пианистка вышла на просцениум и начала увертюру.
Мы как следует не знали ролей, пели чепуху, заглушая свое лопотанье пляской, либо кое-как прикрываясь барабанной музыкой.
– Проглотят, – говорили мы, видя, как зрители усердно жуют сало.
Нам аплодировали лениво, и Генрион разозлился:
– Обожрались!
Это было скрытое разрешение дурачиться как угодно. Мы с грехом пополам дотянули комедию до конца и ночью, наевшись горячего пивного супа, двинулись восвояси.
В этот проклятый день деревенского турне возвратилась Гульда. Я нашел на столе записку: «Жди завтра». Я почувствовал себя виноватым и с утра до вечера мысленно оправдывался перед Гульдой на все лады. Но это только разоружило меня, и когда она пришла, я не знал, с чего начать.
Стоя ко мне спиной, лицом – к полке с книгами, она водила пальцем по корешкам переплетов, как по оконному стеклу. Я глядел за ее пальцем, прочитывал, не понимая, названия книг, и мне казалось, что я давно расстался со всем, что вижу, и ничего не узна.
– Когда мне сказали, что ты уехал, мне стало ужасно. Я подумала, если так будет всегда, то…
– Почему – всегда?
– Ты ведь знал, что я приеду.
Я заглянул ей в глаза.
– Все равно, – настаивала она. – Ты знал, что я могу приехать каждый день.
– Скажи, что я должен сделать, чтобы ты была справедливее? Я сделаю все.
– Ах, так! – воскликнула она резко, оборачиваясь ко мне. – Ну, так знай же, что мне все известно, все, все! Ты уезжаешь с театром на какие-то гастроли, может быть – навсегда! Разве не правда? Ну, ну? Не правда?!
Она отбежала от меня, села на кушетку, отвернувшись в угол, и в угол, невнятно, почти задыхаясь, проговорила:
– Скажи, что мне надо сделать, чтобы ты был справедлив?
Я насилу владел собою. Она сказала:
– Ты мне писал – это будет наша весна. Мы не отдадим ее никому, – это твои слова. Я так ждала, так ждала! Зачем ты…
Мне было слышно, как она всхлипнула. Я собрал все силы, чтобы не броситься к ее ногам. Я хотел заговорить, но она заплакала сильнее. Тогда я стал у окна молча, как истукан. Она утихла. Я молчал. Она поднялась, собираясь уходить. Я ощущал ее взгляд на себе, но не двигался. Она сказала:
– Тогда лучше не надо. Ничего не надо, чем так. Прощай.
– Прощай, – ответил я.
Через минуту она пошла к двери. Все быстрее делались ее шаги. Я был не в силах слышать, как они исчезали в передней, и заткнул уши. Это становилось обычной и невыносимой историей. Я решил, что не дам себя мучить, что это последний раз. Но мне вдруг почудилось, что Гулъда сейчас же одумается и вернется. Я стал вслушиваться в каждый шорох. Не помню, долго ли я простоял неподвижно. Была хрупкая тишина, ничто не отозвалось на мое ожиданье. Я упал на стул.
Я мог ошибаться, мог быть неправ, конечно, конечно! У меня могло все спутаться в голове, но одно было ясно: я вновь был одинок, да, был одинок, и наверно – навсегда.
Я бродил и бегал в этот вечер по темным улицам: о, что еще мог я придумать, что можно придумать вообще, если ты покинут, если ты брошен и если невозможно понять – почему, за что ты брошен и для чего ты навсегда одинок?!
Совсем ночью я забрел к Розенбергу, не отдавая себе отчета – зачем он мне нужен. Но я не застал его. Испуганная хозяйка сначала отказалась что-нибудь сообщить, потом, замкнув дверь, повела меня в кухню, убавила газ в рожке и в полумраке объявила, что неделю назад господин Розенберг арестован полицией и что неизвестно, где он теперь находится. Я ахнул и принялся упрекать ее, что она держит в секрете такую жестокую новость. Она задумалась.
– Если вы никому не скажете… Я получила от господина Розенберга открытое письмо. Хотела уничтожить, но подумала: если господину Розенбергу разрешили написать мне письмо, то я имею право…
– Где письмо? Покажите.
Она достала с полки фаянсовую банку в форме бочонка, с надписью «Лавровый лист», и вынула из нее согнутую вдвое открытку. На лицевой стороне ее красовался выдавленный и раскрашенный веночек из незабудок, над ним – два голубка, наискось – золотые буквы: «Счастливой пасхи!» На обороте мелким, старательным почерком Розенберг извещал, что он сидит во внутренней тюрьме королевской дрезденской полиции и надеется, что его навестят друзья. Мы погадали с хозяйкой – чем ему помочь, и с величайшей осмотрительностью она выпроводила меня на улицу.
Я вдруг почувствовал облегчение, как человек, решившийся на твердый шаг после колебаний. По тем же улицам, по которым я только что блуждал с единственной мыслью о своем несчастье, я шел сейчас, придумывая план свидания с товарищем в тюрьме. Только перед самым домом у меня опять заколотилось сердце: мне представилось, что на моем столе лежит письмо от Гульды. Но я ошибся.
Ее лицо, заплаканное и милое, являлось мне, когда я засыпал, но я не успевал на него наглядеться, куда-то спешил, ехал, мчался в коляске по русской дороге, мимо берез, в гору, и под конец добирался до обсерватории, и мне показывали в трубу одну из звезд Большой Медведицы, – там, в ярко-синем свете рампы, стоял мертвый, с провалившимися глазами директор нашего театра и кругом, за столиками, крестьяне медленно резали синее сало. Я просыпался, вспоминал, что, гуляя по променаде, всегда любуюсь Медведицей, опять видел Гульду и заново ехал по какой-то березовой аллее…
Утром, усталый, я отправился к Шеру.
– Вот, – сказал я, – из-за того, что вы попались с книгами, человек сидит в тюрьме.
– Я сидел в лагере. Между прочим, это были книги Розенберга, а не мои. У каждого своя судьба. Я верю в судьбу, – сказал Шер, подумав.
– Можете верить во что угодно. Не хотите ли что послать Розенбергу со мною, если я добьюсь с ним свидания?
– Я тоже добьюсь свидания.
– Ну а если я добьюсь первый?
Шер смерил комнату своими маленькими шажками.
– Что-нибудь послать? – спросил он, чуть-чуть улыбаясь. – Передайте ему мой социал-демократический привет.
Хозяйка Розенберга оказалась чувствительнее Шера: перед моим отъездом она принесла банку яблочного мармелада.
– Отвезите мой маленький подарок нашему заключенному! Он так хвалил этот мармелад моего домашнего изготовления. Господин Розенберг остался мне должен за комнату. Я надеюсь, когда его отпустят из заключения, он отдаст долг. Ведь в заключении не будет никаких расходов, и у господина Розенберга должны скопиться деньги, не так ли?
– Да, – сказал я, – если в тюрьме ему будут платить жалованье.
– Разве там платят? – серьезно спросила она.
– Да. Если просидишь десять лет, то при освобождении получаешь на трамвай.
Она помолчала.
– Ах эти русские! – вдруг засмеялась она.
Я выехал на гастроли днем раньше труппы, и весь этот день ушел у меня на хлопоты о свидании.
Дом дрезденской королевской полиции находился на оживленных улицах. Его облику придан был вид феодальный, замково-строгий, но в то же время в нем было нечто среднеевропейское, отвечающее парламентской форме правления, вполне приличное. План строения – квадрат. По внешним сторонам квадрата раздавались звонки велосипедов, шли барыни в белом, катились дрожки и фургоны, щелкали бичи. Но внутри квадрата, на дворе, заслоненное от мира высоким зданием полиции, было скрыто черное сердце – тюрьма. Она была без окон, или нет – все ее окна были спрятаны в железные кошели, разинутые сверху для света.
Я пересек двор закрытым остекленным ходом. Передо мною и позади меня деликатно щелкнули замки с хитрыми маленькими ключиками, которыми орудовал мой сопровождавший. Потом вдруг возник перед нами страж в черной накидке, с полуаршинными ключами на кольце – почти совершенно такими же, какие наш реквизитор давал тюремному сторожу из «Летучей мыши». У меня даже вспыхнул в памяти штраусовский пьяный лейтмотив: «Ach, ich hab' sie ja nur auf die Schulter gekusst!»[2]2
Ах, я ведь только поцеловал ее в плечо! (нем.)
[Закрыть] Но страж не думал петь: он был трезв. Он сумрачно принял меня и передал другому, так звякнув ключами, что у меня перехватило дыханье.
Я стоял в центре тюрьмы. Сквозь все здание, до крыши, круглой башней поднималась стальная сетка, наглухо закрывавшая междуэтажные лестницы. Никто не мог бы броситься сверху в пролет. Электрические лампочки извивом уходили в высоту.
Тюремщик подошел к сетке и постучал в нее ладонью. Пролет завыл, наполняясь стальным гуденьем.
– Алло, господин Розенберг! – неожиданно вскричал тюремщик.
Прошло несколько секунд, гул стих, и я услышал голос папаши Розенберга:
– Что, принесли обед?
– Нет, до обеда еще целый час, – закричал тюремщик, – но к вам пришли на свиданье.
– Ну, так пусть подымаются.
Тюремщик повел меня по лестницам. Пустынные этажи состояли из одинаковых площадок с бесконечными фронтами дверей, запертых на засовы. И стены и двери были покрашены в одну, темно-зеленую, краску. В дверях маленькими иллюминаторами были вправлены глазки, и над ними красовались статные светлые порядковые цифры. В третьем этаже одна дверь, словно выходя из фронта, приоткрылась (тут только я оценил ее толщину), и на пороге я увидел Розенберга.
Он обнял меня и усиленно-радушным жестом пригласил в камеру.
– Мы поболтаем немного, – сказал он тюремщику дружески.
– Хорошо, только вы не закрывайтесь совсем.
На стене камеры висели «Правила гигиены», напечатанные мелким шрифтом. В середине правил были нарисованы зубы и рука с зубной щеткой. Рядом с правилами на полочке находились оловянная кружка с выдавленным портретом канцлера князя Отто фон Бисмарка, зубная щетка и порошок. Розенберг покровительственно наблюдал, как я знакомлюсь с обстановкой.
– Вы в первый раз? – спросил я.
– Да, я учусь, – ответил он.
Камера смущала меня пустотой, и мне было неловко, что я пришел с пустыми руками: мармелад у меня отобрало тюремное начальство – на исследование.
– Мне ничего не надо. Мне дают обеды с воли, из ресторана, и даже видите? – я курю, – сказал Розенберг.
– Все это – необычайно, – сказал я, покосившись на дверь. – Не тюрьма, а «Летучая мышь».
– Нет, очень злое и жестокое заведение, – возразил он, как мне показалось, обидевшись. – Но со мной – другое дело.
– Что же с вами?
– Мне предъявили обвинение в пораженчестве. Говорят: вы – большевик. Но, понимаете, у них первый такой случай, и они пока не знают, как себя вести с большевиками. Как будто это – опасные бунтовщики. Но в то же время ведь это – русская власть, с которой они играют в мир!








