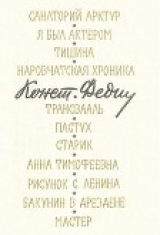
Текст книги "Повести и рассказы"
Автор книги: Константин Федин
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 34 страниц) [доступный отрывок для чтения: 13 страниц]
13
Кровь удалось остановить ночью. Все это время дежурил доктор Клебе, часу в третьем его сменила Гофман. Она сразу нашла много дела – с полотенцами, тазами, льдом и на столе с разными мелочами. В конце концов все было переделало, и она встретила взгляд Инги.
– Правда, вам лучше?
– Отлично, – тихо сказала Инга.
– Не говорите, я пойму так.
– Я хочу, чтобы вы ушли.
– Не разговаривайте. Я не могу уйти.
– Мне неприятно.
– Вам нельзя говорить. Почему вам неприятно?
– Мы в ссоре.
– Я не буду отвечать… У нас нет никакой ссоры. Вы заболели; как только поправитесь, увидите – мы друзья.
– Я не хочу.
Гофман отошла к умывальнику, с минуту побыла там, обернулась. Инга продолжала смотреть на нее.
– Я выйду и скоро вернусь, – сказала Гофман.
– Не надо.
– Если будет нужно – позвоните, меня позовут, я приду.
Оставшись одна, Инга заснула. Сквозь сон она слышала – кто-то входил в комнату и стоял в дверях, но не открыла глаз и проснулась только утром. Она чувствовала себя очень слабой. Тревога и страх, пережитые в поезде и на станциях, когда вокруг суетились чужие люди, исчезали. состояние было легкое, но какое-то невесомое, постороннее, слишком прозрачное.
Оглядывая комнату, она заметила около балконной двери чемодан. Он стоял на полу приоткрытый, и она вспомнила, как в нем копались, отыскивая для нее белье. Из чемодана торчали белые уголки вещей, тесемки; она глядела на них без участия, как будто вещи не касались ее или напоминали что-то давнишнее, позабытое. Вообще все было очень давно, и все ушло, и сделалось спокойно, ясно.
Вдруг из постороннего и безразличного ее воображение выбрало одну за другой несколько вещей, и она стала видеть только их. С опаскою она потянулась к столу, взяла сумку, вынула маленький блокнот и начала писать, подолгу останавливаясь на каждом слове, кладя руки на одеяло и потом приподымая их медленно к лицу. Она вырвала листочек и сосредоточенно перечитала написанное, слово за словом: «Надеть сорочку с голубой вздержкой. Платье белое, полотняное. Чулки белые. Туфли светлые, на низком каблуке (домашние)».
Она согнула листочек надвое и положила под сумку.
Она устала от усилий и опять лежала без движений. У нее катились слезы, но было легко и спокойно. Постепенно ей сделалось ясно, что она выздоровеет, и тогда она приняла очень важное, твердое решение и произнесла шепотом:
– Если я поправлюсь, даю честное слово и обет прожить в Давосе три года.
Она долго обдумывала – три года или, может быть, пять лет? – нашла, что три года достаточно, и снова шепнула:
– Три года, никуда не выезжая.
Она позвонила. Пришла Лизль, и за нею – Карл. Оба они были приветливые, спрашивали о здоровье и говорили, чтобы она молчала. Карл принес письмо из утренней почты и сказал, что телефонировали доктору Штуму и он скоро придет.
Письмо было от отца. Инга хотела вскрыть конверт, но не могла поднять с постели руку – слабость приступом нахлынула до тошноты. Инга попросила Лизль распечатать письмо и прочитать. Лизль читала толково, кланяясь на точках и запятых. Письмо состояло из беспокойства об Инге, и когда она слушала, в ней пропадало все невесомое, прозрачное и подымалась тоска. Вытереть слезы не было сил, они ползли по вискам в волосы.
– Не плачьте, – сказала Лизль, кончив читать, – поправитесь. Со мной тоже раз было: я столько потеряла крови, думала – ну, догулялась, Лизль, адэ! У нас на родине есть женщина, к ней всегда девчонки, если плошают… понимаете, если вдруг беда случится, сейчас – к ней. И вот, знаете, случается это со мной, и она мне неправильный акушерский прибор применяет. Ну, конечно, она отрицает, говорит – у тебя, Лизль, неправильное женское устройство, на прибор ты не пеняй. Но я-то знаю медицину! И сколько из меня крови вышло! Я в одни сутки, вот как вы, фрейлейн Кречмар, сделалась, ничуть не лучше вас, страх взглянуть! А сейчас посмотрите: я прямо не знаю, со мной эта беда стряслась или еще с кем.
Она поднесла к глазам Инги полотенце.
– Вытереть?
Инга велела поправить вещи в чемодане и положить поверх белья листочек из блокнота. Собрав силы, она подняла голову, чтобы видеть, как исполняется ее просьба. Потом, успокоившись, она продиктовала Лизль телеграмму в ответ на письмо отца. Она немного прихворнула, – диктовала она, – но ей сейчас лучше, она бодра и скоро напишет подробно.
Перед завтраком Инга опять задремала. Разбудил ее кашель, и она не успела напугаться, как пошла кровь. Она нащупала звонок и в этот момент увидела, что входят Штум и Гофман.
То, что затем происходило, ей представлялось вполне внятным и гладким. Она, правда, запоминала не все подряд, но ей и не хотелось помнить все – она была довольна приятными, а иногда безразличными отрывками впечатлений и тем, что они были немного похожи на сон. Она запомнила голову Штума, нагнувшуюся к ней на грудь, и ощутила его ус, холодный, жестковатый. Голос Штума лился издалека, смешиваясь с чуть уловимыми звуками пения иди посторонней речи, – нельзя было угадать, что это было. Дальняя дорога приблизилась к Инге. По обочинам цвели деревья, рядом катился горный поток. Может быть, его пение и переплеталось с голосом Штума. В поток падал с деревьев белый цвет, все больше и больше, пока не застлал воду сплошным покровом, наплывавшим на Ингу ближе, ближе. Она увидела над собою в белом халате Гофман, черты которой стали медленно заменяться незнакомыми, привлекательными и строгими. Потом Ингу всколыхнуло странное ощущение – будто она пьет холодную газированную воду с колючими пузырьками, разбегающимися по всему телу, и становится жарко, и хочется глубже дышать, и вот она пьет и дышит, и ей все жарче, и все свободнее дышать, и наконец; она узнает себя – в своей комнате, на кровати под новым одеялом; во рту – жесткий, неудобно зажатый наконечник, от него протянута каучуковая трубка к металлическому предмету, напоминающему огнетушитель, но только не так красиво раскрашенному. Столик отодвинут. На его месте сидит незнакомая женщина с плоской моложавой физиономией. Ворот ее халата застегнут брошкой с маленьким красным крестом. Она спрашивает взглядом: ну, как? А что, собственно, случилось? – тоже взглядом спрашивает Инга. Ничего опасного: видите, вам гораздо легче, – отвечают глаза женщины. Но что это за трубка у меня во рту? Вы ведь понимаете, что это такое, – улыбаются глаза женщины. Неужели, неужели так плохо? – спрашивает глазами Инга.
– Вот хорошо, достаточно, – пощупав пульс, говорит сестра и хочет вынуть изо рта наконечник.
Но Инга не выпускает трубку, стискивает зубы, и недвижные, распахнутые глаза ее не переставая твердят: так плохо? О, неужели так плохо?
– Ну, пустите, не бойтесь, – говорит сестра.
Инга потихоньку разжимает зубы. Тогда сразу бесследно улетучивается вкус газированной воды, тело становится тяжким, словно отвердевая, и, задохнувшись, Инга кричит:
– Дайте!
Она не слышит своего крика и в ужасе кричит еще:
– Дайте!
– Не волнуйтесь, сейчас будет хорошо, – по нотам говорит сестра. – Я попрошу доктора Клебе прислать нам этого лекарства в запас.
И она приятельски проводит ладонью по конусу кислородного баллона.
– Я пойду, – говорит она, вставая. – Не бойтесь, не бойтесь. Видите, какое у вас хорошее дыхание. Решительно нечего бояться.
Она удаляется плавной поступью, предназначенной убеждать, что весы жизни не колеблются, что надо только умеючи ходить – и человек осилит любое препятствие, на то он создан…
Доктор Клебе встретил ее уныло. Что может она сказать, кроме неприятности?
Он был глубоко обижен: доктор Штум отказался его навестить, заявив, что не приглашен. Не приглашен! Рыцарь, гуманист, которого больные славословят на всех перекрестках! Для него не существует даже обычного долга медика перед коллегой. Болен врач, а он проходит мимо его двери. Он, видите ли, не может простить, что отпустили Ингу. Но ведь его запрет тоже не возымел действия. Как же можно винить Клебе? Арктур не галеры, не тачка каторжанина, а Клебе не тюремщик. Впрочем, конечно, Арктур – тачка, и только единственный человек навечно прикован к ней, – о, бедный, бедный Клебе! Вот он. больной, изнуренный, выполняя долг врача и человека, до утра не отходят от постели пациентки и потом пластом лежит у себя в углу, одинокий, брошенный всеми. А Штум назначает пациентке сестру и не хочет даже заглянуть к врачу, в санатории которого заработал как-никак порядочные деньги. Рассуждая по-человечески, сам Клебе нуждается в медицинской сестре, да, да, вот именно в этой даме с брошкой, в этой квашеной мине милосердия. Но нет, – вздыхает Клебе, – вези, вези свою тачку, пока не свалишься. Ты обречен, ты обречен!
– Что скажете о нашей милой фрейлейн Кречмар? – спросил он грустно.
Сестра по мерочке перечислила все, что могла сказать, – о температуре, о пульсе, о слабости и потах, о том, что кровотечение не возобновлялось, что больная сейчас в сознании и просит еще кислорода.
– Да, да, – все так же грустно сказал Клебе. – Но она должна знать, что баллон кислорода стоит восемнадцать франков.
Сестра всматривалась в Клебе выжидательно.
– Я хочу сказать: эта бедная особа все равно умрет. Но почему же должны страдать мы? Неизвестно, получим ли мы но счету за расходы, которые теперь несем.
Сестра ждала.
– Ну, хорошо. Я должен ее посетить, пойдемте.
Он вошел к Инге неслышно и пристально смотрел в ее наполовину открытые глаза. Нащупав пульс, он стал глядеть в потолок. Губы его выпятились, он качал головой. Потом он бросил пульс. На столике лежали шприцы, грудились пузырьки, Клебе перетрогал их, вспомнил еще два лекарства из запасов Арктура, которые по такому же нраву могли бы стоять рядом с этими. Он решил прислать их, собрался уйти, но Инга открыла глаза. Он закивал ей, понял, что она хочет что-то сказать, и наклонился.
– Левшин? – спросила она.
– Я так и знал, я все предвидел, – обрадовался Клебе, – я предвидел, и я дал ему знать.
– Он приедет?
– Он приедет, будьте спокойны, я его выписал.
У нее закрылись глаза, и Клебе осторожно вышел.
Он растрогался, его всполошила судьба девушки, он только жалел, что все это происходило в Арктуре, и он торопился к аптечке выбрать для Инги лекарства. Одно он весьма ценил – йодистое втирание против суставных болей, обычных в подобных случаях. Правда, лекарство было довольно дорогое, но что поделать?
В холле он увидел Левшина. Он устремился к нему с протянутыми руками, выпевая, почти мурлыча что-то трогательно-горестное, будто выражая сочувствие в необыкновенной утрате.
– Я так рад, мы все так рады! Получили мое письмо? О, что делать!
– Письмо?
– Не получили? Вчерашнее письмо, в котором я сообщал… Позвольте, когда же доставлялась вам почта?
– В полдень. А я выехал утром.
– Так это же прекрасно! Такое совпадение! – восторгался Клебе.
– Что случилось?
– В том-то и дело, что ничего не случилось. Просто замечательное совпадение, что вы не получили письма и приехали.
Он прямо переливался из одного состояния в другое, стараясь безошибочнее понравиться.
– Что-нибудь с моей соседкой? – спросил Левшин недоверчиво.
– Да, наша милая фрейлейн Кречмар, – опечалился Клебе. – Она предполагала… она сделала попытку отправиться вниз, но, к сожалению…
– Ей плохо?
– Ода.
– Нет надежды?
– О, этого никогда нельзя сказать. Но до тех пор, пока не будет лучше…
– К ней нельзя?
– В данное время, – извиняясь, сказал Клебе, – я думаю, сегодня еще нельзя.
– А завтра?
– Вы разрешите ответить на это завтра?
И снова в горьком тоне Клебе появилось сочувствие.
На лестнице Левшина ждала со счастливой улыбкой Гофман. Они вместе вошли в комнату и, открыв дверь на балкон, стояли рядом.
– Я видела, когда ты шел, – сказала Гофман, любовно вслушиваясь, как звучит на этом балконе слово «ты». Прелесть, открывшаяся в ней тогда, в Альп-Грюме, оживляла ее и теперь, несмотря на привычку держаться на службе с известной важностью.
Та же изученная маленькая жизнь уютно теплилась на пространстве, лежавшем за балконом, но Левшин смотрел на нее с изменившимся чувством, как человек, добавивший к прошлому новые приобретения. Женщина рядом с ним ожидала от него слов, каких сейчас он не мог сказать. Желание узнать, что совершалось тут же, за стеной, насторожило его. Ему послышалось за перегородкой нечто похожее на стон, и так как он не умел скрывать происходившее с ним, он спросил, верно ли, что говорит об Инге доктор Клебе.
– Я не знаю, что он говорит.
– Что тяжело.
– Если не прибавить – очень.
– Но что же причиною?
– Сейчас не так существенно, знаем мы причину или нет.
– А Штум? Неужели он бессилен?
– Он сказал, что его визиты, возможно, больше не понадобятся.
Левшин слышал, как упрек сменялся раздражением в этих изысканно-служебных ответах. Но он не мог сдержать свои расспросы.
– Значит, не осталось надежды?
– Надежда на камфару.
– И… скоро?
– Неизвестно.
– Я хочу ее видеть.
Гофман молчала.
– Я должен ее увидеть.
Не взглянув на него, она сказала:
– Я посмотрю, – и ушла.
Она долго не возвращалась. Он бродил то но комнате, то по балкону, придумывал, что скажет Инге, чтобы ободрить ее, пытаясь представить себе, как она изменилась. Он перебрал вещи, которые возил в Альп-Грюм, он думал: хорошо было бы что-нибудь подарить Инге, но ничего не нашел.
Он стоял на балконе, когда вернулась Гофман. С виду она была такой же сдержанной, как ушла.
– Я подготовила ее, она вас ждет.
Он сразу обернулся, чтобы идти. Тогда у нее вырвался вздох.
– Зачем, зачем вы приехали!
Он задержался на секунду, но не ответил.
Было очень тихо – в коридоре, во всех этажах дома, и как будто вечность никто не прикасался к плотно закрытой двери в комнату Инги. Переступив порог, Левшин и сюда словно принес с собою беззвучие и не двигался, пока не различил частое, поспешное дыхание. Он шагнул вперед.
Инга смотрела прямо перед собою. Глаза ее были так велики, что Левшину показалось – они занимали половину лица. Они были ясные и синие. Все прежнее сохранилось в Инге, но она стала маленькая, будто выглаженная, и раньше такая подвижная кожа на лбу и брови успокоились. Ее плечи чуть дергались при каждом вздохе и были узенькие, как у ребенка.
Стоя поодаль, Левшин ждал какого-нибудь движения, знака, но в ней ничего не менялось. Он нагнулся к сестре:
– Она не слышит?
Сестра отодвинулась, чтобы он мог подойти к кровати.
Он заметил, как дрогнул свет в глазах Инги, и она тяжело переместила их на него. То, что он увидел в них, он никогда не назвал бы радостью, но это было больше радости, это было ликование, на миг прорвавшееся из смятенного мира страха.
– Приехали? – очень тихо сказала Инга.
Она дышала коротенькими рывками, будто отрывая воздух. Она хотела поднять с кровати руки, но они только вытянулись.
Тогда Левшин взял ближнюю к нему руку, почти потерявшую вес, и стал гладить крошечную кисть.
– Они вас прятали, – тягуче выговорила Инга.
– Простите меня, не обижайтесь, – стараясь улыбнуться, сказал он.
Она как будто не поняла его, но губы ее задрожали, создавая напоминание улыбки. Она позвала Левшина взглядом к себе. Ои низко наклонился.
– Вы мне потом все расскажете, – шепнула она раздельно, и когда он распрямился, она прикрыла глаза.
Он опять стоял неподвижно, и она лежала по-прежнему, ничем не показывая, что хотела бы что-нибудь изменить.
Карл явился с баллоном кислорода, похожий на пожарного, аккуратно вынес пустой баллон и поставил на его место новый. Сестра слушала пульс Инги, вытирала с ее шеи пот, закладывала за уши давно развившиеся волосы. Снова все кругом стихло. И потом далеко пробежала в Клавадель почта, и в комнату вошел и позвал за собою знакомый напев рожка.
Может быть, Инга расслышала его, потому что вскоре лицо ее начало меняться, тоска и томление искажали его; и тогда Левшин увидел заново, как ее изуродовала неторопливая болезнь, исподволь готовя к смерти.
Сестра сказала, что надо переложить больную, и это был толчок, сдвинувший его с места. Он ушел с ощущением, будто его сбросили с высоты на мостовую. Он застал у себя Гофман. Она сидела на шезлонге, обняв колени, а ему было так очевидно, что надо все время, без перерывов, действовать, поднимать все силы, искать самые необычные средства и спешить, спешить. У него все ныло от боли, потому что его сбросили на мостовую, а она смотрела вдаль, думая о другом, и он принял это за бездушие. Он был доступен лишь одному чувству, которое в страшной наглядности отпечатлелось на Инге и перелилось в него: все они, все, кто был около нее, не могли понять, что Инга расставалась с единственной своей жизнью. Это было событие грандиозное, такое, какого не видел мир: она расставалась с жизнью, она умирала.
– Я. знаю, – сказал он, – вы делаете все возможное. Но надо позвать Штума.
– Он был. Он останавливал последнее кровотечение.
– Но, может быть, сейчас что-нибудь новое… ну, изменилось положение, и он действовал бы иначе.
– Лучше, чем мы?
– Откуда мне знать? Смелее, находчивее.
– Мы исполняем все, что он велел.
Она поднялась.
– Вы ничего не понимаете! – вздохнула она с облегчением. – И это даже хорошо: не понимать легче. Только тогда и возможно такое благородство… перед приговоренным.
– Если бы приговоренным был я, вы делали бы не больше, чем сейчас?
– Да, – сказала она, не задумавшись, – делала бы то же самое. Как ужасно вы говорите! Но, друг мой, вы и здесь ничего не понимаете: я была бы гораздо… о, я была бы гораздо несчастнее!
Она хотела выйти, но остановилась.
– Ведь недавно вас так тяготило, что Инга вызывает сострадание.
– Да, и мне стыдно.
– Что же хотите вы изменить таким поздним великодушием?
– Не смейтесь. Мне сейчас кажется, что если бы я заболел, а она поправилась…
– О, я видела давно, – шепотом перебила его Гофман и уже в дверях договорила готовые, летевшие с языка слова. – Вас толкает к Инге вовсе не сострадание!
Она жила собою или, пожалуй, им, Левшиным, и это было ему понятно, но это была жизнь, которой ничто не угрожало, которая билась за что-то побочное, второстепенное и могла подождать до завтра, до послезавтра. А глаза Инги не могли ждать. Неподвижные, они не отступали от Левшина ни на миг – в комнате, в коридорах, хранивших нетронутую санаторную тишину, на улице, куда он выбежал и где налаженность, всеобщая вежливость и порядок могли бы наделить равновесием даже душевнобольного. Сокращая расстояние переулками, Левшин скоро очутился за городом. Сначала подъем был невелик, развороты дороги плавны, и только рыхлый снег, кое-где проваливаясь, затруднял шаг. Но гора круто росла, острее делались изгибы пути, и нужно было отдохнуть. Отсюда стал виден размах долины и город на ее дне, как кристаллический осадок, любовно отложивший кубики домов. Левшин не сразу нашел среди этих игрушек Арктур, – все они были на одно лицо, и удивительное сходство домов подсказало ему, что, наверно, везде в них повторяется судьба Инги. С виду спокойный, город был населен бредом схваток со смертью, но притворствовал, нося личину земного рая, победившего страдания. Может быть, это было мудростью, потому что слава цвела, а бесславие было сокрыто, и может быть, об этом думала Гофман, сказав, что Левшин ничего не понимает. Но он видел город таким, каким он казался и каким он всегда был для него – городом надежды, и видел глаза Инги и город, каким он сейчас становился для нее – городом гибели. И понимал все…
Он взошел в гору, к большому белому дому. Здесь было благополучие в аллеях, благополучие в дорожках, и ветки елок качались следом за Левшиным, потому что две прирученные белки сопутствовали ему, дожидаясь, что он даст орехов. И белый дом развернулся перед ним фасадом своей сотни балконов, на которых лежали сотни больных, дожидаясь, что им будет дано здоровье. И Левшину было несомненно, что всем здесь управляет бог, и он знал, что бог был Штум.
Дежурного врача пришлось подождать, – в Арктуре врачи торопились, в кантональном санатории они могли не спешить. Явившись, врач сказал, что доктор Штум уехал в город, к одному пациенту, о котором беспокоится, и что, если есть время, можно подождать в холле. Левшин спросил, не известно ли, в какой санаторий поехал Штум. Ему ответили – в Арктур.
Спускаясь с горы, Левшин видел внизу те же кубики осевших кристаллов, повторяющие друг друга. Своею слитностью дома как будто поручались быть верными общей цели, приведшей их сюда, в созвучие с долиной, снежными горами и солнцем. Странной показалась Левшину мысль о притворной личине города. Нет, это был город доброй воли Штума. Сколько раз нужна была здесь рука помощи Штума. И он протягивал ее, – праведник, на котором держится город.
В Арктуре Левшин узнал, что доктор Штум осмотрел Ингу и не мог сказать ничего нового. Значит, рука праведника не была всемогущей, подумал Левшин, и оставалось только ждать от Штума, чтобы он действительно стал богом.
И вот прошла ночь – полусон, полуявь. То Левшину слышались стоны, то его пугало совершенное безмолвие. Всеми нервами он прильнул к стенке в комнату рядом и ждал, ждал. Немногое из мыслей, подавлявших его, удержалось в памяти. Но он помнил, что проклял человека, впервые воспевшего чахотку, как болезнь красивую, романтичную, и всех, кто поэтизирует это чудовище, потому что оно нередко избирает себе в жертву поэтов.
Поутру он различил тяжелые однотонные звуки, похожие на хрип, но не поверил себе, потому что они были очень громки и промежутки между ними были чересчур длинны, – это не могло быть, нет, никогда не могло быть человеческим дыханием. Но тревога мучила его нестерпимо, он оделся и вышел в коридор.
Арктур едва начинал просыпаться, внизу слышна была работа Карла – он натирал суконкой пол. Спустя минуту заворчал лифт, отщелкивая прохождение этажей.
Доктор Клебе появился из кабины. Он поднял приветственно руку, собрался задать вполне уместные вопросы, но в этот момент открылась дверь из комнаты Инги. Усталая, помятая, как человек, не спавший ночь, вышла Гофман. Она перебросила взгляд с Левшина на Клебе, вынула из кармана розовую коробочку сигарет «Dames».
– Ех, – словно мельком произнесла она, обращаясь только к Клебе.
Тогда Клебе сделал два быстрых шага и исчез у Инги.
Левшин взял Гофман под руку. Она старалась немного дергавшимися пальцами поймать в коробочке все ускользавшую сигарету. Левшин повел ее к себе.
– Что значит ех? – спросил он, зажигая спичку.
– Это наш язык, – сказала Гофман.
– Я вижу, ваш язык. Но что это значит?
Она раскурила сигарету и сильно выбросила пышный клуб дыма, который стал разряжаться и пропадать.
– Это значит – exitus, конец.
Они сели рядом и молчали. Дым кружился над ними, с улицы стали долетать разрозненные звуки утра.
Вдруг боязливо постучали из коридора. Левшин встал. С чрезвычайной осторожностью приоткрылась дверь, и в щель медленно всунулось лицо грека. Он тотчас легонько отступил, зажимая себя дверью, но все же деликатно шепнул:
– Здравствуйте, господин. Я только желал знать, как вы чувствуете?
– Благодарю вас, – сказал Левшин, но парикмахер, наверно, не слышал ответа и продолжал дожидаться с улыбкой извинения.
– Благодарю, – громко и словно с отчаянием повторил Левшин. – Мне ничего не надо.








