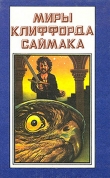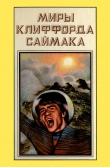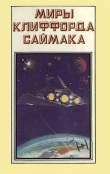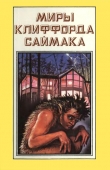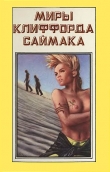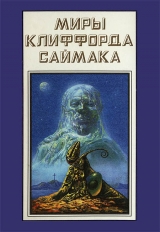
Текст книги "Миры Клиффорда Саймака. Книга 18"
Автор книги: Клиффорд Дональд Саймак
Жанр:
Научная фантастика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 24 (всего у книги 28 страниц)
– Ах, это вы, – сказал он. – Надеюсь, я не разбудил вас?
– Нет. Я только собирался отправиться в спальню.
– Вы, конечно, уже слышали новость?
– Да, по радио, – ответил Харрингтон.
– Белый дом обратился ко мне с предложением…
– Да, конечно, но после этого…
На другом конце провода послышалось дыхание, похожее на хрип, как будто сенатор вот-вот задохнется.
– В чем дело, Джонсон? С вами что-то происходит…
– После этого у меня был посетитель, – словно собравшись с духом, продолжил сенатор.
Харрингтон молчал, ожидая дальнейшего.
– Престон Уайт, – сказал наконец сенатор. – Вы, конечно, знаете его.
– Да, это издатель «Ситуации».
– У него был вид заговорщика. С легким оттенком драматизма. Он говорил едва ли не шепотом, крайне конфиденциальным тоном. Как если бы мы с ним были связаны каким-то секретным контрактом.
– Ну и что же он…
– Он предложил мне, – рявкнул сенатор, едва не захлебнувшись от бешенства, – исключительное право на использование Харви!
Харрингтон прервал сенатора, не совсем отдавая себе отчет в том, зачем он это делает. Он словно боялся услышать продолжение.
– Знаете, – торопливо произнес он, – я помню – это было очень и очень давно, и я был тогда совсем еще зеленым, – как Харви был установлен в редакции «Ситуации».
Его поразило, насколько отчетливым было воспоминание об этом нововведении и последовавшем за этим всеобщем одобрении. Несмотря на то, что публика относилась в общем-то довольно скептически к журналу и взглядам его издателя, известного своим пристрастием к дешевым сенсациям, позволявшим время от времени резко увеличивать тираж. После появления в редакции Харви все коренным образом изменилось. Все или почти все принялись с энтузиазмом читать статьи Харви; даже в наиболее солидных и осведомленных кругах его то и дело цитировали и ссылались на него.
– Харви! – с презрением бросил сенатор. – Счетная машина, набитая дурацкими шестеренками… Механический пророк!
«Вот оно что!» – подумал Харрингтон, неожиданно оказавшийся словно на гребне волны необычного эмоционального подъема. Это было именно то, чего он так отчаянно пытался доискаться.
Потому что Харви действительно был пророком. Каждую неделю он выдавал очередную порцию предсказаний, которые журнал регулярно печатал в специально отведенной для этого рубрике.
– Уайт показал себя на редкость красноречивым и убедительным, – прервал ход его мыслей голос сенатора. – И весьма дружелюбно настроенным. Он предоставил Харви полностью и целиком в мое распоряжение. И пообещал, что будет показывать мне первому все предсказания, как только машина их будет выдавать. Он даже поклялся, что не станет публиковать те из них, которые я по какой-либо причине захочу оставить в тайне.
– И он, конечно, не упустил возможности подчеркнуть, насколько все это будет полезным для вас, – добавил Харрингтон.
Потому что Харви, несомненно, был отличной машиной. Неделя за неделей, год за годом он выдавал абсолютно точные предсказания по любым вопросам.
– Я не хочу даже слышать об этом! – проревел сенатор. – Я не хочу иметь какие-либо дела с этим Харви. Харви – самое отвратительное, что только можно придумать в сфере формирования общественного мнения. Человеческая раса способна на основе своих собственных суждений принять или отвергнуть предсказания какого угодно человеческого пророка. Но наше технологическое общество сумело сформировать у своих членов рефлекс, в соответствии с которым машина автоматически считается непогрешимой. Я полагаю, что, используя человекоподобный аналитический счетный механизм, получивший имя «Харви», чтобы предсказывать тенденции мировых событий, «Ситуация» просто-напросто сознательно влияет на общественное мнение. И я не хочу никоим образом участвовать в этом надувательстве. Я не хочу, чтобы меня могли упрекнуть в том, что…
– Я знал, что Уайт – ваш сторонник, – заявил Харрингтон. – Я знал, что он выступает за ваше назначение, но я…
– Престон Уайт, – бросил сенатор, – опасный человек. Любая влиятельная личность опасна, а в наше время тот, кто способен моделировать общественное мнение, может считаться наиболее могущественным и соответственно наиболее опасным. Я не могу позволить себе вступить с ним в какой бы то ни было союз. За сорок лет службы я не приобрел ни единого пятнышка на репутации – слава Богу! Что произойдет со мной, если кто-нибудь разоблачит этого Уайта? В каком положении я тогда окажусь?
– Его и так едва не разоблачили, – сказал Харрингтон, – когда много лет тому назад им занялась комиссия Конгресса. Насколько мне помнится, свидетельства в основном касались Харви.
– Холлис, – сказал сенатор, – я не понимаю, почему мешаю вам отдыхать. Не знаю, зачем звоню вам. Возможно, чтобы отвести душу…
– Вы правильно сделали, что позвонили, – успокоил сенатора Харрингтон. – Ну и что вы теперь будете делать?
– Не представляю, – с нотками растерянности в голосе ответил сенатор. – Естественно, я выставил этого Уайта за дверь, так что мои руки теоретически ничем не запачканы; боюсь все же, что на этом дело не закончится. У меня после разговора с Уайтом до сих пор ощущается горьковатый привкус во рту.
– Ложитесь-ка вы спать, – посоветовал Харрингтон. – Утро вечера мудренее.
– Спасибо, Холлис. Наверное, я так и поступлю Спокойной вам ночи.
Харрингтон опустил трубку на аппарат, но остался стоять возле стола, чувствуя, что не может избавиться от напряженности во всем теле.
Потому что теперь ему все стало ясно Теперь он знал, и у него не оставалось ни малейших сомнений в том, что он знал правду. Он знал, кому было нужно чтобы сенатор Энрайт возглавил Госдепартамент.
Он подумал, что нечто подобное и можно было ожидать от такого человека, как Уайт.
Ему не удавалось сообразить, каким образом работает вся эта кухня, но если и существовал какой-либо способ обеспечить назначение сенатора, то Уайт был именно тем человеком, который мог отыскать этот способ.
Он устроил все таким образом, чтобы Энрайт, прочитав определенную фразу в одной из книг Харрингтона, продолжал участвовать в политической жизни до тех пор, пока не подошел момент выбора главы Госдепартамента.
А сколько других людей действовали сегодня в нужном Уайту направлении, сколько происходило в мире событий, исход которых был предопределен темными махинациями некоего Престона Уайта?
Харрингтон увидел лежавшую на полу газету, поднял ее, прочитал заголовок статьи и швырнул в сторону.
Они попытались избавиться от него, подумал он, и все закончилось бы для них в высшей степени успешно, если бы его просто отстранили от ставших не нужными занятий – так, наверное, выгоняют из конюшни на пастбище старую лошадь, оставляют там и забывают про нее. Может быть, именно так они и поступали с другими. Но, избавляясь подобным образом от него избавляясь от кого угодно другого, они должны были осознавать возможность появления при этом определенной опасности. Наиболее надежным было бы оставить его на привычном месте, за привычной работой, позволить ему прожить, как последнему джентльмену до конца своих дней.
Почему они не поступили именно таким образом? Не могло ли случиться так, что их возможности имели некий предел? Что вся операция, независимо от ее конечной цели, имела ограниченную сферу воздействия и предел этой сферы уже был достигнут? То есть для того, чтобы взяться за кого-нибудь другого, они должны были сначала избавиться от него?
Если все так и происходило на самом деле, то нельзя исключить, что во всей этой процедуре имелся момент когда они оказывались весьма уязвимыми.
И потом, было еще и нечто другое – смутное воспоминание о выступлении перед комиссией Конгресса, работавшей несколько лет назад. Буквально одна фраза, опубликованная в газетах под фотографией, на которой был изображен крайне удивленный мужчина, один из ведущих специалистов, занимавшихся установкой и монтажом Харви. Из бокса для свидетелей он во всеуслышание заявил, и его слова Харрингтон мог привести почти дословно: «Но, господин сенатор, уверяю вас, ни один компьютер в мире не может сравниться в надежности и быстродействии с тем, на что способен Харви».
Этот факт мог относиться или не относиться к делу, подумал Харрингтон, но его нужно держать в поле зрения; где-то здесь может скрываться его последняя надежда.
Самое удивительное, думал он совершенно хладнокровно, то, что обычная машина может занять место мыслящего существа. Он уже как-то высказался по этому поводу, и довольно едко, в одной из своих книг – он не мог сейчас вспомнить, в какой именно. Как сказал не далее чем сегодня вечером Седрик Мэдисон…
Он вовремя остановился.
В каком-то темном уголке сознания раздался сигнал тревоги, и Харрингтон кинулся к газете, валявшейся на полу.
Он схватил ее, и заголовок сразу же бросился ему в глаза. Немедленно роскошно переплетенные тома лишились своего элегантного облика, ковер сразу же стал грубым и приобрел вид только что доставленного из магазина. И Харрингтон стал самим собой.
Он остался сидеть на корточках, сдерживая рвущиеся из горла рыдания, сжимая дрожащей рукой газету.
Снова то же самое, и снова без малейшего предупреждения!
И смятая газета была его единственным щитом. – Ну-ка, попробуй еще раз! – крикнул он Харви Ну давай, давай! Харви не стал пробовать.
Если, конечно, во всем виноват именно Харви.
Харрингтон подумал, что он, разумеется, не может быть уверен в этом.
Да, он остался практически без защиты, если не считать этой смятой газеты с заголовком из литер высотой пять сантиметров.
Без защиты, с невероятной историей, в которую никто не поверит, если даже он попытается рассказать ее.
Без защиты, так как за спиной у него остались тридцать лет эксцентричного поведения, и теперь любой его шаг покажется не заслуживающим серьезного отношения.
Некоторое время он ломал себе голову, пытаясь сообразить, кто же смог бы помочь ему, но так ничего и не нашел. Полиция ему не поверит, а друзей у него слишком мало, а таких, на кого можно было бы положиться, почти нет, потому что за тридцать лет он завел слишком мало друзей.
Да, конечно, был сенатор, но у того сейчас хватало собственных проблем.
И это еще не все. Они могли использовать против него один безотказный прием.
Харви стоило всего лишь подождать, пока Харрингтон заснет. Он не сомневался, что, проснувшись, снова окажется последним джентльменом. Весьма вероятно, что он им и останется. Он будет последним джентльменом с гораздо большей надежностью, чем когда-либо раньше. Уж если они снова заполучат его, то уж постараются больше не выпускать.
Он рассеянно подумал, стоит ли вообще бороться против такой перспективы. Тридцать прожитых лет были совсем не такими уж плохими. Прожить таким же образом немногие оставшиеся годы – это отнюдь не будет выглядеть катастрофой, искренне подумал он. Пожалуй, размышляя таким образом, он был до конца честен с самим собой.
Но даже мысли об этом возмущали его, как несправедливое обвинение, как оскорбление его принадлежности к роду человеческому. Он имеет право быть самим собой, может, даже обязан быть самим собой. Харрингтон с усилием погасил вспышку гнева, подумав о той наглой силе, которая шутя могла превратить его совсем в другого человека.
Проблема наконец прояснилась. И две вещи были для него яснее ясного: то, что он решит делать, ему придется делать одному, не рассчитывая ни на чью помощь. И он должен взяться за это немедленно, до того, как уснет.
Он встал, держа газету в руке, выпрямился во весь рост и направился к дверям. Но через несколько шагов его остановила страшная мысль, неожиданно мелькнувшая в голове.
Ведь выйдя из дома, он окажется в темноте и потеряет свою единственную защиту. В темноте газета будет для него совершенно бесполезной, потому что он не сможет прочитать заголовок, даже напечатанный такими крупными буквами.
Он посмотрел на часы: было несколько минут четвертого. Темнота сохранится еще по меньшей мере часа три, если не больше, но он не мог ждать так долго.
Ему нужно выиграть время. Любым способом выиграть время. Через несколько часов он должен будет или уничтожить Харви каким-либо способом, или вывести его из строя. И если это и не окажется окончательным решением проблемы, то, по крайней мере, он сможет таким образом выиграть столь необходимое ему время.
Харрингтон продолжал стоять перед дверьми, потому что ему пришла в голову еще одна мысль: ведь он мог ошибаться. Его противниками могли быть совсем не Харви, Мэдисон и Уайт. Он создал в своей голове сложную конструкцию из разрозненных фактов и убедил себя в том, что все так и есть на самом деле. Он понял, что мог буквально загипнотизировать себя и сделать это столь же эффективно, как это проделывал Харви – или кто-нибудь другой – на протяжении последних трех десятков лет.
Впрочем, в то же время это мог быть и не гипнотизм, а нечто совсем иное.
Но что бы там ни было, сейчас не время задаваться подобными вопросами. Другие, более насущные проблемы требовали немедленного решения.
Прежде всего, он должен придумать себе какой-нибудь другой щит Без этого он никогда не доберется до здания редакции «Ситуации».
Нужна какая-то ассоциация идей, подумал он, какой-то способ напомнить себе в случае необходимости, кем и чем он является в действительности. Что-то вроде бечевки, намотанной вокруг пальца, какой-то колокольчик, который должен зазвонить у него в мозгу в случае опасности.
Дверь кабинета распахнулась, и на пороге появился старина Адамс, живописно задрапированный в свой залатанный халат.
– Мне показалось, что кто-то разговаривает у вас, сэр.
– Это я говорил, – ответил Харрингтон. – По телефону.
– Я подумал, что кто-то зашел к вам. Хотя сейчас и не время для визитов.
Харрингтон молча смотрел на старика. Он чувствовал, как его отвратительное настроение начинает понемногу улучшаться, потому что Адамс оставался самим собой – Адамс не изменился. Он был единственным устойчивым и правдивым элементом во всей картине.
– Если вы позволите, сэр, – почтительно пробормотал Адамс, – у вас рубашка немного выбилась из брюк.
Спасибо, – ответил Харрингтон. – А я и не заметил. Спасибо, что вы сказали мне об этом.
– Может быть, сэр, вам стоит лечь спать? Уже очень поздно.
– Именно это я и собираюсь сделать, – согласился Харрингтон. – Прямо сейчас.
Некоторое время он слушал, как шаркающие шаги Адамса затихают, удаляясь от кабинета по вестибюлю. Потом он заправил рубашку в брюки. Неожиданно его осенила идея: полы рубашки… Это лучше, чем шнурок на пальце!
Ведь, увидев человека в таком наряде, кто угодно заинтересовался бы – да и сам он, последний джентльмен, в первую очередь, – почему это у него полы рубашки завязаны узлом?
Он запихал газету в карман куртки и снова вытащил рубашку из брюк. Ему пришлось расстегнуть несколько нижних пуговиц, прежде чем в его распоряжении оказалось достаточно ткани, чтобы завязать подходящий узел.
Он старательно затянул его, отличный узел, который не мог развязаться сам собой. И достаточно тугой, чтобы его обязательно нужно было развязать, прежде чем снять рубашку.
И прежде чем отправиться в путь в своей завязанной узлом рубашке, Харрингтон придумал дурацкую фразу, чтобы напоминание было понадежнее: «Я завязал этот узел потому, что я не последний джентльмен».
Он вышел из кабинета, спустился с крыльца и обошел вокруг дома, потому что ему нужно было заглянуть в сарайчик, где хранился садовый инструмент и прочая хозяйственная мелочь.
Он долго чиркал одну спичку за другой, пока наконец не нашел то, что нужно: большой деревянный молоток. С этим орудием он направился к машине. И все время он не переставал твердить глупую фразу: «Я завязал этот узел потому, что я не последний джентльмен».
Вестибюль редакции был столь же великолепен, как и в прошлый раз; кроме того, он был абсолютно пустынным и тихим. Харрингтон пересек его, направляясь к двери, над которой висела табличка «Харви».
Дверь открылась сразу, хотя он и подозревал, что она может оказаться запертой. Войдя в помещение, он тщательно притворил ее за собой.
Он очутился на узком мостике, кольцом обегавшем вдоль стен большое круглое помещение. Посредине, в большом углублении находилось то, что не могло быть ничем иным, кроме Харви.
– Здравствуй, сынок, – сказал ему Харви. Точнее, он не произнес эту фразу, а передал ее в виде мысли прямо в мозг Харрингтона. – Здравствуй. Я очень рад, что ты наконец вернулся.
Харрингтон резко шагнул вперед, к металлическим перилам, прислонил к ним деревянный молоток и ухватился обеими руками за горизонтальный металлический стержень поручней. Наклонившись вперед, он с головой окунулся в поток отеческой любви, поднимавшийся к нему от машины, находившейся там, внизу. Это была любовь его отца, и он словно снова увидел его посеребренные возрастом бакенбарды, трубку, куртку из твида и многое другое, о чем забыл давным-давно.
В горле у него появился колючий комок, и слезы навернулись на глаза. В одно мгновение он забыл пустынную улицу, по которой только что возвращался домой, забыл бесчисленные годы одиночества…
Любовь отца продолжала струиться к нему из углубления в центре зала. Это была любовь с легким оттенком юмора – и как только он мог ожидать чего-либо другого от существа, с которым был так тесно связан на протяжении долгих тридцати лет?
– Ты хорошо поработал, мой мальчик. Я горжусь тобой. И я счастлив, что ты вернулся ко мне.
Харрингтон перегнулся через перила, неудержимо притягиваемый сыновним чувством к отцу, неподвижно лежавшему там, в углублении. Одна из металлических штанг оказалась на уровне его живота, и твердый узел на рубашке больно воткнулся ему в живот.
Автоматически сработал рефлекс, словно какой-то переключатель щелкнул у него в голове, и он почти машинально произнес:
– Я завязал этот узел потому, что я не… – Тут он спохватился, встряхнулся и начал повторять фразу уже осознанно, словно произнося магическое заклинание: – Я завязал этот узел потому, что я не последний джентльмен. Я завязал этот узел потому, что я…
Он понял, что уже не говорит, а кричит. Пот струился по его лицу. Он боролся со своим телом, словно пьяный, пытался отодвинуться от поручней, но по-прежнему ощущал присутствие отца. Тот не навязывал ему свою волю, ничего не требовал от него, но явно был уязвлен и заинтригован проявлением сыновней неблагодарности.
Рука Харрингтона сорвалась с поручней. Его пальцы коснулись рукоятки деревянного молотка и тут же сомкнулись на ней. Он поднял молоток над головой, чтобы метнуть его туда…
В этот момент он услышал за спиной сухой щелчок дверного замка и быстро обернулся.
На пороге стоял Седрик Мэдисон, и на его лице, лице, принадлежавшем мертвой голове, застыло выражение невозмутимого спокойствия.
– Избавьте меня от него! – прорычал Харрингтон. – Пусть он оставит меня в покое, иначе берегитесь!
Он почувствовал изумление, поняв, что говорит серьезно, говорит о том, что способен сделать. Его поразило, что даже у такого мирного человека, каким он не без оснований считал себя, могло возникнуть яростное желание убить другого человека, убить без малейших колебаний.
– Хорошо. – Мэдисон пожал плечами, и отеческая любовь исчезла, словно оборвалась пленка; мир снова стал пустым, жестким и холодным.
Харрингтон и Мэдисон по-прежнему стояли лицом к лицу.
– Я искренне сожалею, Харрингтон, что все получилось таким образом. Вы первый, кто…
– Вы совершили большую ошибку, – гневно бросил Харрингтон. – Вы решили, что меня можно просто выбросить на свалку. И что же, по-вашему, я должен был делать? Прогуливаться целыми днями в парке, размышляя о том, что случилось со мной?
– Мы готовы снова взять вас. Согласитесь, что это была легкая, приятная жизнь. И так вы сможете прожить до конца.
– Я не сомневаюсь, что вы сделали бы это, если бы смогли, даже не спрашивая меня. Вы, Уайт и все остальные.
Мэдисон вздохнул, и вздох этот был полон терпения и понимания.
– Оставьте Уайта, не впутывайте его в наши дела, – произнес он. – Этот несчастный дурачок думает, что Харви… – Он не закончил фразу, оборвав ее коротким смешком. – Поверьте, Харрингтон, наша организация исключительно надежна и эффективна. Она гораздо эффективней, чем, например, даже дельфийский оракул.
Мэдисон был бесконечно уверен в себе. Настолько уверен, что Харрингтон содрогнулся от ощущения опасности. Ему почудилось, что он оказался в ловушке. Его загнали в тупик, из которого не было выхода.
Он был отдан на милость победителей. Мэдисона, стоявшего перед ним, и Харви, находившегося там, внизу, позади. В любой момент Харви мог нанести ему очередной удар. И, несмотря на все что он придумал, несмотря на молоток в руке, несмотря на узел на рубашке и идиотскую фразу, придуманную им, Харрингтон боялся, что не сможет устоять.
– Я не совсем понимаю ваше удивление, – мягко сказал Мэдисон. – На протяжении многих лет Харви был для вас отцом или тем, что наиболее похоже на отца. Может быть, даже больше чем отцом. Вы были всегда, и днем, и ночью, гораздо ближе к нему, чем к любому другому человеческому существу Он заботился о вас, следил за вашим самочувствием, иногда немного направлял вас Ваши взаимоотношения были гораздо более тесными, чем вы можете себе представить.
– Но почему? – воскликнул Харрингтон, безуспешно пытавшийся найти выход из тупика, отыскать способ защиты более действенный, чем завязанная узлом рубашка.
– Просто и не знаю, как объяснить вам, чтобы вы поверили! – страстно воскликнул Мэдисон. – Дело в том, что отеческие чувства вовсе не были стратагемой Сейчас вы находитесь к Харви, а может, и ко мне несравненно ближе, чем когда-либо сможете сблизиться с любым другим существом. Никто не смог бы работать с вами так долго, как Харви; между вами с годами установилась теснейшая связь. Как Харви, так и я – мы не хотим ничего иного, кроме вашего блага Может быть, вы позволите нам доказать это?
Харрингтон молчал. Он колебался, хорошо понимая, что не может позволить себе сейчас ни малейшего колебания. К тому же слова Мэдисона казались весьма обоснованными.
– Мир вокруг вас, – продолжал Мэдисон, – холоден и жесток. Никто в нем никогда не пожалеет вас Вы не смогли построить для себя мягкий, приятный мир, и теперь, когда вы видите окружающее таким, каким оно является на самом деле, у вас наверняка возникает чувство протеста или даже отвращения. И у вас нет ни малейшего основания стремиться остаться в этом мире Мы же можем обеспечить вам уют и безопасность. Нет сомнения в том, что вы будете счастливы. Оставшись же в своем суровом мире, вы ничего не выиграете Разве это предательство по отношению к человечеству – вернуться в мир, который вам близок? Теперь, когда вы перестали писать, вы больше ничем не можете затронуть человеческую расу, ничем не можете повредить ей. Ваша задача выполнена.
– Нет! – закричал Харрингтон. Мэдисон сочувственно покивал:
– К какой же все-таки странной расе вы принадлежите, Харрингтон.
– Я? К расе? – недоуменно повторил Харрингтон – Вы говорите так, словно вы.
– У всех вас в характере есть некое величие, – сказал Мэдисон. – Но на вас нужно как следует нажать, чтобы оно смогло проявиться. Вы нуждаетесь в том, чтобы вас поддерживали и направляли; вам нужно оказаться в опасной ситуации, чтобы смогло проявиться это ваше величие духа. У вас должны быть проблемы, над которыми нужно как следует поломать голову Вы чем-то похожи на детей. Мой долг, Харрингтон, долг, который я торжественно поклялся выполнить, состоит в том, чтобы выявлять величие, в скрытом виде находящееся в вас. И я не позволю ни вам, ни кому-либо другому помешать мне выполнить этот долг.
Правда запоздало предстала перед Харрингтоном во всей своей наготе, словно разом прорвалась сквозь черную завесу, не позволявшую до этого осознать ее. Она всегда была здесь, рядом со мной, подумал Харрингтон, и я должен, просто обязан был увидеть ее раньше.
Инстинктивно он вскинул над головой деревянный молоток, словно хотел защититься от чего-то ужасного и отвратительного. Одновременно он будто со стороны услышал свой голос, услышал так, как если бы он принадлежал кому-то другому:
– Боже мой! Да ведь вы же не человек!
Описав стремительную дугу, молоток опустился, и Мэдисон метнулся в сторону, стараясь избежать удара. Во время этого движения его лицо и руки внезапно изменились, как, впрочем, и все его тело Все выглядело так, словно это было не изменение формы или объема; нет, он скорее просто расслабился, и тут же его лицо, руки и тело – короче, все, что было Мэдисоном, – просто вернулись в исходное и, очевидно, естественное для них состояние после того, как их долгое время принуждали имитировать человеческую оболочку Одежда Мэдисона затрещала, разошлась по швам под давлением изменившейся формы тела и повисла лохмотьями.
Сейчас Мэдисон казался крупнее, чем раньше; вероятно, это была только видимость. В то же время можно было подумать, что он постоянным усилием как бы сжимал свое тело, чтобы привести его в соответствие с человеческими нормами. Только его голый череп практически не изменился, если не считать, что он имел теперь зеленоватый оттенок.
Молоток с грохотом ударился о металлический настил мостков и отлетел в сторону, в то время как существо, только что бывшее Мэдисоном, двинулось вперед, двинулось легко, словно потекло, и в этом движении чувствовалась такая нечеловеческая уверенность, что Харрингтон похолодел. Сзади, со стороны Харви, до него доходили волны гнева и разочарования. Клокочущего гнева отца, столкнувшегося с непослушанием упрямого ребенка, которого нужно немедленно наказать для его же блага. Правда, единственно возможным наказанием могла быть смерть, потому что ни один непослушный ребенок не должен мешать великому и торжественному свершению святого дела. В этой мстительной ярости, буквально сотрясавшей сознание, Харрингтон уловил странную близость между машиной и чужаком, как будто они оба думали и действовали даже не синхронно, а как одно существо.
Послышалось свирепое рычание, звуки рвущегося наружу, хотя и сдерживаемого еще звериного гнева, и Харрингтон осознал, что шагнул навстречу существу, широко расставив напряженные руки с изогнутыми, словно когти, пальцами, готовые хватать и рвать в клочья врага, вынырнувшего из тени, простиравшейся над углублением посредине зала и языками достигавшей местами стен.
Харрингтон медленно шагал на напряженных ногах, и его подталкивал вперед страх, жуткий страх, глубоко внедрившийся в сознание. Но над этим страхом явно одерживала верх крепнущая уверенность в своей, сейчас почти звериной, силе.
Он еще успел в какое-то мгновение удивиться, когда до него дошло, что это хриплое рычание издавал не кто иной, как он сам; и, почувствовав, что от смертоносного гнева в уголках рта выступила пена, он тоже удивился. Но эти бессмысленные чувства тут же исчезли, потому что он осознал, кем был на самом деле. Потом на все, чем он был, чем мог быть; на все, что он думал и мог думать, хлынула волна инстинктов дикого зверя и захлестнула сознание, оставив на поверхности только неукротимое стремление убивать.
Он протянул руки вперед, схватил чужую плоть и стал рвать ее, словно хотел отделить от костей. В слепом пылу схватки, в яростном порыве убивать и еще раз убивать он едва чувствовал боль от ударов когтей и клюва своего противника.
…Где-то рядом раздался дикий вопль, крик страшной боли и отчаяния, который тут же перешел в стон последней агонии, и все стихло.
Харрингтон наклонился над лежавшим на полу телом и поразился, что в горле все еще клокочет гнев, вырывавшийся наружу хриплым ворчанием.
Он выпрямился и вытянул перед собой руки. В неясном свете он разглядел, что они были отвратительно грязными, выпачканными в чем-то красном. Из углубления в центре зала еще слышались крики Харви, которые быстро превратились в стоны и затихли.
Шатаясь, Харрингтон подошел к перилам и заглянул вниз. Из всех швов и соединений Харви наружу пробивались струйки вязкой темной жидкости. Казалось, что из него вытекали разум и жизнь.
И где-то далеко раздался голос (о, если бы это был голос!):
– Жалкий идиот! Посмотри, что ты наделал! Что теперь будет с тобой?
– Как-нибудь справимся! – бросил в ответ Харрингтон, обычный Харрингтон, который не был ни последним джентльменом, ни неандертальцем.
На предплечье у него была глубокая ссадина, из которой все еще сочилась кровь, выпачкавшая рваную куртку. Он чувствовал, что одна сторона его лица была влажной и, кажется, распухла, но особой боли не ощущал.
– Мы удерживали вас на верном пути, – прошелестел умирающий голос, слабый и далекий. – Мы столько веков помогали вам…
Да, подумал Харрингтон, да, приятель, ты совершенно прав. Был когда-то оракул в Дельфах, а кто был еще раньше? И как ловко вы приспосабливались – то использовали оракула, то компьютер. А что было в промежутке между ними? Может быть, кто-то руководил нами из монастырских стен? Или из дворца? А может, из какой-нибудь невзрачной конторы?
Впрочем, операция могла и не быть непрерывной. Вполне возможно, что вмешательство требовалось лишь в определенные критические моменты истории.
И какова же была истинная цель этого гигантского предприятия? Направлять неуверенно бредущее вперед человечество? Добиваться, чтобы оно думало и действовало так, как им было нужно? Или они хотели приручить человечество, заставить его служить интересам чужой расы? Кто знает, каких вершин достиг бы сейчас род людской, если бы не было этого вмешательства со стороны…
«А я сам? – подумал Харрингтон. – Был ли я лицом, игравшим наиболее существенную роль, человеком, предназначавшимся для того, чтобы написать финальный вердикт многим векам обработки человеческой расы? Да еще не своими словами, а по подсказке этих двух существ: одного, находившегося в углублении в центре зала, и другого, лежавшего на мостике. Но было ли их действительно только двое? Или они составляли одно существо? Возможно ли, чтобы они были продолжением друг друга? Ведь в тот момент, когда погиб Мэдисон, почти сразу же скончался и Харви…»
– Вот в чем твоя беда, приятель, – обратился Харрингтон к лежавшему перед ним на полу существу – Ты слишком во многом был похож на человека. Ты стал чересчур самоуверенным, чисто по-человечески самоуверенным, и наделал ошибок.
И худшей из ошибок было то, что они позволили ему ввести неандертальца в число героев одного из его первых романов.
Харрингтон медленно направился к дверям, потом остановился и оглянулся на лежавшую на полу бесформенную массу. Через час-другой ее обнаружат И сначала решат, что кто-то убил Мэдисона. Но потом заметят изменения и поймут, что это не Мэдисон. Да, им придется поломать себе голову, тем более что Мэдисона они так и не найдут. Будет много вопросов и по поводу Харви, который больше никогда не заработает никогда не выдаст ни одного пророчества. И они найдут деревянный молоток!