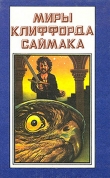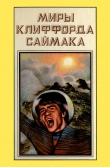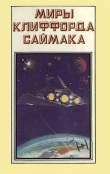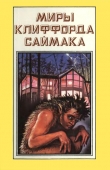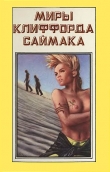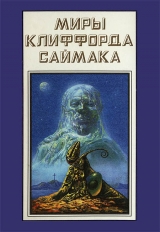
Текст книги "Миры Клиффорда Саймака. Книга 18"
Автор книги: Клиффорд Дональд Саймак
Жанр:
Научная фантастика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 23 (всего у книги 28 страниц)
Вернувшись к стойке, он положил журнал перед собой и пристально уставился на обложку. Строчка крупных четких букв осталась на прежнем месте. Она не изменилась, не исчезла. Харрингтон провел пальцем по буквам и решил, что они выглядят именно так, как и должны выглядеть.
Торопливо перелистав журнал, он отыскал статью. Со страниц журнала на него смотрело лицо, которое, как он знал, должно было быть его лицом, хотя он и представлял себя несколько иным. Это было более молодое, более смуглое лицо, к которому хозяин относился явно без излишнего внимания. Ниже находилась еще одна фотография – изображенная на ней физиономия буквально светилась благородством. Между фотографиями было напечатано: «Кто из этих двух людей является настоящим Холлисом Харрингтоном?»
Там была еще фотография дома, и он узнал это здание, несмотря на жутко запущенный вид; выше был изображен тот же самый дом, но сильно идеализированный, сверкающий белизной, окруженный ухоженным парком; это был дом с ярко выраженной индивидуальностью.
Он не стал читать текст, помещенный между фотографиями домов, поскольку и так знал, что там напечатано. А вот что было в самой статье.
Действительно ли Холлис Харрингтон – это больше, чем один человек? Действительно ли он тот человек, каким представляется самому себе, человек, созданный его собственным воображением, человек, существующий в удивительном зачарованном мире, где жизнь так легка и приятна, а обычаи и привычки столь утонченны и изящны? Или его поведение – не что иное, как тщательно продуманное притворство, редчайший образец идеально разыгрываемого спектакля? Или, может быть, для того чтобы писать так, как пишет он, используя отточенный, выразительный, полный подтекста стиль, присущий ему вот уже тридцать лет, ему было совершенно необходимо создать для себя иную жизнь, резко отличающуюся от его реальной жизни? Может ли быть, что он был вынужден принять этот странный внутренний мир и поверить в него, как будто от этого зависела возможность продолжать писать?..
Чья-то рука опустилась на страницу, не давая возможности читать дальше. Харрингтон удивленно вскинул голову. Это была рука женщины из-за стойки. Он заметил, что глаза у нее блестели, как будто она с трудом сдерживала слезы.
– Мистер Харрингтон, – пробормотала она. – Прошу вас, мистер Харрингтон, не надо читать это.
– Но, миссис…
– Я ведь говорила Харри, что не стоит выставлять этот журнал. Что его лучше спрятать. Но он ответил, что вы все равно заезжаете к нам только по субботам.
– Вы хотите сказать, что я уже бывал здесь раньше?
– Да, вы заглядываете к нам почти каждую субботу, – удивилась женщина. – Почти каждую субботу вот уже много лет подряд. Вам нравится наш пирог с вишнями. Вы обычно заказываете большую порцию.
– Да-да, конечно, – промямлил Харрингтон.
В действительности же он не имел ни малейшего представления об этом заведении, если только. О Боже! Если только он не убедил себя давным-давно, что это нечто совсем другое, какой-нибудь дворец с позолоченной посудой, посещаемый сливками общества.
Нет, это просто невозможно – настолько основательно обманывать себя, подумал он. Может быть, это и удавалось бы некоторое время, но не тридцать же лет! Это не удалось бы никому разумеется, без посторонней помощи.
– Я забыл, – сказал он блондинке. – Сегодня у меня словно не своя голова на плечах. У вас найдется кусочек этого пирога с вишнями?
– Ну конечно! – ответила женщина.
Она сняла с полки поднос с пирогом, отрезала от него солидный кусок и положила на тарелку. Потом поставила тарелку с пирогом и вилкой перед клиентом.
– Простите меня, мистер Харрингтон, – покаянно сказала она. – Мне очень жаль, что я вовремя не спрятала этот журнал. Вы не должны придавать значения тому, что в нем напечатано, – как и всему остальному. Ничему из того, что о вас говорят или пишут люди. Мы все здесь по-настоящему гордимся вами. – Она перегнулась через стойку. – Вы должны наплевать на все это. Вы слишком великий писатель, чтобы это могло задеть вас.
– Я в общем-то и не думаю, что это меня задевает, – пожал плечами Харрингтон.
Он сказал чистую правду, поскольку был так ошеломлен, что статья не могла его всерьез обеспокоить. Он ощутил только глубочайшее удивление, заполнившее все его существо и не оставившее места для всех прочих чувств.
«Я хочу заключить с вами соглашение», – сказал чужак, сидевший в темном углу кабины ресторана много лет тому назад.
Но Харрингтон не имел ни малейшего представления о сути соглашения. Он не представлял, ни каковы были условия, ни с какой целью заключалось это соглашение, хотя и мог кое о чем догадаться.
Он писал книги тридцать лет без перерыва, и его труды были достойно вознаграждены. Он имел не только деньги, известность и почести, но и нечто более ценное: большой белый дом на холме среди густого парка, старого верного слугу, будто явившегося со страниц романа, мать с благородной внешностью, словно сошедшую с картины Уистлера. Горьковато-сладостные воспоминания о романтической идиллии, связанные с надгробным камнем…
Но теперь труд его жизни завершен, ему перестали платить вознаграждение, и он перестал обманывать самого себя.
Выплата вознаграждения прекратилась, и иллюзии, являвшиеся его частью, рассеялись как дым. Показное величие и мишура исчезли из его сознания. Теперь он уже не мог принимать старую колымагу за роскошный сверкающий лимузин. Теперь он снова был в состоянии правильно прочесть надпись, выбитую на надгробном камне. И воспоминания о матери, благородной старой даме в стиле Уистлера, исчезли из его мозга, – воспоминания, которые еще сегодняшним вечером были так глубоко внедрены в его сознание, что он пытался зайти в дом, бывший идеальным двойником того, который отпечатался в его памяти.
Теперь он понимал, что видел все, окружавшее его, в дымке, придававшей любому предмету солидность или изысканность, словно он был героем волшебных сказок.
«Но возможно ли такое?» – подумал он. Осуществимо ли столь длительное и всестороннее влияние на человеческий мозг? Неужели человек, находящийся в здравом уме, мог забавляться иллюзиями тридцать лет подряд, обманывая себя до такой степени? Может быть, он сошел с ума?
Харрингтон хладнокровно обдумал эту гипотезу, и она показалась ему маловероятной, потому что никакой сумасшедший не смог бы писать так, как он. А то, что он действительно написал все то, что считал написанным, подтвердил его сегодняшний разговор с сенатором.
Следовательно, все великолепие вокруг него было не чем иным, как химерой. Химерой, и ничем иным. Химерой, созданной с помощью того существа без лица, кем бы оно ни было, с которым было заключено соглашение в тот невероятно далекий вечер.
Харрингтон также думал, что ему, возможно, и не требовалось значительное вмешательство со стороны. Человеку вообще свойственно создавать иллюзии. Особенно талантливы в этом отношении дети – они действительно превращаются в то, чем хотят стать. Да и многие взрослые ухитряются искренне верить в то, во что считают нужным верить, или в то, во что хотят верить, чтобы обеспечить себе спокойное существование.
Шаг между реальностью и иллюзией преодолевается исключительно легко, подумал он, пожалуй, так же легко, как шаг между обычной формой самовнушения и полным самообманом.
– Мистер Харрингтон, – сказала женщина, – вы совсем ничего не едите.
– Нет, что вы, – ответил Харрингтон, взял вилку и нацепил на нее солидный кусок пирога.
Таким образом, вознаграждением за труд была эта его способность к созданию иллюзий, это дарованное ему умение творить без какого-либо сознательного усилия свой собственный мир, в котором он находился один. Вероятно, это было одно из предварительных условий его успеха как писателя – создание именно такого мира, именно такого образа жизни, которые, согласно чьим-то расчетам, обеспечивали наилучшее качество его работы.
Ну и какова же цель всей этой комедии?
Харрингтон не имел ни малейшего представления о том, что это могла быть за цель.
Конечно, если только вся совокупность его произведений не была ею сама по себе.
Тихо лившаяся из радиоприемника музыка оборвалась, и голос диктора торжественно возвестил: «Мы прерываем нашу программу для того, чтобы сообщить вам только что полученную нами новость. Ассошиэйтед Пресс передает: сенатор Джонсон Энрайт назначен Белым домом на должность государственного секретаря. А теперь мы продолжаем нашу музыкальную программу…»
Харрингтон застыл, не донеся вилку с куском пирога до рта.
– Печать судьбы может лежать на одном-единственном человеке! – пробормотал он.
– Что вы сказали, мистер Харрингтон?
– Ничего, ничего. Просто я вспомнил одну фразу. Это не имеет значения.
Тем не менее было ясно, что это имеет значение.
Сколько еще людей во всем мире могли прочесть и запомнить какую-нибудь строчку из его книг? На сколько судеб оказала воздействие какая-нибудь из написанных его рукой фраз?
Интересно, помогали ли ему писать эти фразы? Был ли у него талант, или он всего лишь записывал мысли, родившиеся в чьем-то сознании? Помогали ли ему писать в той же степени, в которой его заставляли заниматься самообманом? Неужели именно по этой причине он сейчас чувствовал себя не способным продолжать писать?
Но каковы бы ни были ответы на все эти вопросы, теперь все кончено. Он выполнил порученную ему миссию, и теперь его просто вышвырнули за дверь. И эта отставка оказалась столь же эффективной, столь же всеобъемлющей, как и следовало ожидать: все наваждение тут же превратилось в свою противоположность, начиная с утреннего визита представителя журнала. И вот теперь Харрингтон сидел здесь, у стойки бара, старый угрюмый человек, взгромоздившийся на табурет и жующий пирог с вишнями.
Сколько других угрюмых мужчин могли оказаться в подобной ситуации в настоящий момент? За все эти годы? За многие поколения? Сколько их было, внезапно лишенных жизни-мечты, как это только что произошло с ним, безуспешно пытавшихся понять, кто и за что наказал их таким образом? И сколько еще других людей продолжали в этот самый момент жить фальшивой, сотканной из иллюзий жизнью, какой жил он в течение тридцати лет до сегодняшнего дня?
Он отдавал себе отчет в том, что было бы смешно полагать, будто он является единственным. Это не имело бы никакого смысла – создавать иллюзии только у одного человека.
Сколько эксцентричных гениев, возможно, не были ни гениями, ни тем более эксцентричными гениями до того момента, когда оказывались в каком-нибудь мрачном закутке перед человеком без лица, слушая его предложения?
Предположение, простое предположение, что единственной целью, стоявшей перед ним на протяжении прошедших тридцати лет, было добиться, чтобы сенатор Энрайт не оставил политическую жизнь и был готов в нужный момент взять на себя руководство Госдепартаментом? Но почему, для кого могло быть так важно, чтобы некое лицо заняло в определенный момент конкретный пост? Достаточно ли важным было это, чтобы оправдать использование целой жизни одного человека, чтобы реализовалось нужное кому-то событие в жизни другого человека?
Ключ к разгадке всего этого должен находиться поблизости, подумал Харрингтон. Поблизости, но где-то в прошлом; в этой путанице событий, произошедших за тридцать лет, должны находиться какие-то указатели, стрелки которых направлены на человека, на предмет, на организацию, на что-нибудь еще, что отвечает за все случившееся. Харрингтон почувствовал, как в нем рождается глухой гнев – гнев, не имеющий формы, абсурдный, почти лишенный смысла, не имеющий ориентиров и неспособный сконцентрироваться на чем-либо.
В помещение вошел мужчина. Подойдя к стойке, он обосновался на соседнем табурете.
– Привет, Глэдис! – оглушительно провозгласил он. После этого он обратил внимание на Харрингтона и дружески похлопал его по спине.
– А, это вы, старина! – гаркнул он. – Про вас тут опять пропечатали в газете!
– Полегче, Джо, полегче, – сердито бросила Глэдис. – Чего тебе подать?
– Дай-ка мне хороший кусок яблочного пирога, ну и еще чашку кофе.
Харрингтон отметил про себя, что мужчина был большим и очень волосатым. Он был одет так, как обычно одеваются водители грузовиков, выполняющие дальние рейсы.
– Вы что-то сказали по поводу моего имени в газете? Джо швырнул на прилавок сложенный в несколько раз номер газеты.
– Вот здесь, на первой странице. Статья с вашим фото.
Он нацелил на газету палец, обильно выпачканный в смазке.
– Только что из типографии! – рявкнул он и тут же залился продолжительным оглушительным смехом.
– Спасибо, – вежливо поблагодарил его Харрингтон.
– Так давайте, читайте ее! – шумно потребовал Джо. – Если, конечно, она вас интересует.
– Что вы, что вы, конечно же, интересует.
Заголовок сообщал: «Знаменитый писатель уходит со сцены».
– Так вы решили завязать? – снова загрохотал Джо. – Что ж, уж я-то возражать не стану. Сколько вы их уже напечатали, этих книжек?
– Четырнадцать, – ответил Харрингтон.
– Соображаешь, Глэдис? Четырнадцать книжек! Да я столько не прочитал за всю свою жизнь!
– Лучше бы ты заткнулся, Джо! – в сердцах бросила Глэдис, резко швырнув на стойку тарелку с пирогом и чашку кофе.
Дальше в статье говорилось: «Холлис Харрингтон, автор знаменитого романа "Взгляните на опустевший дом", награжденный за него Нобелевской премией, прекращает литературную деятельность после публикации своего последнего произведения "Вернись, душа". На этой неделе очередной номер "Ситуации" официально сообщит эту новость за подписью своего литературного критика Седрика Мэдисона. По мнению Мэдисона, Харрингтон пришел к выводу, что в своем последнем романе он полностью исчерпал тезис, который начал разрабатывать около тридцати лет назад, написав первое из своих четырнадцати произведений…»
Пальцы Харрингтона судорожно сжались, скомкав газету.
– Что-нибудь не так, старина?
– Нет, все в порядке, – ответил он.
– Этот Мэдисон – настоящее трепло, – заявил Джо. – Я думаю, что ни одному его слову верить нельзя. Он просто…
– Нет, он прав, – прервал его Харрингтон. – Мне придется признать, что он прав.
«Но как он мог узнать об этом?» – подумал Харрингтон. Как мог Седрик Мэдисон, этот своеобразный тип, фанатик своей работы, проводящий почти круглые сутки в своем заваленном бумагами и книгами кабинете, где он пишет критические статьи, непрерывным потоком печатающиеся на страницах журнала, как он мог узнать о том, что Харрингтон бросил писать? Тем более что сам он ни о чем подобном не думал еще сегодня утром?
– Вам не нравится пирог? – поинтересовался Джо. – Да и кофе у вас давно остыл.
– Оставь его в покое, – настойчиво потребовала Глэдис. – Я сейчас пойду подогрею ему кофе.
– Вы не возражаете, если я оставлю себе эту газету? – спросил Харрингтон.
– Ну конечно, старина. Я уже прочитал ее. Я вообще читаю только спортивные страницы.
– Спасибо, – кивнул Харрингтон. – Ну а теперь я должен повидать кое-кого.
Холл в здании редакции «Ситуации» был пуст и великолепен. Он сверкал тем безукоризненным блеском, что был характерен для самого журнала и составлял гордость его издателей.
Гигантский глобус диаметром около четырех метров медленно и величественно вращался внутри прозрачной сферической оболочки. На его основании светилось множество циферблатов, показывавших время на разных меридианах. На поверхности глобуса то и дело вспыхивали огоньки – в этих точках планеты в данный момент происходило нечто, способное привлечь внимание.
Войдя в холл, Харрингтон был вынужден остановиться, чтобы осмотреться, так как его несколько дезориентировало великолепие обстановки. Наконец он разобрался: лифты находились слева от входа. Их светящиеся указатели сообщали, на каком этаже находятся кабины. С противоположной стороны он увидел стойку с табличкой «Справки», за которой сейчас никого не было. Дальше, в глубине холла, виднелась дверь с надписью «Харви». И ниже уточнялось: «Прием посетителей ежедневно с 9 до 17 часов».
Харрингтон подошел к информационному стенду. Вытянув шею, он отыскал нужное ему имя и номер кабинета: «Седрик Мэдисон. Каб. № 317».
Нажав на кнопку, он вызвал лифт.
Выйдя на третьем этаже, он увидел справа большой редакционный зал, а слева – длинный вестибюль, в который выходили двери бесконечного ряда кабинетов. Он двинулся налево. Нужный ему кабинет оказался третьим. Дверь была открыта, и Харрингтон вошел. За столиком, заваленным книгами, сидел мужчина. Книги были повсюду, не только на столе, но и на полках вдоль стены; они даже валялись беспорядочными грудами на стульях и на полу.
– Мистер Мэдисон? – спросил Харрингтон. Человек оторвался от книги, лежавшей на столе перед ним, и посмотрел на Харрингтона.
В этот момент Харрингтон неожиданно очутился в темной, заполненной табачным дымом кабине ресторана, где когда-то, давным-давно, он заключил соглашение с человеком без лица. Но теперь у этого человека было лицо. Доброжелательность, буквально излучавшаяся человеком, ее воздействие на все его чувства, непреклонная сила его личности пробудили в Харрингтоне ощущение беспокойства и даже отвращения.
– Вот тебе и на! Это же Харрингтон! – воскликнул человек, на этот раз имевший лицо. – Как это любезно с вашей стороны – заглянуть ко мне! Невозможно поверить, что…
– Да, разумеется, – вежливо остановил его восторги Харрингтон.
Он едва отдавал себе отчет в том, что произнес эти слова. Очевидно, то была автоматическая реакция, что-то вроде движения, когда человек вскидывает руки перед лицом, пытаясь защититься от внезапного удара. Конечно, простая защитная реакция.
Вскочивший на ноги Мэдисон уже обходил стол, чтобы пожать гостю руку. Если бы это было возможно, Харрингтон повернулся бы и бросился бежать. Но он не мог сдвинуться с места – он словно окаменел. Он был ни на что не способен, за исключением этой рефлекторно проявившейся вежливости, холодной и бесстрастной, выработавшейся у него за тридцать лет симуляции аристократического образа жизни.
Он чувствовал, что на его лице застыла маска завсегдатая светских кругов общества – и это весьма кстати, подумал он, потому что было бы крайне неосторожно показать каким-либо образом, что он узнал человека.
– Просто невероятно, что мы с вами до сих пор ни разу не встречались, – сказал Мэдисон. – Я прочитал все, что вы написали, и все мне понравилось.
– Вы очень любезны, – сообщила, протягивая руку, вежливая и спокойная часть Харрингтона. – Если мы действительно не встретились до сих пор, то в этом виноват только я. Я не бываю в обществе так часто, как должен.
Он ощутил в своей руке руку Мэдисона и сжал его пальцы с неотчетливым чувством отвращения, потому что рука была сухой и холодной. Казалось, это лапа хищника, вооруженная когтями.
Человек перед ним явно напоминал хищную птицу: сухая, натянутая на скулах кожа лица, голова, похожая на голый череп, пронзительный взгляд удивительно подвижных глаз, полное отсутствие волос, узкий безгубый рот, похожий на щель от удара ножом.
– Вы должны присесть, – потребовал Мэдисон, – и побыть у меня некоторое время. Мы должны поговорить о многих и многих вещах!
Возле стола стояло только одно свободное кресло – все остальные были завалены книгами. Харрингтон уселся, застыв в напряженной позе со все еще пересохшим от пережитого страха ртом.
Мэдисон вернулся в свое кресло за столом. Наклонившись вперед, он промолвил:
– Вы выглядите точно так, как на фотографиях.
– У меня хороший фотограф. Мой издатель настаивает на этом, – с внешним безразличием ответил Харрингтон.
Он чувствовал, что постепенно возвращается к жизни. Он понемногу избавлялся от ощущения оглушившего его удара; обе половинки его существа быстро сплавлялись в одно целое.
– Мне кажется, что вы имеете преимущество передо мной в этом отношении. Не помню, чтобы хоть раз видел в какой-нибудь публикации вашу фотографию.
Мэдисон с хитрым видом погрозил ему пальцем.
– Я – аноним, – сказал он. – Вы же должны знать, что все критики – люди без лица. Они должны избегать того, чтобы их внешний облик вторгался в сознание публики.
– Это, разумеется, какая-то ошибка, – заявил Харрингтон, – но если вы настаиваете, то я не вижу причины, почему вы не могли бы вести себя подобным образом.
Он чувствовал, что его охватывает паника. Замечание о том, что критики должны быть людьми без лица, было произнесено слишком кстати, чтобы оказаться простой случайностью.
– Я подозреваю, что теперь, когда вы наконец решили повидать меня, вас привела ко мне некоторая определенная причина. И это скорее всего связано со статьей, появившейся сегодня в газетах.
– Честно говоря, – холодно заявил Харрингтон, – я пришел к вам именно по поводу этой статьи.
– Надеюсь, что вы не слишком рассердились на меня?
Харрингтон пожал плечами:
– Нет, конечно. В общем-то я пришел поблагодарить вас за то, что вы помогли мне принять решение. Видите ли, я уже подумывал об этом. Я говорил себе, что должен остановиться, но…
– Но вас беспокоила ответственность, вытекающая из подобного решения. Может быть, прежде всего ответственность перед читателями? Или даже перед самим собой?
– Писатели редко расстаются с пером, если они еще в состоянии держать его. – Харрингтон помолчал. – По крайней мере, они редко делают это добровольно. Мне кажется достаточно лояльным поступком решение прекратить писать.
– Но ваше решение было вполне естественным, – запротестовал Мэдисон. – Мне показалось, что для вас это будет такой нормальный, такой естественный и даже необходимый поступок, что я не смог удержаться. Я признаю, что хотел немного повлиять на вас своей статьей. В вашей последней книге вы так эффектно поставили финальную точку, поставили ее после всего, что решили сказать читающей публике столько лет тому назад… Было бы просто трагедией все испортить, попытавшись добавить еще что-нибудь. Естественно, все было бы совсем по-иному, если бы вам нужно было продолжать писать ради того, чтобы заработать на жизнь, но ваши авторские права…
– Мистер Мэдисон, что бы вы сделали, если бы я выступил с опровержением?
– Что ж, в таком случае, – улыбнулся Мэдисон, – я опубликовал бы наиболее подобострастное из всех когда-либо представлявшихся вниманию читателей извинений. Я обеспечил бы возврат к исходной ситуации наиболее приемлемым для вас образом.
Он встал из-за стола и принялся рыться в лежавшей на стуле стопе книг.
– У меня где-то здесь есть экземпляр вашей последней книги, – невнятно пробормотал он. – В ней имеются некоторые нюансы, о которых мне хотелось бы побеседовать с вами.
Этот человек, подумал Харрингтон, рассеянно следя за раскопками, – всего лишь свидетельство присутствия еще чего-то. Всего лишь косвенный признак, не более того. Несомненно, во всем этом есть еще нечто, гораздо более значительное, чем Седрик Мэдисон.
Он понял, что должен уйти отсюда, уйти как можно быстрее, но так, чтобы не вызвать подозрений. Ожидая подходящего момента, он решил, что сейчас совершенно необходимо продолжать играть роль ушедшего в отставку писателя, последнего джентльмена.
– Ага, вот она! – торжествующе воскликнул Мэдисон.
Он вернулся к столу, держа в руке книгу. Быстро перелистав ее, он заговорил, не оставляя Харрингтону времени на размышления:
– Вот смотрите, здесь, в шестой главе, вы пишете, что…
Луна опускалась к горизонту, когда автомобиль Харрингтона проехал через ворота в массивной металлической ограде парка и по изгибающейся дугой аллее направился к величественному белому зданию, возвышавшемуся на вершине холма.
Харрингтон вышел из машины, поднялся по широким каменным ступеням парадной лестницы на высокое крыльцо. Наверху он остановился, чтобы полюбоваться великолепным видом на зеленую лужайку с разбросанными по ней клумбами тюльпанов, залитыми серебристым лунным светом, на стройные светлые березки и пышные кусты с темной листвой. Он подумал, что человек искусства должен как можно чаще видеть эту красоту, испытывать восхищение ее хрупким очарованием на всем протяжении великого пути от рождения к смерти.
Он стоял неподвижно, гордо выпрямившись, любуясь окрестностями, давая возможность великолепию лунного света, контрастирующего с густыми ночными тенями, запечатлеться, словно старинной гравюре, в своей душе.
Вот, подумал он, один из тех моментов жизни, которые невозможно предугадать, но которые позднее можно будет с таким наслаждением оценить и проанализировать.
За его спиной с легким скрипом открылась дверь, и он медленно обернулся.
На пороге стоял старый Адамс, освещенный сзади горевшей на столе в вестибюле лампой. Его белоснежная всклокоченная шевелюра казалась светящимся ореолом вокруг головы. Тощей костлявой рукой он сжимал на груди края накинутого на плечи старого заплатанного халата.
– Уже очень поздно, сэр, – проскрипел он. – Мы уже начали беспокоиться.
– Сожалею, – ответил Харрингтон. – Я действительно очень сильно задержался.
Он шагнул к дверям, и Адамс отодвинулся в сторону, чтобы пропустить его.
– Вы уверены, сэр, что все в порядке?
– О, все идет отлично! – бросил Харрингтон. – Я задержался у Седрика Мэдисона, в редакции «Ситуации». Это на редкость приятный человек.
– Тогда, сэр, если не возражаете, я пойду спать. Теперь, когда я знаю, что вы дома, мне удастся заснуть.
– Идите, идите, дружище. – Харрингтон тепло потрепал Адамса по плечу. – И спасибо, что подождали меня.
Харрингтон остановился возле дверей своего кабинета, провожая взглядом Адамса, с трудом поднимавшегося по лестнице. Затем вошел в комнату и включил свет.
Изолированный от внешнего мира в своем старом уютном кабинете, пропитанном восхитительным ароматом интимности, он уселся в глубокое удобное кресло и пробежал взглядом по рядам переплетенных в кожу книг, по аккуратно прибранному письменному столу, старым, зовущим к себе креслам, потертому пушистому ковру.
Он снял пальто и небрежно бросил его на стул. При этом он заметил, что из кармана пальто, оттопыривая его, торчит сложенная в несколько раз газета.
Заинтересовавшись, он извлек газету из кармана и развернул ее. В глаза ему тут же бросился набранный крупным шрифтом заголовок.
Комната вокруг него сразу изменилась. Изменилась мгновенно и кардинально. Это уже не было тщательно ухоженное святилище, предназначенное для исполнения торжественного обряда написания книг. Это был обычный рабочий кабинет человека, профессия которого связана с письмом. Исчезли роскошные, переплетенные в кожу тома, выставлявшие напоказ свои элегантные корешки; вместо них на стандартных стеллажах в беспорядке теснились книги в потрепанных обложках, с вываливающимися страницами. И ковер уже не выглядел старым и пушистым – это было обычное дешевое изделие посредственного качества и почти новое.
– Боже мой! – вырвавшаяся у Харрингтона фраза прозвучала почти молитвенно.
Он почувствовал, что его лоб покрылся испариной, руки задрожали и в коленках появилась неприятная слабость.
Потому что он сам изменился, как изменилась комната вокруг него; точнее, комната изменилась потому, что изменения произошли в его сознании.
Он больше не был последним джентльменом. Он был кем-то более реальным, человеком, в которого уже превращался сегодня вечером. Он снова стал самим собой. И он понял, что это шоковое воздействие оказал на него заголовок статьи в газете. Несколько слов, напечатанных крупным шрифтом, заставили его стать самим собой.
Он огляделся вокруг и подумал, что теперь кабинет стал реальным во всей своей обнаженности. И таким он был всегда, даже в то время, когда Харрингтону представлялся в более романтическом виде.
В этот вечер, впервые за тридцать лет, он нашел себя и тут же снова потерял (он опять покрылся холодным потом, едва подумал об этом). Он потерял себя совсем легко, даже не сознавая того, что с ним происходит, без малейшего ощущения странности совершающегося с ним изменения.
Он отправился на встречу с Седриком Мэдисоном, сжимая в руке эту газету; он решил повидаться с ним без какой-либо определенной цели. Все это слишком походило на то, как если бы его заставили поступить именно таким образом.
Теперь он осознал, что давно ощущал это принуждение. Его заставляли видеть комнату не такой, какой она была в действительности. Его заставляли читать вымышленное имя на незнакомом надгробном камне. Его вынудили поверить в то, что он часто ужинал со своей матерью, в действительности умершей много лет назад. Его заставляли видеть роскошный лимузин вместо ржавой развалины… да и многое другое тоже.
Думать обо всем этом было унизительно, но было и нечто совсем иное за пределами простого унижения: существовал метод и имелась цель; теперь очень важно, исключительно важно срочно понять, каковы же этот метод и эта цель.
Харрингтон швырнул газету на пол и подошел к бару. Взяв бутылку и стакан, он плеснул себе приличную порцию спиртного и залпом проглотил его.
Сначала нужно определить отправную точку, подумал он. Седрик Мэдисон был в какой-то степени именно такой точкой; к сожалению, это еще не все. Вероятно, он был всего лишь несущественным признаком наличия чего-то несравненно более важного; но по крайней мере, с него можно начать рассуждение.
Он отправился к Седрику Мэдисону, и они беседовали несколько дольше, чем Харрингтон рассчитывал. Где-то в ходе этой беседы он изменился и снова стал последним джентльменом.
Используя логику и память, он попытался отыскать какую-нибудь брешь, определить тот момент, в который произошло изменение, но ничего не нашел. Путь был ровным и гладким, зацепиться было не за что. И все же в какой-то точке этого пути он изменился или, точнее, его изменили; в результате он вернулся к этому маскараду, что был навязан ему много лет назад.
Каков же смысл всего этого? Зачем менять жизнь человека, даже скорее всего жизни многих людей?
Может быть, это что-то вроде филантропического предприятия? Страстная потребность делать людям добро, горячее стремление вмешиваться в чужую жизнь…
Или за всей этой историей скрывалось сознательное целенаправленное желание нарушить ход мировых событий, изменить судьбу человечества с целью добиться какого-то четко определенного конечного результата?
Это подразумевало, конечно, что тот, кто действовал подобным образом, кем бы он ни был на самом деле, обладал надежным методом предсказания будущего и способностью выбирать в настоящем наиболее существенные моменты, которые следовало изменить так, чтобы получить в дальнейшем нужный вариант будущего.
Телефон на письменном столе яростно затрезвонил. Харрингтон резко обернулся, испуганный неожиданным резким звуком.
Телефон зазвонил снова.
Он подошел к столу и снял трубку. Это был сенатор.