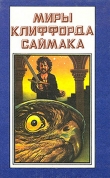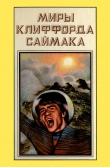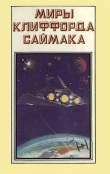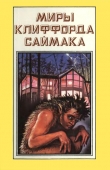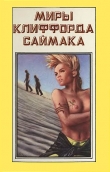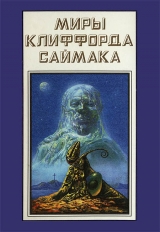
Текст книги "Миры Клиффорда Саймака. Книга 18"
Автор книги: Клиффорд Дональд Саймак
Жанр:
Научная фантастика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 22 (всего у книги 28 страниц)
Кимон

Через тридцать лет, через многие миллионы написанных слов, наконец наступил день, когда он не смог написать больше ни строчки.
Ему больше нечего было сказать. Он все сказал.
Последняя из длинной серии книг, законченная несколько месяцев тому назад, должна была вот-вот выйти из печати, и он ощущал внутри себя такую пустоту, словно из него выпустили всю кровь.
Он сидел у окна в своем кабинете, ожидая визита сотрудника журнала новостей, и его взгляд вяло блуждал по большой лужайке с разбросанными по ней кустами бересклета, березками и жизнерадостными клумбами с тюльпанами. Он спрашивал себя, почему его так беспокоит мысль о неспособности писать дальше – ведь он и так уже сказал гораздо больше, чем основная масса его собратьев по перу. И он говорил обычно без иносказаний, со всей искренностью, пусть и в романизированной форме, и – по крайней мере, он надеялся на это – достаточно убедительно.
Сегодня он занимал в мировой литературе надежное, устойчивое положение. Поэтому он пытался убедить себя, что все идет к лучшему, что он может остановиться теперь, когда достиг вершины в своем искусстве. Это было несравненно правильнее, чем если бы он постепенно подошел к закату жизни, позволив туману старческого слабоумия ослабить блеск своего творчества.
И все же потребность писать дальше продолжала беспокоить его. У него было ощущение, что прекратить писать – это все равно что совершить предательство. Хотя он и не имел ни малейшего представления, кого он предавал таким образом. Среди его переживаний было еще нечто вроде чувства уязвленного самолюбия и, может быть, ощущения легкой паники, подобного тому, что испытывает человек, у которого внезапно резко ухудшилось зрение.
Но все это следовало считать просто глупостями. За тридцать лет, посвященных литературе, он достойно завершил труд целой жизни. И он совсем неплохо прожил эту жизнь. Не то чтобы слишком бурно или в чем-то легкомысленно, но так, что сейчас он с полным основанием мог испытывать чувство удовлетворения.
Он обвел взглядом рабочий кабинет, подумав при этом, насколько комната способна приобрести отпечаток личности живущего в ней: ряды переплетенных в кожу книг, сдержанная элегантность письменного стола из массивного дуба, пушистый ковер на полу, старые уютные кресла – каждый предмет обстановки создавал и укреплял уверенность в том, что он находится именно там, где и должен находиться.
Раздался стук в дверь.
– Войдите, – сказал Харрингтон.
Дверь открылась, и на пороге появился Адамс: согбенная фигура, белые как снег волосы. Идеальный образ старого верного слуги.
– Вас спрашивает господин из «Ситуации», сэр.
– Отлично, – бросил Харрингтон. – Просите его, пожалуйста.
«Отлично» было просто стандартным выражением, приличествующим обстоятельствам, потому что ему вовсе не хотелось видеть этого посланника прессы. Но договоренность о встрече была достигнута несколько недель тому назад, и сейчас ему не оставалось ничего другого, как примириться с визитом.
Вошедший походил скорее на воротилу крупного бизнеса, чем на редактора журнала. Харрингтон неожиданно подумал: трудно представить, что именно этот человек способен писать в том сжатом, резком стиле, создавшем популярность «Ситуации».
– Джон Леонард, – произнес мужчина, пожимая руку Харрингтону.
– Рад видеть вас, – ответил Харрингтон тем любезным дружелюбным тоном, который привык применять при деловых встречах. – Садитесь, прошу вас. Мне представляется, что я хорошо знаю вас, журналистов. Я уже много лет подряд регулярно читаю ваш журнал. Как только он приходит, я сразу же принимаюсь искать статью Харви.
Леонард негромко рассмеялся.
– Похоже, что Харви – наш самый популярный хроникер, наша главная приманка для читателя, – сказал он. – Все, кто приходит к нам в редакцию, обязательно стремятся повидаться с ним. – Он устроился в предложенном ему кресле. – Прежде всего, я должен передать вам привет от мистера Уайта.
– Это очень любезно с его стороны, – ответил Харрингтон. – Поблагодарите его от моего имени. Я не встречался с ним уже столько лет…
Подумав об Уайте, Харрингтон вспомнил, что он и видел-то Престона Уайта всего один раз и что было это лет двадцать тому назад. Насколько ему помнилось, Уайт обладает сильной, энергичной натурой, большим даром убеждения, настойчивостью и упорством; короче говоря, он был точным отражением характера своего журнала.
– В прошлом месяце, – продолжал Леонард, – я встречался с другим вашим знакомым. Я имею в виду сенатора Джонсона Энрайта.
Харрингтон кивнул;
– Конечно, я знаком с сенатором много лет. Этот человек достоин восхищения. Наверное, вы думаете, что мы выглядим довольно необычной дружеской парой. Ведь мы с сенатором совершенно не похожи внешне.
– Сенатор искренне уважает вас и очень привязан к вам.
– Эти чувства взаимны, – сказал Харрингтон. – Что касается истории с Госдепартаментом… Она сильно беспокоит меня.
– Вот как?
– О, это человек на своем месте! – продолжал Харрингтон. – По крайней мере, мне так представляется. Для него характерны исключительная честность, редко встречающаяся в наши дни стойкость духа и крепкое телосложение. Короче говоря, все, что необходимо человеку на таком посту Но есть и некоторые другие соображения…
Леонард несколько удивленно поднял брови.
– Но вы же не хотите…
– Разумеется, нет, мистер Леонард, – сказал Харрингтон, устало махнув рукой. – Я просто пытаюсь поставить себя на место человека, посвятившего большую часть своей жизни служению обществу. Я знаю что Джонсон должен рассматривать эту возможность с чувством, похожим на ужас. Ведь у него в сравнительно недавнем прошлом был момент, когда он готов был уйти в отставку, и только чувство долга заставило его остаться в сенате.
– Политик никогда не откажется от шанса стать руководителем Госдепартамента, – возразил Леонард. – Впрочем, Харви сообщил на прошлой неделе, что сенатор согласится.
– Да, я знаю, – ответил Харрингтон, – я читал об этом в газетах.
– Я не хотел бы, чтобы вы тратили время напрасно, – сказал Леонард, старавшийся не отклоняться от главной темы беседы. – Я, кстати, уже провел солидное расследование вашего прошлого.
– Не стесняйтесь, – доброжелательно ответствовал Харрингтон. – Мы будем беседовать столько, сколько вам потребуется. Мне совершенно нечего делать до вечера, когда я собираюсь поужинать с моей матерью.
– Ваша мать еще жива? – удивился Леонард.
– Да, и выглядит достаточно бодрой, несмотря на свои восемьдесят три года, – ответил Харрингтон. – Моя дорогая старая мамочка с безмятежным выражением на прекрасном лице. Знаете, эти лица на портретах Уистлера…
– Вам повезло. Моя мать умерла, когда я был еще совсем мальчишкой.
– Это очень печально, – согласился Харрингтон. – Моя мать – настоящая светская дама, изысканная до кончиков ногтей. В наши дни такие дамы встречаются не часто. Я уверен, что только благодаря матери я стал тем, кем являюсь сейчас. Знаете, чем я горжусь, пожалуй, больше всего? Это было в статье, которую ваш литературный критик Седрик Мэдисон написал обо мне несколько лет назад. Я тогда еще написал ему краткое письмо с выражением благодарности и искренне намеревался как-нибудь нанести ему визит. Но время прошло, и я так и не собрался. Мне хотелось бы познакомиться с ним.
– И что же он написал про вас?
– Он написал, если я не ошибаюсь, что я – последний оставшийся в живых джентльмен.
– Неплохо сказано, – согласился Леонард. – Надо будет найти эту статью. Мне кажется, что Седрик понравился бы вам. Иногда он выглядит несколько странно, но это настоящий работяга, как и вы. Можно сказать, он просто живет в своем рабочем кабинете, проводя в нем дни и ночи.
Покопавшись в портфеле, Леонард извлек из него пачку бумаг. Быстро перелистав их, он нашел нужную страницу.
– Мы хотим сделать ваш настоящий портрет в натуральную величину, – сообщил он. – Обложка и две полные страницы внутри с многочисленными фото. Я уже говорил, что многое о вас знаю, но у меня остались кое-какие вопросы. Есть и некоторые противоречия.
– Боюсь, что не совсем понимаю, о чем вы говорите.
– Знаете, как мы работаем? – спросил Леонард. – Мы сопоставляем биографические данные, полученные из разных источников, потому что хотим быть уверены в сведениях о прошлом объекта исследования. Только после этого мы переходим к сбору данных о его человеческих качествах. Мы встречаемся с друзьями детства нашего героя, с его преподавателями, короче, со всеми, кто может помочь нам лучше понять его. Мы отправляемся туда, где он жил, мы собираем разные мелочи, касающиеся его жизни, разные любопытные случаи. Эта работа требует больших усилий, но мы гордимся тем, как ее выполняем.
– Ваша гордость вполне оправданна, молодой человек.
– Так вот, я отправился в Вайамушинг, в Висконсине, – продолжал журналист. – В город, где вы родились, судя по вашим словам.
– У меня остались самые приятные воспоминания об этом месте, – задумчиво произнес Харрингтон. – Чудесный городок, уютно расположившийся между холмами и рекой.
– Мистер Харрингтон!
– Да?
– Вы родились не в этом городе.
– Простите, я не понял вас.
– В книге записей о рождениях в административном центре графства нет ничего о вас. И никто в городе вас не помнит.
– Это ошибка, – возмутился Харрингтон. – Если, конечно, вы не шутите.
– Вы учились в Гарварде, мистер Харрингтон. Набор 1927 года.
– Да, это так.
– Вы никогда не были женаты.
– Я долгое время встречался с одной девушкой. Но она умерла.
– Ее звали Корнелия Сторм, – сообщил Леонард.
– Да, именно так. Об этом мало кто осведомлен.
– Мистер Харрингтон, мы проводим наши расследования очень тщательно.
– Ну и что? – бросил Харрингтон. – Это ведь не секрет. Просто не стоит афишировать это, вот и все.
– Мистер Харрингтон!
– Да?
– Дело не только в Вайамушинге. Все остальное тоже не стыкуется. Мы не нашли никаких следов вашего пребывания в Гарварде. И девушка по имени Корнелия Сторм никогда не существовала в действительности.
Харрингтон вскочил с кресла.
– Это просто смешно! – закричал он. – Чего вы хотите добиться?
– Я очень огорчен, что расстроил вас, – сказал Леонард. – Мне надо было более осторожно разговаривать с вами на эту тему. Очевидно, есть нечто…
– Да, есть нечто, что доставит мне удовольствие, – перебил его Харрингтон. – Немедленно распрощаться с вами.
– Может быть, я могу что-нибудь сделать для вас? Хоть что-нибудь…
– Вы и так уже сделали достаточно, – жестко бросил Харрингтон. – Даже более чем достаточно, можете мне поверить.
Он опустился в кресло и, вцепившись в подлокотники, попытался унять дрожь во всем теле, прислушиваясь к затихающим звукам удаляющихся шагов посетителя.
Услышав стук входных дверей, он позвал Адамса.
– Вам что-нибудь нужно, сэр? – почтительно откликнулся Адамс.
– Да. Скажите мне, кого вы видите перед собой? – Но, сэр, – ответил явно озадаченный Адамс, – это же вы – сэр Холлис Харрингтон.
– Спасибо, Адамс. Я так и думал.
Уже стемнело, когда он уселся за руль своей машины, не торопясь проехал хорошо знакомой улицей и остановился перед старинным домом с белыми колоннами, едва видневшимися сквозь густую темную зелень парка.
Выключив зажигание, он вышел из машины и остановился, словно хотел в очередной раз проникнуться атмосферой этой улицы – строгой, корректной улицы аристократического вида – настоящего островка старины в нынешнем материалистическом мире. Даже немногочисленные проезжавшие по улице автомобили, казалось, ощущали царивший здесь дух благородства, подумал он. Они двигались здесь медленнее, их моторы работали тише, чем на остальных улицах, что заставляло невольно задумываться о наличии у этих механических существ весьма неожиданного для них чувства такта.
Повернувшись спиной к улице, Харрингтон направился по аллее к дому. Ароматы пробуждающегося к жизни весеннего сада нахлынули на него в темноте неудержимым потоком. Он невольно пожалел, что не приехал засветло, потому что Генри, садовник его матери, не имел себе равных в искусстве выращивания тюльпанов.
Медленно идя по аллее и наслаждаясь запахами зелени и цветов, он почувствовал, как постепенно избавляется от возникшего после встречи с журналистом ощущения, что он столкнулся с чем-то странным и непонятным. Одно только его присутствие на этой улице, на этой аллее возрождало в нем уверенность, что все в порядке, все идет так, как должно идти.
Он поднялся по аккуратным кирпичным ступенькам на крыльцо и протянул руку к молотку.
Салон был освещен, и он подумал, что мать ожидает его там, но дверь все равно откроет Тильда, прибежавшая из кухни. Возраст не позволял почтенной даме передвигаться со свойственной ей в прошлом живостью.
Он постучал и стал ждать. Ему вспомнились счастливые дни, проведенные в этом доме до поступления в Гарвард. Тогда еще был жив отец. Несколько семей, представителей старых родов, оставшихся с той поры, все еще проживали по соседству, но он уже много лет не встречал никого из них. Приезжая сюда, он буквально не показывал носа наружу, проводя бесконечные часы в долгих беседах с матерью.
Дверь распахнулась. Но на пороге почему-то стояла не Тильда в своей обычной шуршащей юбке и кофте с белым накрахмаленным воротничком, а какая-то совершенно не знакомая ему женщина.
– Добрый вечер, – сказал он. – Вы, по-видимому, соседка?
– Я живу здесь, – сухо ответила женщина.
– Но… Но я же не мог ошибиться! – воскликнул Харрингтон. – Ведь здесь живет миссис Дженнингс Харрингтон.
– Сожалею, но мне неизвестно это имя. Какой номер дома вам нужен?
– 2034 по Саммер Драйв.
– Да, это здесь, – удивилась женщина, – но миссис Харрингтон… Я вообще не знаю никого с такой фамилией. Мы живем здесь вот уже пятнадцать лет, и за все это время поблизости никогда не было никаких Харрингтонов.
– Мадам, – растерянно произнес Харрингтон, – поверьте, это крайне важно для меня…
Женщина резко захлопнула дверь перед его носом.
Он еще долго стоял на крыльце перед закрытой дверью. В какой-то момент он поднял руку, чтобы снова взяться за молоток, но удержался. Постояв еще немного, он вернулся на улицу.
Остановившись возле машины, он пристально всмотрелся в дом, куда на протяжении многих лет приезжал повидаться с матерью, – дом, в котором прошло его детство.
Он открыл машину и сел за руль. Руки дрожали так сильно, что он с трудом достал ключ из кармана и долго возился, пока не вставил его в замок зажигания.
Он повернул ключ, и двигатель заработал. Тем не менее Харрингтон не сразу тронулся с места, а еще несколько минут неподвижно сидел, крепко, до судорог, стискивая руль и не отводя взгляда от дома. В мозгу продолжала крутиться и никак не могла улечься мысль о том, что вот уже пятнадцать лет кто-то чужой жил в этих родных стенах.
Но где в таком случае его мать и ее верная Тильда? Где Генри со своими несравненными тюльпанами? Куда подевались бесчисленные вечера, проведенные в этом самом доме за последние годы? И долгие беседы в элегантно обставленном салоне перед камином, заполненным пылающими березовыми и буковыми поленьями, возле которого на ковре дремал свернувшийся клубком старый кот?
Была какая-то упорядоченность, подумал Харрингтон, какая-то зловещая система в последовательности событий его жизни. В образе жизни, в написанных книгах, в случавшихся в его жизни привязанностях и, пожалуй, еще больше в тех, которые так и не случились. Какая-то непреклонная сила скрывалась в засаде за всеми этими декорациями; она находилась где-то совсем рядом, но все же за границей поля зрения. Она таилась возле него годами, и он не раз ощущал ее присутствие, задумывался о ней, пытался обнаружить ее – и всегда безуспешно. Но никогда он не чувствовал ее близость так отчетливо, как сейчас.
Он не сомневался, что та самая сила, которая влияла на его жизнь, удерживала его сейчас, не позволяя кинуться к дверям дома, стучать, словно безумному, и требовать, чтобы ему ответили, где находится его мать.
Заметив, что дрожь прекратилась, он поднял стекло и включил передачу.
На первом же перекрестке он повернул налево и некоторое время ехал вверх по идущей в гору длинной улице.
Через десять минут он уже был возле кладбища. Поставив машину на стоянку, он взял с заднего сиденья плащ, натянул его на плечи и несколько мгновений постоял возле машины, глядя на раскинувшийся у подножия холма город и извивавшуюся по равнине реку.
Хоть это по крайней мере реально, подумал он, – город и река. Этого уж никто у него не отнимет – так же, впрочем, как книги и карты в его библиотеке.
На кладбище он вошел через небольшую боковую калитку и уверенно зашагал между темными надгробиями, слабо освещенными неверным голубым светом луны.
Вот и знакомый надгробный памятник. Он был таким же, каким давно запечатлелся в памяти Харрингтона, в его сердце. Он опустился на колени перед памятником и прикоснулся к нему обеими руками, ощущая ладонями мох и лишайники, давно покрывшие поверхность камня от основания до вершины. Они казались ему такими же знакомыми и близкими, как и сам памятник.
– Корнелия, – прошептал он, – ты всегда здесь, Корнелия.
Он порылся в карманах, достал коробок спичек. Несколько спичек отказались загораться, и только четвертая или пятая вспыхнула слабым колеблющимся светом. Он бережно прикрыл язычок огня ладонями и поднес его к камню. На нем было выбито имя. Но это не было имя Корнелии Сторм.
Сенатор Джонсон Энрайт приподнял графинчик с водкой.
– Нет, спасибо, – поблагодарил Харрингтон. – Мне достаточно одной рюмки. Я заглянул к вам совсем ненадолго и сейчас уже ухожу.
Он окинул взглядом комнату. Теперь у него появилась уверенность в одном – именно в том, за подтверждением чему он и пришел сюда. Рабочий кабинет сенатора выглядел не так, как обычно. Значительная доля его блеска исчезла, тонкий налет роскоши рассеялся. Он казался каким-то поблекшим, и очертания предметов вокруг Харрингтона слегка расплывались. Голова оленя над камином выглядела сильно потрепанной, утратившей свой обычный гордый и благородный облик.
– Вы так редко заглядываете ко мне, – сказал сенатор, – но вы же знаете, что вам всегда здесь рады. Особенно этим вечером. Все мои домашние разъехались, а у меня сегодня как раз весьма серьезные проблемы.
– Эта история с Госдепартаментом?
– Да, именно она. Я сказал президенту, что соглашусь, если ему не удастся найти никого другого. Я почти умолял его постараться найти другую кандидатуру.
– Вы не могли просто сказать ему «нет»?
– Я пытался, – печально ответил сенатор. – Я очень старался сказать ему именно это. И хотя мне никогда в жизни не приходилось искать аргументы во время дискуссии, на сей раз у меня ничего не получилось. Наверное, потому, что я стал слишком большим гордецом. За многие годы у меня появилась гордость за мою работу, и я уже не могу от нее избавиться.
Сенатор откинулся на спинку кресла, в котором утопал почти целиком, и Харрингтон отметил про себя, что он сам, в противоположность кабинету, совсем не изменился. Он остался прежним: лицо, словно вырубленное грубыми ударами резца, густая серебряная грива, острые зубы старого хищника, тяжело закругляющиеся массивные плечи гризли.
– Вы, конечно, знаете, что я отношусь к числу наиболее верных ваших читателей, – сказал сенатор.
– Да, знаю, – ответил Харрингтон. – И горжусь этим.
– Вы обладаете дьявольским умением выстраивать слова в строчки, между которыми прячете свои крючки, – продолжал сенатор. – И, зацепившись хотя бы за один из них, читатель уже не может сорваться. И он мечется взад и вперед, целыми днями вспоминая то, что было написано вами.
Он поднял бокал и отхлебнул из него.
– Я никогда не говорил вам этого, – продолжал он. – И не знаю, стоит ли это делать, хотя мне кажется, что все-таки стоит. В одной из книг вы как-то сказали, что печать судьбы может лежать на одном-единственном человеке. И если этот человек потерпит поражение, добавили вы, мир может погибнуть.
– Пожалуй, я действительно когда-то написал не что в этом роде. У меня впечатление, что…
– Вы на самом деле не хотите выпить хотя бы еще немного? – спросил сенатор, протягивая руку к бутылке.
– Нет спасибо, – ответил Харрингтон.
Внезапно у него в мозгу словно щелкнул какой-то переключатель, и перед его внутренним взором возникла картина совсем другого времени и совсем другого места. Там он тоже собирался выпить. И тень, таившаяся в углу комнаты, говорила с ним. Такое с ним случилось впервые. В первый раз воспоминание об этой встрече возникло в его сознании. И ему показалось, что ничего подобного просто не могло произойти с ним, Холлисом Харрингтоном. Это была правда, которую он не хотел, не мог принять, но которая все же находилась здесь, в его голове, холодная и обнаженная.
– Я хотел поговорить с вами о месте, где вы рассуждаете о судьбе, – сказал сенатор. – Речь там идет об очень странных обстоятельствах; я полагаю, что вы согласитесь со мной. Вы, конечно, знаете, что я как-то подумывал уйти в отставку.
– Я помню об этом, – ответил Харрингтон. – И помню также, что согласился тогда с вашими доводами.
– Именно в это время, – торжественно произнес сенатор, – я и прочел это ваше рассуждение. Я уже составил заявление, в котором сообщал, что уйду, как только истечет срок действия моего мандата, и собирался передать его прессе на следующее утро. Но тут я прочитал написанное вами и задался вопросом: а что, если я именно тот человек, о котором вы говорили? Разумеется, я не верил всерьез, что это так.
Харрингтон почувствовал себя неловко и заерзал в кресле.
– Не знаю, что и сказать вам. Вы возлагаете на меня слишком большую ответственность.
– В результате я не стал подавать в отставку, – сказал сенатор. – И порвал свое заявление.
Некоторое время они молчали, следя за метавшимися в камине языками пламени.
– Ну а теперь, – снова заговорил Энрайт, – возникла новая сложная ситуация.
– Я был бы рад помочь вам, – сказал Харрингтон почти трагическим тоном. – И хотел бы найти подходящие к случаю слова. Но не могу, потому что сам дошел до точки. Я полностью исписался. Мне больше нечего сказать моим читателям.
Говоря эти слова, он знал, что хотел сказать нечто совсем другое. А именно: я пришел рассказать вам, что кто-то чужой вот уже пятнадцать лет живет в доме моей матери, что на памятнике над гробом Корнелии выбито совсем не ее имя. Я пришел сюда, чтобы выяснить, не изменилась ли эта комната, и она действительно изменилась. Она потеряла свойственный ей ранее отпечаток величия…
Но он не мог сказать это сенатору. У него не было ни малейшей возможности произнести эти слова. Это нельзя было сказать даже такому близкому другу, каким он считал Энрайта.
– Мне очень жаль, Холлис, – сказал сенатор. Харрингтон подумал, что во всем происходящем нет абсолютно ни грана смысла. Он был Холлисом Харрингтоном. Он родился в штате Висконсин. Он получил диплом в Гарварде, он был – как там сказал про него Седрик Мэдисон? – да, он был последним джентльменом среди всех ныне живущих. Жизнь его была правильной до малейших деталей; его дом выглядел на редкость корректным; его представлявшийся идеально завершенным литературный труд был результатом крайне утонченного образования.
Может быть, эта корректность, эта правильность выглядела иногда даже несколько чрезмерной, несколько утрированной для мира 1962 года, избавившегося от последних реликтов идеализма.
Он был Холлисом Харрингтоном, последним оставшимся в живых джентльменом, известным писателем, романтической фигурой в современном трезвом, сугубо реалистическом мире. И еще, он был человеком, который больше не мог писать. Он больше не знал, что говорить; он высказал все, что было у него на душе, раз и навсегда.
Харрингтон медленно поднялся с кресла.
– Мне пора, Джонсон. Я и так засиделся у вас дольше, чем собирался.
– Есть еще кое-что, – сказал сенатор. – Кое-что, о чем я давно хотел спросить вас. Это не имеет никакого отношения к делу, затрагивающему мое служебное положение. Я столько раз собирался задать вам этот вопрос, но всегда останавливался при мысли о том, что не должен делать этого, что, произнеси я эти слова вслух, это могло бы в некотором смысле…
– Спрашивайте, прошу вас, – сказал Харрингтон. – Я отвечу вам, если смогу, конечно.
– Речь идет об одной из ваших первых книг – Сенатор несколько замялся. – Мне кажется, она называлась «Кость для собаки».
– Действительно, это было так давно, – задумчиво произнес Харрингтон.
– Ваш главный герой… Этот неандерталец, которого вы так здорово показали… Он получился у вас таким человечным.
Харрингтон кивнул.
– Верно. Именно таким он и был. Это было человеческое существо. Но только потому, что он жил сто тысяч лет тому назад…
– Конечно, конечно, – вежливо перебил его сенатор. – Вы совершенно правы. И вы его так замечательно показали. Все другие герои ваших книг – существа софистические, пленники условностей. Мне всегда казалось интересным, как вам удалось создать столь убедительный образ подобного существа, дикаря, едва ли не совершенно лишенного разума.
– Он не был лишен разума, – возразил Харрингтон. – И не был настоящим дикарем. Это продукт общества того времени. Я долго жил в его компании, Джонсон, прежде чем решился написать о нем. Я всегда пытался поместить самого себя в условия, в которых он существовал, старался думать так, как думал он. Короче, я хотел побывать в его шкуре. Таким образом мне удалось узнать его радости и его тревоги. Были моменты, когда мне казалось, что он находится рядом.
Энрайт покивал с серьезным видом:
– Я охотно верю вам. Так, значит, вам действительно надо уходить? И вы не хотите ничего выпить на дорожку?
– Очень жаль, Джонсон, но мне нужно вести машину, а дорога довольно длинная.
Сенатор выкарабкался из кресла и проводил Харрингтона до дверей.
– Мы обязательно еще поболтаем с вами, Холлис, и очень скоро. О вашей писательской деятельности. Я не могу поверить, что вы решили бросить писать.
– Может быть, и не брошу, – ответил Харрингтон. – Все может внезапно вернуться на круги своя.
Но он говорил так только для того, чтобы подыграть сенатору. Он знал, что у него нет никаких шансов снова взяться за перо.
Приятели попрощались. Харрингтон тяжело зашагал по аллее, приволакивая правую ногу. Это было ненормально. Никогда в жизни он не замечал за собой ничего подобного.
Его машина стояла возле решетки, ограждающей участок сада. Подойдя поближе, Харрингтон застыл на месте, вытаращив глаза. Это была не его машина. Он ездил на дорогом автомобиле аристократического вида, настоящем лимузине, а сейчас перед ним стояла не просто модель массового выпуска, но и, вдобавок ко всему, довольно потрепанная.
И все же она показалась ему хорошо знакомой. Даже чем-то близкой, привлекательной.
Феномен повторился, но на сей раз по-другому, потому что теперь Харрингтон был в двух шагах от того, чтобы признать реальность.
Он открыл дверцу и сел за руль. Порывшись в карманах, он извлек ключ и некоторое время на ощупь искал замок зажигания. Наконец ключ с сухим щелчком вошел в отверстие, и, едва он повернулся, мотор сразу заработал.
Что-то боролось в душе, стараясь выбраться из тумана, заволакивавшего рассудок. Харрингтон чувствовал, как это что-то рвется на свободу. Он быстро понял, что это было. Это был Холлис Харрингтон, последний джентльмен.
Он долго сидел, не шевелясь. И все это время он не был ни последним джентльменом, ни просто пожилым человеком, сидящим в старом автомобиле. Он был кем-то гораздо более молодым и одновременно удивительно далеким отсюда существом, подвыпившим и жалким. Он сидел в отдельной кабине какого-то не знакомого ему ресторана, в самом дальнем и самом темном углу большого зала, заполненного звуками и запахами. Напротив сидел мужчина, что-то говоривший ему.
Он пытался разглядеть лицо незнакомца, но тот слишком хорошо прятался в тени – если вообще у него было лицо. И все время незнакомец без лица продолжал говорить.
На столе лежали какие-то бумаги – очевидно, одна из его рукописей, и он хорошо знал, что она никому не нужна. Он пытался объяснить чужаку, что не имеет смысла говорить ему об этом, что он сам все знает, но очень хочет, чтобы из этого получилось что-нибудь стоящее. Но язык словно распух во рту, мешая говорить, а в горле стоял колючий ком.
Он не мог выговорить ни единого слова, но ощущал в себе жгучую, непреодолимую потребность изложить свои мысли на бумаге, перенести на нее свои убежденность и веру, страстно рвавшиеся на свободу, стремившиеся к самовыражению.
Из всего, что говорил чужак, Харрингтон отчетливо расслышал только одну фразу:
– Я хочу заключить с вами определенное соглашение.
Это было все; больше ему ничего не удавалось вспомнить.
И она была там, эта древняя, жуткая вещь, обрывочная память о какой-то предыдущей жизни, случайность без прошлого и будущего, без какой-либо связи с ним. Внезапно он ощутил холод и сырость окружавшей его ночи, и все тело отозвалось крупной дрожью. Он включил сцепление, взял влево от тротуара и медленно поехал домой.
Так он ехал полчаса или несколько больше, по-прежнему дрожа от ночного холода. Он подумал, что его согрела бы чашка горячего кофе, и затормозил перед небольшим баром-рестораном, работающим всю ночь. И только теперь с изумлением понял, где находится – до дома оставалось не более трех-четырех километров.
В ресторане было пусто, если не считать несколько небрежно одетой женщины за стойкой. Облокотившись на стойку, почти лежа на ней, она самозабвенно слушала радио.
Харрингтон взобрался на высокий табурет.
– Кофе, пожалуйста, – попросил он.
Ожидая, когда хозяйка приготовит кофе, Харрингтон огляделся. Зал был чистым и уютным, с несколькими автоматами для продажи сигарет и небольшой витриной, заполненной иллюстрированными журналами.
Неряшливо одетая блондинка поставила перед ним на стойку чашку с кофе.
– Это все? – спросила она.
Харрингтон не ответил, потому что в этот момент его внимание привлекла строчка текста на обложке одного из журналов, редактор которого был известен приверженностью к сенсационным новостям.
– Так вам больше ничего не нужно? – переспросила блондинка.
– Нет, этого достаточно, – ответил Харрингтон. Он не смотрел на женщину; он не мог оторвать взгляда от обложки журнала.
На всю обложку яркими большими буквами было вынесено название статьи: «Зачарованный мир Холлиса Харрингтона».
Он осторожно слез с табурета и подошел к витрине. Потом быстро протянул руку и схватил журнал, словно опасаясь, что тот может неожиданно исчезнуть. Пока он не почувствовал, что крепко сжимает его в руке, он все время подозревал, что журнал окажется таким же обманчивым и ирреальным, как и многое из окружавшего его мира.