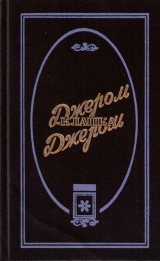
Текст книги "Пол Келвер"
Автор книги: Клапка Джером Джером
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 27 страниц)
Но я все еще надеялся, что мне удастся поменять тирсы на лавры. Я стал вставать на час раньше и, расставив на заднем дворе швабры, сбивал их шарами, отрабатывая удар. Одно время в моде были ходули. Часами я изматывал душу и терзал тело, осваивая это высокое искусство. И что же? Даже толстяк Том мог пройти больше, чем я, и этот факт в течение многих месяцев отравлял мне жизнь.
В шестом классе учился у нас один парень, некий Уэйкэм, если я ничего не путаю; он очень нравился девчонкам, и я ему завидовал. Он уже вошел в тот возраст, когда особы противоположного пола тебе не безразличны, и ему пришло в голову, что лучший способ покорить сердца девиц, населявших окрестности Госпел-оука, – блеснуть остроумием и таким образом прослыть в определенных кругах королем шутки. Надо ли добавлять, что от природы он был туп как пробка?
Как-то мы тесной компанией собрались на площадке. Я молол какую-то чушь, и все смеялись. Не берусь судить, насколько действительно смешно было то, что я им тогда рассказывал. Значения это не имело – все начинали хохотать, стоило мне только раскрыть рот. Как-то для пробы я поведал им весьма печальную историю – эффект был тот же: все весело смеялись. Среди прочих был и Уэйкэм; он смотрел на меня, не отрывая глаз, – так смотрят на фокусника мальчишки, пытаясь понять «как это у него получается». Когда все разошлись, он взял меня за руку и поволок в какой-то темный угол.
– Слушай, Келвер, – сказал он мне. – Ну и потешный же ты!
Комплимент радости мне не доставил. Вот если бы он сказал, что я замечательно играю в кегли… Я бы ему, конечно, не поверил, но полюбил бы нежной любовью.
– От дурака и слышу, – буркнул я. – На тебя самого невозможно смотреть без смеха.
– Если бы так, – печально вздохнул он. – Слушай, Келвер, – он опасливо оглянулся и, убедившись, что нас никто не подслушивает, зашептал: – Слушай, Келвер, научил бы ты меня смешить людей. Как ты думаешь, у меня получится?
Я уже было собрался честно сказать ему, что ничего из этой затеи не выйдет, как вдруг мне в голову пришла одна мысль. Уэйкэм обладал одним даром: он умел свистеть в два пальца, да так, что все собаки в радиусе четверти мили пускались наутек, а люди, застигнутые врасплох молодецким посвистом, от неожиданности подпрыгивали – кто на шесть дюймов, а кто и на все восемнадцать.
Я ему страшно завидовал, а он завидовал мне. Впрочем, я понимал, что искусству Уэйкэма завидовать особенно нечего: проку в нем никакого. Уэйкэм вызывал не столько восхищение, сколько злобу. Как-то он свистнул прямо в ухо какому-то почтенному джентльмену, и тот поймал его и на радость всем прохожим отодрал за уши. Извозчики норовили вытянуть его кнутом, что им иногда и удавалось. И даже уличные мальчишки, которые, казалось бы, должны оценить талант по достоинству, – даже они начинали метаться и бросать в него чем попало, В наших кругах свистеть в два пальца считалось вульгарным, и Уэйкэм никогда не рисковал демонстрировать свое искусство одноклассникам. И все же я неделями, покраснев от натуги и брызжа слюной, дул сквозь сложенные колечком пальцы, пытаясь научиться издавать разбойничий посвист. Почему? Анализ особенностей душевного склада описываемого здесь отрока позволяет нам выделить три причины. Первая: умение свистеть привлекло бы к нему внимание окружающих. Вторая: кто-то умеет свистеть, а он – нет. Третья: природных способностей к свисту он не имел, а посему ничего другого его душа не жаждала так сильно, как овладеть этим искусством. Попадись ему на жизненном пути мальчик, искусный в хождений на руках, юный Пол Келвер сломал бы себе шею, пытаясь превзойти такого ловкача. Я отнюдь не пытаюсь оправдать нашего отрока; я привожу его здесь в качестве достойного изумления примера, коему разумным мальчикам (да и взрослым мужчинам) следовать не должно.
Я предложил Уэйкэму сделку: я берусь обучить его потешать честной народ, а он взамен обучит меня свистеть.
Мы добросовестно делились друг с другом своими знаниями; как учителя мы были превосходны, как ученики – никуда не годились Уэйкэм изо всех сил пытался быть потешным; я, в свою очередь, во всю мочь дул в два пальца. Он делал все, что я ему велел; я безукоризненно выполнял все его указания. В результате он выдавал тупую остроту, а я издавал слабое сипение.
– Ты думаешь, это смешно? – робко интересовался Уэйкэм, вытирал пот со лба. И мне ничего не оставалось делать, как честно признаться: нет, не смешно.
– Ты думаешь, меня кто-нибудь услышит? – с тревогой в голосе спрашивал я, когда мне удавалось восстановить дыхание.
– Видишь ли, – тактично отвечал Уэйкэм, не желая меня разочаровывать. – Если знать, что ты свистишь, то конечно услышат.
Недели через две мы по взаимной договоренности разорвали наш контракт.
– Если в тебе нет чувства юмора, то, наверное, ничего не получится, – утешал я Уэйкэма.
– Знаешь, у тебя, должно быть, нёбо не на месте, – пришел к выводу Уэйкэм.
Как рассказчик, комментатор, критик и шут я преуспел, и во мне вновь проснулось честолюбивое желание стать писателем, о чем я мечтал еще в детстве Когда оно впервые посетило меня – сказать не берусь, однако помню, что мне приходило на ум, когда я еще совсем маленьким угодил в мусорную яму, а правильнее сказать, в глубокую нору, куда садовник сгребал палые листья и всякую дрянь. При падении я вывихнул ногу и двигаться не мог. Темнело, Западня моя находилась далеко от дома, и я постепенно начал осознавать масштабы постигшего меня несчастья. И все же, как ни странно, я был доволен: подобное встречается нечасто, и этот эпизод войдет яркой страницей в мою автобиографию, составлением: которой я тогда занимался. Я очень хорошо помню, как, лежа на труде прелых листьев и битого стекла, я облекал в изящную форму свои печальные мысли: «В тот день со мной приключилась пренеприятнейшая история. Гуляя по саду, я зазевался и свалился в мусорную яму; мое узилище имело форму квадрата шесть на шесть футов. Место было безлюдным, и лишь луна оказалась немой свидетельницей моего конфуза». Но писать правду было стыдно, и я стал думать, что бы такое сочинить, как бы выставить себя в более выгодном свете. Мусорную яму я решил заменить пещерой, вход в которую был искусно замаскирован; пролетел я футов шесть, но по описанию выходило, что я сверзился в бездонную пропасть и очутился в мрачном склепе, ужасающем своими размерами. Меня раздирали противоречивые чувства: с одной стороны, мне хотелось, чтобы меня нашли, принесли домой, пожалели, накормили ужином; с другой стороны, я страстно желал переночевать в яме и испытать ужасы, которые меня ждут. Низменные желания победили высокие порывы: я заорал; романтический эпизод закончился весьма прозаически – меня вымыли в теплой ванне и заставили выпить лекарства. Из сего я заключаю, что желание испытать все муки творчества родилось у меня еще в раннем детстве…
Со временем я стал охотно делиться своими мечтами – если слушатель внушал мне доверие; но о моем сокровенном желании мало кто догадывался. Лишь матушка и некий седобородый джентльмен были посвящены в мою тайну. Даже от отца я скрывал ее – ведь мы с отцом были друзьями. Мысль, что он сможем проговориться, и все узнают мой секрет, приводила меня в трепет.
С седобородым джентльменом мы разговорились при следующих обстоятельствах. Как-то я гулял в парке Виктории – летом я оттуда буквально не вылезал. Был ясный, тихий вечер; забыв все на свете, я бродил по дорожкам, и лишь сгущавшиеся сумерки вернули меня на грешную землю; я стал размышлять, не пора ли ужинать, и решил узнать точное время. Я огляделся. Народу в парке уже не было, и лишь на дальней скамейке сидел какой-то человек, задумчиво смотревший на пруд, на гладкой поверхности которого играли блики заката. Я подошел поближе. Он не заметил меня. Что-то в нем меня заинтересовало, хотя непонятно, что именно; я подсел к нему. Это был красивый и крепкий мужчина; его серые глаза светились волшебным светом, волосы были черные с проседью, а борода совсем седая. Он мог бы сойти за капитана дальнего плавания – их много жило по соседству с парком – если бы не руки, белые, нежные, почти женские. Он сидел, задумчиво оперевшись на трость, и вдруг повернулся ко мне. В седых усах мелькнула улыбка, и я пододвинулся поближе.
– Простите, сэр, – сказал я немного погодя. – Вы не скажете, который час?
– Без двадцати восемь, – ответил он, взглянув на часы. Голос его располагал к себе еще больше, чем красивое лицо. Я поблагодарил, и мы погрузились в молчание.
– Тебе не пора домой? – вдруг спросил он. |
– Что вы, сэр! Мне до дому десять минут ходьбы, я живу вот там, – и я махнул рукой в сторону задымленного горизонта. – Ужин у нас в половине девятого, так что время еще есть, Мне этот парк нравится, – добавил я. – Я часто гуляю здесь вечерами. Даже не гуляю, а просто сижу.
– А почему тебе нравится просто так сидеть? – спросил он. – Скажи, если не секрет?
– Не знаю, – ответил я. – Здесь хорошо думается.
Что со мной творится? Обычно я стесняюсь незнакомцев, в их присутствии двух слов связать не могу; но, похоже, волшебное сияние его глаз развязало мне язык.
И я поведал ему, как меня зовут, и где я живу, и какая это шумная улица, и что даже вечером, когда тебя посещают умные мысли, нельзя сосредоточиться – так там все орут.
– А вот матушка сумерек не любит, – признался я. – Как вечер – она сразу же плакать. Но матушка – женщина, к тому же не очень молодая, и у нее столько забот. Я думаю, тут дело в другом.
Он положил ладонь на мою руку. Мы сидели совсем рядом.
– Господь создал женщину слабой, чтобы мы, мужчины, учились быть нежными, – сказал он. – Но ты-то, Пол, ведь любишь сумерки?
– Конечно, – ответил я. – Даже очень. А вы?
– А почему ты их любишь? – поинтересовался он.
– Как бы это объяснить? – сказал я. – Тебя посещает Муза.
– Какая такая Муза?
– Ну, разные фантазии, – объяснил я. – Видите ли, когда я вырасту большим, то стану писателем и напишу книгу.
Он крепко пожал мне руку и сказал;
– А знаешь, ведь я тоже писатель.
И тут-то я понял, что влекло меня к нему.
Впервые я вкусил радость общения с коллегой, который не хуже тебя разбирается в тонкостях ремесла. Я назвал ему своих любимых писателей – Вальтера Скотта, Дюма, Гюго; оказалось, что и он их любил, – это привело меня в восторг; мы сошлись на том, что жизнь надо изображать без прикрас, а лучшие романы – это не те, где герои произносят длинные нудные речи, а те, где описываются события.
– Мне попадались книги, где все – сплошное вранье, – признался я. – Например, индийские сказки. Уж больно там все красиво. Матушка говорит, что если будешь читать всякую чепуху, то писателя из тебя не получится.
– Что ж, Пол, так уж мы устроены, – ответил он. – Никому не нравится, когда все чересчур красиво. А сейчас ты что читаешь?
– Прочел пьесы Марло, а теперь читаю «Исповедь» Де Куинси.
– И ты их понимаешь?
– Конечно, – ответил я. – Мама говорит, что чем больше такие книги читаешь, тем больше они нравятся! Вот научусь писать – хорошо-хорошо, – признался я – и буду зарабатывать кучу денег.
Он улыбнулся.
– А как же «искусство для искусства»?
О таковом мне слышать не приходилось.
– А что это такое? – недоуменно спросил я.
– В нашем с тобой деле, Пол, это значит, – ответил он, – что книгу надо писать исключительно для собственного удовольствия, не думая о деньгах, о славе и прочей мишуре.
Эта мысль меня несколько озадачила.
– А что, много на свете таких писателей? – поинтересовался я.
Он расхохотался. Смеялся он от всей души. Его смех звенел в парке, и эхо повторяло его на все голоса; хохотал он так заразительно, что я не выдержал и стал смеяться вместе с ним.
– Тсс! – он сделал испуганное лицо и опасливо огляделся – не подслушивает ли нас кто. – Между нами, Пол, – зашептал он, придвинувшись ко мне поближе, – таких писателей вообще нет, все это одни разговоры. Но вот что я тебе скажу, Пол, это тайна ремесла, и запомни ее на всю жизнь; писать надо так, как, кроме тебя, никто не пишет, иначе не видать тебе ни денег, ни славы. Ты должен быть хорош по-своему, а не как другие. Запомни это, Пол.
Я пообещал.
– И нельзя думать только о славе и деньгах, Пол, – вдруг став серьезным, добавил он. – Деньги и слава – это, что ни говори, вещи приятные, и не верь тем лицемерам, которые говорят, что презирают их. Но если ты будешь писать только ради денег, – я тебе не завидую. Есть множество других, более легких способов зарабатывать деньги. Но, надеюсь, не только деньги влекут тебя?
Я задумался.
– Матушка говорила, – вспомнил я, – что это очень благородное призвание. И писатель должен гордиться тем, что умеет писать книги, – ведь они доставляют людям радость, помогают им забыть свои горести, и что писателем может быть только хороший человек – ведь плохой человек не может учить других.
– А у тебя получается быть хорошим, Пол?
– Я стараюсь, – ответил я, – да не всегда у меня выходит. Детям трудно быть хорошими. Вот когда мы вырастем, – дело другое.
Он улыбнулся, но на этот раз не мне, а своим мыслям.
– Да, трудно быть хорошим, пока не вырастешь. Вот когда мы все вырастем, дело другое. – Подобное замечание в устах седобородого господина звучало несколько странно.
– А что еще твоя матушка говорила о писателях, ты не помнишь? – сказал он.
Я стал вспоминать.
– Она сказала, что тот, кто написал великую книгу, величием своим затмит любого короля; что этот дар дается не кому попало, а лишь тем, кого отметил Господь, и что писатель не должен забывать, что он слуга Божий.
Некоторое время он сидел, задумчиво опершись подбородком о кисти рук, покоящихся на золотом набалдашнике трости. Затем он повернулся, положил мне руку на плечо и, глядя мне в глаза, сказал:
– Твоя матушка, Пол, очень умная женщина. Постарайся запомнить ее слова. Когда станешь взрослым, они выведут тебя на верный путь; и не слушай, что там болтают о литературе в гостиных.
Он помолчал, а затем спросил меня:
– А кого из современных авторов ты читаешь? Теккерей, Булвер-Литтон, Диккенс – знаешь таких?
– Я читал «Последнего барона», – похвастался я. – Я даже ходил в Барнет и видел ту самую церковь. А еще я читал мистера Диккенса.
– Ну и как тебе мистер Диккенс? – спросил он, хотя и было видно, что до мистера Диккенса ему и дела нет; он набрал камушков и, тщательно целясь, бросал их в воду.
– Мне он очень нравится, – сказал я; – Он так смешно пишет!
– Смешно? – переспросил незнакомец; от удивления он даже перестал швырять камушки.
– Ну, не всегда смешно, – объяснил я. – Но смешные места мне нравятся больше. Знаете, однажды мистер Пиквик…
– И дался вам этот мистер Пиквик, – пробормотал он.
– А вам он разве не нравится? – изумился я.
– Да не то что не нравится, а как-то надоел, – ответил он, – А матушке твоей мистер Диккенс нравится?
– Не всё. Когда он пишет смешно, то нет, – объяснил я. – Ей кажется, что местами он…
– … вульгарен, – перебил он, и в голосе его звучала досада. Именно это матушка и сказала. Но откуда он: мог это знать?
– Видите ли, – пояснил я. – Матушка у меня не из смешливых. Она даже отцовских шуток не понимает.
Он опять рассмеялся.
– А там где Диккенс не вульгарен, он ей нравится??
– Еще как! – ответил я. – Она говорит, что он может писать красиво, когда захочет.
Сумерки сгущались, Я опять спросил его, который час.
– Шестнадцать минут девятого, – ответил он, взглянув на часы.
– Жаль, – ответил я, – но мне пора.
– И мне жаль, Пол, ответил он, – Кто знает, может, еще и встретимся. До свидания. – И протянул мне руку. – А ведь ты так и не спросил, как меня зовут.
– Неужели? – удивился я.
– В том-то все и дело, – ответил он. – И это позволяет мне надеяться, что из тебя выйдет толк. Ты весь в себе, Пол, а это начало любого искусства.
Но имени своего он так и не назвал.
– Представлюсь в следующий раз, – сказал он. – До свидания, Пол! Удачи тебе!
И я пошел домой, У поворота я остановился. Он в еще сидел на скамейке и смотрел мне вслед. Увидев, что я обернулся, он помахал мне рукой, и я помахал ему ответ, а затем зашагал по дорожке, и вскоре кусты и ветки деревьев скрыли его из виду. На землю опускай туман, слышался хриплый голос служитёля «Парк закрывается! Парк закрывается!»
Глава X
В которой Пол терпит кораблекрушение и гибнет в пучине морской.
По иронии судьбы отец умер в день своего рождения. Мы не хотели верить, что рано или поздно наступит конец, и не сразу поняли, что конец все-таки наступил.
– Он спит, – сказала матушка, тихонько выходя из спальной. – Вчера Уошберн дал ему снотворноё. Не будем его беспокоить.
За завтраком мы разговаривали почти шепотом – дом был маленьким, стены тонкими, и любой громкий звук легко проникал сквозь эти дощатые перегородки. После завтрака мы, ступая на цыпочках, опять пошли в отцовскую спальню. Матушка, стараясь не скрипеть, приоткрыла дверь.
Шторы были опущены, и в комнате было темна Матушка, стоя на пороге, напряженно вслушивалась в зловещую тишину. За окном раздался визгливый голос торговки: «Салат! А вот кому салат! Пенни за пучок! Салат!», а затем завыл сиплым голосом молочник: «Ма-а-локо! Ма-а-локо!».
Матушка не решалась открыть дверь сразу и делала это постепенно, дюйм за дюймом расширяя щель. Наконец мы тихонько вошли в комнату. Он лежал с закрытыми глазами, слегка приоткрыв рот. Раньше я никогда не видел смерть и не понял, что произошла Мне лишь показалось странным, что за ночь он как будто помолодел. Не сразу я понял, что он ушел от нас. Прошло много дней, недель, а я все слышал, как он идет за мной по улице и окликает меня, видел его лицо в толпе и бросался навстречу, но тут же останавливался, недоумевая, куда он вдруг исчез. Но в первый момент я не почувствовал никакой боли.
Матушке моей его смерть казалась лишь недолгой разлукой. В своей непоколебимой верности ему она не шала ни страха, ни сомнения. Он ждет ее. Когда Господу будет угодно, они встретятся вновь. Стоит ли горевать? Без него дни тянулись медленно, но так и должно быть: домочадцы всегда немного скучают, когда глава семьи в отъезде. И больше ничего. Так матушка и будет о нем говорить – о его доброте, отзывчивости, о странностях и чудачествах, о которых мы любили вспоминать не со слезами, а с улыбкой, – не как об ушедшем из жизни, оставшемся в прошлом, а как о временно отсутствующем, встреча с которым еще предстоит.
Мы по-прежнему жили в старом доме, хотя разговоры о переезде велись постоянно: с каждым годом гигантское кирпичное чудовище подползало к нам все ближе и ближе, пожирая на своем пути все прекрасное. В его зловонной пасти исчезали сады и лужайки, деревья и деревенские домики, старинные особняки – живые свидетели истории, живописные изгороди, скрывающие от глаз окружающее уродство; чудовище пожирало все яркое, что еще оставалось в этой обреченной стране, добивая последние воспоминания о свете солнца. На нас наступал Ист-Энд, гетто бедноты, где уже не хватало места всем обездоленным, где жизнь с каждым годом становилась все кошмарней и безнадежней; к нам он тянул свои руки, и уже видны были бесконечные стены, за которыми в тесных каморках ютились отчаявшиеся дюди. Сюда на ночь загонял Лондон стада своих рабов. Часто, когда на город спускался туман и тоска сжимала сердце, мы говорили друг другу, что Лондон-то – город мертвых, а вот в пригородах, залитых светом ласкового солнца, жизнь бьет ключом, и мы отправлялись присматривать себе более подходящее жилье. Те живописные местечки, где мы намеревались поселиться, теперь слились с Лондоном, затерявшись в замысловатом лабиринте его узких улочек; но тогда все выглядело иначе. Хайгейт был крошечным городком, сюда до утопающего в зелени садов Халлоуэя ходил омнибус. Хэмпстед, с его старинными домами красного кирпича, стоял прямо посреди вересковой пустоши, и ветер доносил до домов пряный запах цветущего кустарника; отсюда открывался изумительный вид; сначала шли поля и фермы, затем лес, а еще дальше, за вершинами деревьев высились купола и шпили лондонских соборов. Вокруг Вуд-грина простирались пастбища; в обед батраки собирались под тенистыми вязами, потягивали свой эль и вели разговоры о политике. Хорнси был обыкновенной деревней; по обочинам единственной улицы росла трава; ничего примечательного, кроме увитой плющом церквушки, там не было. И хотя нам частенько попадалось «именно то, что надо», и мы, тщательно взвесив все за и против, приходили к выводу, что лучшего места не сыскать, переезд все откладывался.
– Надо хорошенько подумать, – говорила матушка. – Спешить некуда. Мне что-то не хочется уезжать из Поплара.
– Но почему?
– Да просто так, Пол. Ведь мы столько лет прожили здесь. Мне будет больно расставаться с привычными местами.
Человек – как виноградная лоза. Мы цепляемся усиками за то, что поближе, будь то стена замка или ограда свинарника; и чем больше нас мочит холодный дождь и обжигает нещадное солнце, тем крепче мы прижимается к родным стенам. Смертельно больной сэр Вальтер Скотт – надеюсь, помните такого? – почувствовав, что пробил его час, бросает Италию с ее благодатным климатом и, загоняя лошадей, мчится через всю Европу к себе в Шотландию, и боится лишь одного – не успеет он бросить прощальный взгляд на голые холмы, утопающие в серой дымке, не удастся ему в последний раз подышать сырым туманом. Я знавал одну старушку. Всю жизнь она прожила в трущобном районе, снимая комнату на чердаке. Ее дети, выбившись в люди, задумали переселить ее в более здоровое место и даже подыскали домик в каком-то приморском городке. Так что же? Она наотрез отказалась покинуть свою каморку, которую называла «домом». Жена, мать, вдова – здесь прошла вся ее жизнь: смрад кухонных отбросов казался ей благоуханием, в воплях скандалящих супругов она слышала голоса своих добрых друзей. Кто поймет нас? Один лишь Творец.
Так что старый дом крепко держал нас в своих холодных объятьях. Умерла тетка, затем матушка, и лишь тогда я сумел порвать связывающие нас узы. Дом вдруг стал пустым; я заплакал, распрощался с Эми и покинул его навсегда.
Умерла тетка в своей обычной манере – ворча и отпуская саркастические реплики по поводу окружающих.
– Вот умру, то-то вы порадуетесь! – сказала она, и на глазах у нее появились слезы. В первый и последний раз я видел, как тетка плачет; ничего подобного припомнить я не могу. – Впрочем, я и сама печалиться особо не стану. Разве я жила?
Бедная старушка! Недели через две ее не станет. Не думаю, чтобы она заранее предвидела свой близкий конец, скорее всего она просто расчувствовалась.
– Не валяй дурака, – сказала матушка, – ты не умрешь!
– Так может рассуждать только идиот, – поставила ее на место тетка. – Как это не умру? Рано или поздно – все мы там будем. Так лучше не тянуть, уж больно момент подходящий. Можно подумать, мне сейчас очень сладко.
– Уверяю тебя, мы сделаем все, что в наших силах, – сказала матушка.
– А я и не сомневаюсь, – ответила тетка. – Я вам мешаю. Я всегда была для вас обузой.
– Никакая ты не обуза! – гневно возразила матушка.
– А кем же я являюсь по мнению этой дамы? – огрызнулась тетка. – Светлым лучом в царстве тьмы? Я всегда всем мешала. Такая уж судьба мне выпала.
Матушка обняла несчастную и поцеловала ее.
– Нам без тебя будет скучно, – сказала она.
– Что верно, то верно. Скучать я им не давала, – ответила тетушка. – Потешались надо мной, кто как мог. Что ж, и на том спасибо, раз на большее я не способна.
Матушка рассмеялась.
– Тебе, Мэгги, можно сказать, повезло: у тебя была я, – проворчала тетка. – Если бы на свете не было таких грымз, вроде меня, вы бы, люди мягкие и покладистые, просто бы пропали – мы вас учим уму-разуму. Скорее всего, меня послал тебе твой ангел-хранитель.
Положа руку на сердце, не стану говорить, чтобы мы страстно желали ее возвращения на грешную землю, хотя нам и в самом деле ее не хватало, – ушла та, над чьими странностями мы подшучивали, над чьими неожиданными выходками мы потешались. Как говорится, самые разные люди интересны. Каким унылым и однообразным стал бы мир, если бы в нем остались лишь те, кто лишен каких бы то ни было недостатков, – вроде нас с вами.
А вот Эми действительно тяжело переживала утрату.
– Пока человек не помрет, – вздыхала Эми, – ни в жизнь не поймешь, что он для тебя значил.
– Мне было очень приятно узнать, что ты ее любила, – сказала матушка.
– Видите ли, мэм, – пояснила Эми, – мы с вами прожили так долго, что, можно сказать, породнились. Бывало, конечно, мы с покойницей ругались, так ведь это по-родственному! А теперь мне что делать? Не с кем и словом перемолвиться.
– Но, Эми, ты ведь выходишь замуж? – напомнила ей матушка. – Когда там у вас свадьба?
Однако вывести Эми из состояния вселенской скорби не удалось.
– С этими мужиками лучше не связываться, – ответила она. – Подонки, одно слово. С виду вроде и приличный, а стоит лишь отвернуться – надел шляпу и был таков.
После смерти тетки мы с матушкой остались одни. Барбару отправили во Францию – на воспитание, чтобы она обучилась там веем этим штучкам-дрючкам, как выразился старый Хэзлак. Я закончил школу и поступил в контору к мистеру Стиллвуду; жалованья мне не платили, предполагалось, что я буду учиться у него премудростям юриспруденции.
– Тебе страшно повезло, мой мальчик, страшно повезло, – убеждал меня старый мистер Гадли. – Начать карьеру в фирме «Стиллвуд, Уотерхэд и Ройал»!
Вот уж повезло! Теперь перед тобой все дороги открыты. Это как пропуск в большую жизнь.
Сам мистер Стиллвуд оказался ветхим старичком – таким старым и настолько дряхлым, что было непонятно, почему он, с его состоянием, не удалился на покой.
– Я давно собираюсь все бросить, – объяснил он мне как-то. – Когда твой несчастный отец явился ко мне и сообщил прискорбный факт, что жить ему осталось всего лишь несколько лет, я ответил ему: «Мистер Келвер, пусть вас это не беспокоит. Послушайте меня, уж я-то в этом кое-что понимаю. У меня есть два-три интересных дела, и хотелось бы с ними разобраться. Я рассчитываю на вашу помощь. Посмотрите, как тут можно вывернуться. Вот закончим эти дела, тогда можно и на покой». Но, как видите, никуда я не ушел. Я как та ломовая лошадь, о которой поведал нам мистер Уэллер, – или мистер Джингл? – убери оглобли, и она тут же грохнется на землю. Вот и я тащусь полегонечку, все тащусь, тащусь…
Женился он поздно; в жены ему досталась дурно воспитанная, необразованная особа много младше его; она притащила за собой целую ораву прожорливых и настырных родственников; он старался улизнуть из дома при малейшей возможности; конечно же, спокойная деловая атмосфера Ломбард-стрит привлекала его куда больше, чем шум и ор семейного очага. Мы видели эту даму несколько раз. Она была из тех вздорных бабенок, которые во все суют свой нос; им кажется, что без скандала ничего не добьешься, и если они перестанут ругаться, мир пойдет прахом. Она стыдилась своего происхождения и, пытаясь скрыть его, выставляла себя на всеобщее посмешище: она строила из себя аристократку – как должна держаться знатная дама, ей объяснили ее добрые друзья. Но ее герцогиня своими манерами более походила на буфетчицу, возвращавшуюся с воскресной проповеди. Не боялся ее один лишь мистер Гадли; напротив, она боялась его как огня – старик частенько говорил ей в глаза все, что о ней думает. Он знал ее давно, и никакие шикарные туалеты не могли его обмануть. Появление этой плебейки в стенах старинной фирмы «Стиллвуд и K°», среди клиентов которой были сплошь аристократы, он рассматривал как личное оскорбление.
Ее история весьма примечательна. Мистер Стиллвуд познакомился с ней, когда ему было уже под сорок, и в городе за ним укрепилась прочная слава чудаковатого старого холостяка. Она же в ту пору была ребенком – с белокурыми волосами, ангелоподобным, хотя и чумазым личиком. Она играла в сточной канаве. Возможно, мистер Стиллвуд и не обратил бы на нее внимания, если бы не молодой Гадли (за что он себя и клянет), решивший проводить хозяина до дому. Маленькая чертовка запустила в него тухлой селедкой и угодила прямо в лицо. Гадли изловил негодяйку и выдрал за уши. На этом бы делу и кончиться, но не тут-то было: мистер Стиллвуд схватил ее за руку, и упирающуюся безобразницу зачем-то поволокли к папаше, который торговал углем где-то на Хорсферри-роуд. Разбирательство закончилось самым неожиданным образом: девчонку, по сути дела, купили. Ее послали учиться во Францию, а папаша ликвидировал торговлю. Она вернулась через десять лет, превратившись из маленькой замарашки в статную, красивую молодую женщину; он женился на ней и вскоре убедился в истинности старой пословицы: «Черного кобеля не отмоешь добела», сколько его там ни скреби, хоть щеткой, хоть мочалкой.
В муже ее больше всего не устраивало его социальное положение – профессию стряпчего она считала плебейской, – и старый Гадли буквально бесился, когда слышал ее рассуждения по этому поводу.
– Хоть бы дочек своих пожалел, если до меня ему нет дела, – как-то посетовала она. Я работал в соседней комнате и все слышал: дверь была приоткрыта, к тому же, в общении с людьми она привыкла не говорить, а кричать. – Ну какой, скажите на милость, джентльмен – настоящий джентльмен – возьмет за себя дочь какого-то стряпчего из Сити? Я давно ему говорю – бросай свое крючкотворство и ступай в Парламент.
– Вот и папенька ваш, покойник, всегда говорил то же самое. Как только дела не заладятся – гнилую картошку там никто не берет или уголек подмок, – он сразу же кричать: «Хватит с меня, бросаю все к черту, выставляю свою кандидатуру на выборах!».
Миссис Стиллвуд весьма светски обругала его «грязной скотиной» и вылетела из комнаты.
Но и сам Стиллвуд юриспруденцию особо не жаловал.
– Не знаю, Келвер, – как-то сказал он мне, уже не помню по какому поводу, – правильно ли вы сделали, что пошли по этой стезе. Ведь в нашем деле нравственность – понятие абстрактное. Юрист как медик – врачи в каждом человеке видят больного, а мы – негодяя. Порядочные люди к нам не обращаются. Ведь мы же имеем дело исключительно с мошенниками, подлецами и лицемерами. А это портит характер, Келвер. Нам постоянно приходится дышать воздухом обмана и надувательства, И мне иногда кажется, что тут легко заразиться.
– Но вас-то, сэр, эта зараза, по-моему, не берет, – ответил я.
Выше я уже упоминал, что фирма «Стиллвуд, Уотерхэд и Ройал» считалась в юридических кругах символом честности, что уже выходило из моды.
– Будем надеяться, Келвер, – ответил старик. – Но нужно признаться, я иногда подозреваю себя – а вдруг я все же негодяй? Как тут проверишь? Ведь подлец, Келвер, всегда сумеет убедить себя в том, что он порядочный человек, – и спит спокойно. Себе подлецом подлец никогда не кажется.








