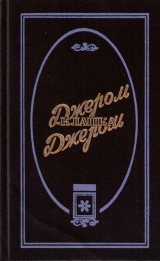
Текст книги "Пол Келвер"
Автор книги: Клапка Джером Джером
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 27 страниц)
По чистой случайности оказалось, что мы угодили на премьеру; все свистели, требовали автора, и он вышел на сцену. Это был полный человек весьма заурядной наружности, но мне он казался гением, а матушка сказала, что у него доброе лицо. Все уже утихли, а матушка все еще махала платочком, а отец кричал: «Браво!» Вокруг то и дело слышалось: «Аншлаг! Аншлаг!» – что это такое, я тогда не понимал, но теперь-то знаю.
По иронии судьбы именно в этом театре давали мою первую пьесу; зрители так же кричали, и я впервые вышел на сцену поклониться уважаемой публике. Зал плыл у меня перед глазами – когда выходишь на вызов, всегда пелена застилает глаза. Но вот из тумана выплыл второй ярус, первый ряд, нежное смеющееся лицо и застывшие в глазах слезы; женщина махала мне платочком. А рядом с ней стоял веселый джентльмен и неистово орал: «Браво!», а по другую руку от нее; сидел мальчик, и взгляд его был полон грез, хотя я сумел прочесть в нем и разочарование, – видно, парнишка ждал от меня чего-то еще. А четвертого лица я не видел – оно отвернулось от меня.
Барбара решила, что уж если гулять так гулять, и потащила нас ужинать. В те годы ужинать в ресторане считалось неприличным, но отступления от правил все же допускались, и мы отправились в трактир рядом с Сент-Клеменс-дейнс – вполне благопристойное заведение, которое с некоторыми натяжками можно было назвать увеселительным. Длинный узкий зал был перегорожен деревянными стенками, разделяющими столики, – как в старых кофейнях; столики находились на некотором возвышении, и к середине зала сбегало несколько ступенек. В наше время этот трактир показался бы мрачной дырой, и вы, не успев осмотреться, тут же устремились бы прочь. Но Ева в воскресном наряде из свежих фиговых листочков казалась Адаму модно одетой дамой, и этот трактир с зеркалами в позолоченных рамах, с газовыми рожками, бросающими тусклый свет, предстал в моих глазах настоящим дворцом.
Барбара заказала устрицы; меня всегда не на шутку занимал вопрос – а куда деваются раковины, скорлупа, остающиеся от этой странной рыбы? Ведь нет на всем земном шаре другого места, столь богатого устрицами, как лондонский Ист-Энд? Иностранец мог бы придти к выводу (ошибочному), что труженики Ист-Энда питаются исключительно устрицами. Как их удастся собрать в одном месте в таких количествах и куда и конце концов девается скорлупа, – загадка, хотя Уошберн, которому я как-то предложил ее, разгадал ее без всякого труда и радостно сообщил мне ответ: «А ее отдают бедным. Богатым – устрицы, бедным – скорлупа. Так уж делятся дары Господни между тварями Его – ничто не должно пропасть». Из напитков всем наказали портер, а мне – имбирное пиво, хотя половой, величавший меня «сэр», намекнул, что устрицы не принято запивать имбирным пивом, но нам на все было наплевать – такой уж философии мы тогда придерживались. После ужина отец велел подать сигару и с важным видом принялся ее раскуривать; матушка с тревогой поглядывала на него, но, к счастью, сигара не тянулась и то и дело гасла, Тут отец и проболтался, что и сам когда-то написал пьесу.
– Что же ты мне никогда не говорил? – обиделась матушка.
– Это было так давно, – ответил отец – Да и ничего из этого не вышло.
– Она бы шла с успехом, – сказала матушка, – у тебя всегда был литературный талант.
– Посмотрю ее еще разок, – решил отец. – Я уж и забыл, в чем там соль. Но, сдается мне, не так уж она и плоха.
– Уверена, что это очень полезная пьеса, – отозвалась матушка, – Из тех, что заставляют думать.
Мы посадили Барбару в кэб, а сами поехали на омнибусе. Матушка утомилась; отец обнял ее, она положила голову ему на плечо и вскоре заснула. Напротив нас сидела парочка – парень и девица деревенского вида с густо напудренным лицом; глядя на отца, парень тоже обнял свою подружку, и та, уткнувшись ему в воротник быстро заснула.
Парень ухмыльнулся и подмигнул кондуктору. Вот, баюкай их еще.
– Дети, чистые дети, – согласился кондуктор. – Все они такие, ну прямо как дети малые.
Так закончился день. И какую пустоту я ощутил наутро! Жизнь, где не совершаются преступления, не звучат реплики, полные изысканности и благородства, где нет ни потешных дядюшек, ни белокурых ангелов! О, скудость и убогость нашей жизни! Даже матушка в то утро пребывала в унынии, что в отдельные моменты становилось заметным.
В те дни, как и в прежние времена, мы с отцом много гуляли вдвоем. Часто после школы я заходил за ним в Сити, и мы вместе шли домой; я брал его под руку, он опирался на меня, и с каждым днем я все больше и больше ощущал тяжесть его тела. Он поджидал меня где-нибудь на углу, и мы трогались в путь по Коммерциал-роуд. По воскресеньям мы перебирались через Темзу и шли в Гринвич; там мы взбирались на холм, усаживались и беседовали, а то и просто молчали, думая об одном и том же, глядя на огромный город, лежащий у наших ног, – город был необычайна тих и спокоен.
Поначалу я не понимал, что он действительно умирает. «Год-другой», отпущенные ему Уошберном, казались мне сроком неопределенно долгим, приговор, вынесенный ему Судьбой, нё воспринимался как подлежащий немедленному исполнению, тем более что день ото дня он становился все энергичней. Разве я мог понять, что он просто спешит дать выход своей нерастраченной жизненной силе, боясь, что она пропадет втуне?
И вдруг я понял. Случилось это в самом начале весны. Как-то после школы я направлялся в Сити, где мы договорились встретиться. Хилборнский виадук тогда еще только строился, и все попытки как-то регулировать движение в центре ни к чему не приводили. Я ехал на омнибусе. С грехом пополам мы добрались до Сноу-хилл, а там попали в безнадежную пробку; минут десять мы буквально ползли, судорожными рывками продвигаясь на пару футов вперед и вновь замирая. Вся улица, насколько хватало взгляда, была забита экипажами, и наш омнибус казался одним из многочисленных позвонков гигантской змеи, неспешно ползущей по городу. Я не вытерпел, выскочил из омнибуса и побежал; и с каждым шагом все сильнее и сильнее становились боль и страх за отца, неожиданно посетившие меня. Я бежал изо всех сил, боясь, что он умрет прежде, чем я успею добежать до конторы.
По-моему, он все понял, хотя тут я слукавил, объяснив, что вдруг испугался, не попал ли он под лошадь. Но он догадался о подлинной причине моего страха и впредь со спокойным мужеством без обиняков постоянно напоминал мне, что час разлуки недалек.
– Всех нас ждет конец, мальчик мой, – говорил он. – Для кого он настанет раньше, для кого – позже. Год, два – какая разница? Но помни, Пол, расстаемся мы ненадолго. Там мы встретимся снова.
Мне нечего было ему сказать: я судорожно цеплялся за последнюю фразу, но моя вера – вера, в которой меня воспитывали, – в этот час испытаний оказалась поколебленной: я стал сомневаться. Даже молиться я не мог. Единственное, о чем бы я мог сейчас молить Господа, – так это о том, чтобы он продлил отцу жизнь. Но если бы наши молитвы доходили до него, то разве умирали бы те, кого мы любим? Мне скажут, что человек – маловер; выходит, что если бы вера его была крепка, то никто бы и не умирал; что-то здесь не так. Просто Господь дразнит своих тварей – одной рукой дает, другой – отбирает. Я не собираюсь кощунствовать. Но тогда мне не на что было опереться. Получалось, что все религии мира – всего лишь опиум, которым Человечество пытается притупить свою боль, зелье, в котором оно топит свои страхи, а вера – всего лишь мыльный пузырь, который лопается при легком дыхании Смерти.
Вряд ли мои мысли облекались в такую форму, я был всего лишь подростком, в этом возрасте высказать мысль нельзя: выражают ее криком. Но такие мысли у меня безусловно были – смутные, нечленораздельный Неверно, что мыслить могут только взрослые, мысли зарождаются у нас в раннем детстве и не оставляют наш всю жизнь; мы лишь учимся их читать.
Как-то я не выдержал и выложил отцу все, что было у меня на душе. Был прекрасный тихий вечер; мы задержались в парке дольше обычного и медленно шли по широкой аллее, ведущей от обсерватории в чистой поле. Я выплеснул на отца все свои страхи и сомнения: мы расстаемся навсегда, никогда нам больше не увидеться. Я потерял свою веру. Как мне опять поверить?
– Рад, что ты рассказал мне об этом, Пол, – сказал отец. – Было бы жаль расставаться, так и не поняв друг друга. Но я сам виноват. Кто бы мог подумать что тебя гложут сомнения? Все мы рано или поздно начинаем сомневаться, но почему-то скрываем это. Вот глупо.
– Но что же мне делать? – закричал я. – Как заставить себя верить?
– Милый мой мальчик, – ответил отец. – Верим мы, не верим – какое это имеет значение? Богу от этого ни жарко, ни холодно. Неужели ты думаешь, что Он похож на школьного учителя, который злится, что дети не понимают его объяснений?
– А ты во что веришь? – спросил я. – Ну, не только в то, что Бог есть, а вообще?
Совсем стемнело. Отец обнял меня и прижал к себе.
– А в то, маленький брат мой, – ответил он, – что все мы дети Божьи. Он желает нам только добра. Не думаю, что он посылает на нас Смерть ни с того ни с сего. Есть в этом какой-то смысл. Но пути Его неисповедимы, и не всегда Он делает то, чего бы нам хотелось, Мы должны уповать на Него, пусть даже он и посылает нам Смерть.
Мы помолчали, затем отец продолжил:
– И никогда не забывай, что есть на свете вера, надежда, любовь. Верь, что снизойдет на тебя милосердие Божье; надейся, что исполнятся все твои мечты. Но любить нужно других, а не самого себя.
Была ночь; затих неугомонный человеческий улей, погрузился во тьму; лишь то там, то тут горели отдельные огоньки.
– Ничего мудреного здесь нет; это значит, что просто надо быть добрым, – продолжал отец. – Часто, действуя из самых благородных побуждений, мы творим зло, а бывает, что и зло обернется добром. Этого нам понять не дано. Конечно, Ветхий завет надо уметь толковать – там все туманно и двусмысленно, но ведь в Новом завете написано черным по белому: «Возлюби ближнего своего». Тут-то что не понять? И если уж так устроено, Пол, что недолго нам быть вместе на этом свете, то значит, чем меньше нам осталось, тем нужнее мы друг другу.
Я посмотрел ему в глаза; мир и покой сияли на его лице, и этот свет проник мне в душу и придал сил.
Глава IX
О том, как Пол вырабатывал характер.
Други отроческих игрищ и забав, где вы? Табби с рыжими кудрями, Ланни с носом, как у клоуна, Шамус – хилый, но отважный (ничего не стоило «завалить» тебя, но пощады ты никогда не просил), Дики – толстяк Дики, «Дики-дурень», Баллот – плакса и нытик, Красавчик Банни – ты каждый день менял галстуки и дрался только в лайковых перчатках – где вы? Где вы, все остальные? Я уже позабыл ваши имена, но разве забудешь, как дороги вы мне были? Кура вы подевались, где бродят ваши бледные тени? Интересно, поверил бы я тогда, если бы мне сказали, что наступит день, и я больше не увижу ваших веселых мордашек, не услышу дикого пронзительного вопля (так у нас было принято здороваться), не почувствую крепкого дружеского пожатия измазанной в чернилах руки; не буду я больше драться с вами, любить вас и ненавидеть, ссориться и мириться. Интересно, что бы я на это сказал?
А ведь как-то совсем недавно я повстречал тебя, Табби! Помнишь, как мы открывали с тобой Северный: полюс и искали истоки Нила? Помнишь наш штаб – о нем никто не знал, удалось нам отыскать такое укромное местечко на берегу канала в Риджентс-парке. Здесь мы вкушали скромную походную трапезу – слоновий язык, поджаренный на костре (непосвященным он мог показаться заурядным мясным паштетом, да разве они что понимают?); нас не смущали посторонние шумы – ведь мы были охотниками, и слух у нас был острый – мы слышали все, что нам надо: и рык голодного льва, и словно бы жалобный рев тигра, и протяжное рычание белого медведя; чем ближе было к обеду, тем явственнее и нетерпеливее звучали голоса хищников; и где-то в половине пятого мы брали карабины и, крадучись, опасливо поглядывая по сторонам, продирались сквозь джунгли, пока не упирались в высокий, утыканный гвоздями забор, отделяющий Риджентс-парк от Зоосада. Я тебя сразу узнал, Табби, хотя ты и отпустил бакенбарды, а от рыжих кудрей остались редкие седые пряди. Ты бежал куда-то по Трогмортон-стрит, и в руке у тебя был черный портфель Я уж было собрался остановить тебя, да времени у меня не было: я спешил на поезд, а по пути собирался заскочить побриться. Интересно, узнал ли ты меня? Посмотрел-то ты на меня не очень уж дружелюбно. Бесстрашный Шамус, добрая душа! Помнишь, как ты отстоял лягушку, с которой мы собирались спустить шкуру? Ты победил в неравной схватке. Говорят, что ты подался в налоговые инспекторы и никому теперь не веришь; поговаривают, что даже у вас в Управлении дивятся твоей подозрительности и бессердечности, Если это так, то пусть Провидение пошлет тебя подальше от нашего участка.
Вот так Время, подручный Природы, снует туда и сюда по огромной квартире, хлопочет, выметает сор, приводит все в порядок; присыпает землей кратеры потухших вулканов, возводит из обломков новые здания, распахивает могилы, залечивает кору дерева, на которой влюбленные оставили свои имена.
Поначалу меня в школе не любили, что сильно обескураживало. С годами мы, мужчины и женщины, начинаем понимать, что потерять в жизни можно все, только не любовь и уважение друзей и близких – без того жить невозможно. Но взрослый человек может накинуть на себя плащ самообольщения, в котором ему тепло и уютно; ребенок же мерзнет под пронизывающим ветром всеобщей неприязни. Меня не любили, и я это великолепно понимал и по своему обыкновению молча страдал.
– Ты бегать умеешь? – как-то спросила меня одна очеиь важная особа (имя его я забыл). Это был вожак четвертого начального – долговязый юнец с птичьим носом и аристократическими замашками. Его отец держал мануфактурный магазин где-то на Эджвер-роуд; после того как он разорился, его отпрыску пришлось поступить на государственную службу и влачить жалкое существование, довольствуясь жалованием. Но нам, мальчишкам, он всегда казался будущим герцогом Веллингтоном, каковым при других обстоятельствах он, возможно бы, и стал.
– Умею, – ответил я. Признаться, ни на что другое я был не способен, но бегал неплохо, и слухи об этом, должно быть, дошли до него.
– А ну, сделай два круга вокруг площадки, – приказал он. – Посмотрим, на что ты способен.
Я сжал кулаки и рванул. Я был несказанно благой дарен за то, что он заговорил при всех со мной, изгоем, и выразить свою благодарность я мог лишь усердием, надеясь, что мой стремительный бег доставит ему удовольствие. Когда я, запыхавшись, предстал перед ним, я понял, что он доволен.
– Почему товарищи тебя не любят? – задал он глупый вопрос.
Если бы не моя проклятая застенчивость, то я бы высказал ему все, что было у меня на душе:
– О повелитель четвертого начального! Ты, на кого любовь и уважение товарищей – единственное, к чему; стоит стремиться, – упали как дар небес! Ты, к которому обращены все сердца четвертого начального, открой мне свой секрет! Как мне завоевать всеобщую любовь? За ценой я не постою. Я был тщеславен, себялюбив, и это был предел моих мечтаний; пройдет еще очень много лет, прежде чем жизнь научит меня мудрости. Желание признания огорчало дни мои. Почему все замолкают, когда я подхожу к стайке весело болтающих мальчишек? Почему меня не принимают играть? Что стоит между нами, что отталкивает меня от вас? Я забился в укромный утолок и тихо рыдал. Я завидовал всем, кому был дан этот чудесный дар, следил за ними во все глаза и жадно слушал. В чем ваш секрет? Томми – хвастун и врунишка. Что ж, давайте и мы будем хвастать. Замирая от страха, но все же на что-то надеясь, я нес какую-то дичь, похваляясь своими подвигами. И что же? Слушая враки Томми, все восхищались его мнимыми достоинствами, а меня прозвали «Хвастливым Петухом» и всячески дразнили.
Дики – шалун и озорник, он может схватить твой мячик, сорвать шапку, прыгнуть на спину, когда этого меньше всего ожидаешь. Но проделки Дики выызвали смех, а мне раскровянили нос и вообще перестали разговаривать. А ведь я совсем не тяжелее Дики, пожалуй, даже на фут-другой полегче. Билли – душа нараспашку. Но почему он может сжать товарища в дружеских объятьях, а от меня все вырываются? Сделать вид, что мне ни до кого нет дела? Что ж, и это мы пробовали. Я отхожу от стайки мальчишек, сделав каменное лицо (что дается мне с трудом), но меня никто и не пытается удержать. Не надо ли им помочь в учебе? Вот тогда-то они поймут, с кем имеют дело. Ах, если бы они согласились принять мои услуги! Я бы решал им примеры (я хорошо решаю примеры), писал бы сочинения, и пусть учителя наказывают меня за их шалости. И многого за то я не потребую – всего-то малую толику любви и – что куда важнее – чуточку восхищения. Но я не нашел ничего умнее, как сердито брякнуть:
– Ну да, не любят; кое-кто еще как любит, – Сказать правду у меня не хватило решимости.
– Не ври, – сказал он. – Никто тебя не любит, сам знаешь.
Я печально понурился.
– Ладно, не хнычь. Слушай, что надо делать, – велел он. – Даю тебе возможность исправиться. Мы начинаем игру в охотников и зайцев. В субботу запускаем зайцев. Будешь зайцем. Никому ничего не говори. Придешь в субботу, а я уж сам все утрясу. Но помни, бежать ты должен, как черт.
И не дожидаясь ответа, он пошел прочь, оставив меня наедине с привалившим мне счастьем. Удача сама шла мне в руки! У всех нас бывает звездный час: у заднескамеечника, когда он произносит в Парламенте краткую, но пламенную речь, и сам лидер фракции истает со своего места и, улыбаясь, спешит ему навстречу, чтобы пожать руку, поздравляя с успехом; у начинающего драматурга, когда он приходит в свое убогое жилище и распечатывает оставленный ему конверт, в котором находит приглашение директора театра зайти к нему завтра вечером в одиннадцать; у юного лейтенанта, когда его подзывает к себе невесть откуда взявшийся главнокомандующий и приказывает доложить обстановку; в этот час лучи солнца начинают пробиваться сквозь предрассветный туман, и мир лежит у наших ног, и ничто не может остановить нас.
Как мне и было велено, в школе я ни словом не обмолвился о том великом счастье, что выпало на мою долю, но дома меня прорвало: едва успела захлопнуться за мной входная дверь, как я, прямо из прихожей, уже кричал:
– А я буду зайцем, потому что бегаю лучше всех… Охотником может быть каждый, а вот зайцев всего два, и выбрали меня. А ты мне купишь фуфайку? Зайцев запускают в субботу. Он знает, как я бегаю. Я два раза пробежал вокруг площадки. Он сказал, что бегаю я что надо! В зайцы кого попало не выберут, это большая честь Мы побежим от Хэмстон-хит. А ты мне купишь спортивные туфли?
В тот же вечер мы с матушкой отправились покупать фуфайку и спортивные туфли: надо было спешить, а то великолепные синие фуфайки в белую полосочку могли кончиться, да и туфли могли расхватать; Перед тем как лечь спать, я облачился в спортивную форму и полюбовался собой в зеркало. На следующий день, к ужасу матушки, я начал тренироваться: прыгал через стулья, кубарем скатывался с лестницы. Я объяснил, что на карту поставлена честь четвертого начального, а ножки и перила мало что значат по сравнению с доблестью и славой. Отец, как и положено мужчине, согласился со мной, но матушкина молитва стала немного длинней.
Наступила суббота. Встретиться договорились в половине третьего у бывшей заставы – большинство охотников жило поблизости. Я вышел из дома рано утром, долго слонялся по Риджентс-парку, пообедал прихваченными с собой бутербродами и, наконец, сел в омнибус и поехал в Хит. Понемногу стали собираться участники игры. Внимания на меня никто не обращал – бросят рассеянный взгляд и тут же идут дальше. Поверх фуфайки у меня была обычная одежда, и я знал, что меня принимают за зрителя, пришедшего поглазеть, как будут запускать зайцев. То-то они удивятся, когда узнают, что один из зайцев – это я! Да таких зайцев поискать надо! Утру я вам нос! Наш кумир пришел одним из последних и тут же принялся распоряжаться, расставляя всех по местам. Я скромно подошел и стал ждать, когда очередь дойдет до меня.
– У нас же только один заяц, – закричал какой-то охотник. – А по правилам положено два – вдруг одного застрелят.
– А у нас их и так два, – спокойно сказал герцог. – Что ж, по-твоему, я правил не знаю? Вторым зайцем будет юный Пол Келвер – прошу поприветствовать!
Воцарилась тишина.
– Да ну его, – наконец сказал кто-то. – Он и бегать-то не умеет.
– Бегает он лучше твоего, – вразумил его герцог.
– Вот и пусть бежит себе домой, – закричал другой охотник, и все рассмеялись.
– Если не заткнешься, то сам побежишь домой, – пригрозил герцог. – Кто здесь главный – ты или я? Ну-с, молодой человек, на старт, внимание…
Непослушными руками я стал расстегивать куртку, но играть мне расхотелось.
– Я не побегу, – буркнул я, – Здесь все против меня.
– Нужен нам такой промокашка! – закричал первый мальчишка. – Маменькин сынок!
– Так ты бежишь или нет?! – рявкнул герцог, увидев, что я не спешу выходить на старт. На глаза у меня навернулись слезы, и, как я ни моргал, скрыть их не удалось. Я отвернулся.
– Ну смотри у меня, – процедил он; как и все властолюбивые люди, герцог терпеть не мог неповиновения. – Эх ты, хлюпик! Бери-ка сумку и дуй домой! Этак мы дотемна не начнем.
Тут же нашли замену, и счастливчик радостно занял мое место. Зайцы пустились со всех ног, а я, ни на кого не глядя, поплелся прочь.
– Плакса-вакса! – заорал какой-то мальчишка, заметив мои слезы.
– Да сдался он тебе, – проворчал герцог; я двинулся в сторону какого-то лесочка.
Через несколько минут охотники с гиканьем и свистом ринулись в погоню. Как я теперь заявлюсь домой? Рассказать все, как есть? Ни за что на свете: это же стыд и позор! Как огорчатся родители! Отец-то, небось, с вожделением ждет от меня подробного рассказа об игре, матушка наверняка уже греет воду и готовит ванну. Что бы такое придумать? Как бы сокрыть страшную правду?
День был холодный, пасмурный, накрапывал дождь. В поле не было ни души. Я снял куртку, стянул рубашку, свернул их в узелок, сунул под мышку и помчался что было мочи. Я был сразу и заяц, и охотник. Это очень унылое занятие – гнаться за самим собой.
По сю пору стоит у меня перед глазами жалкая потешная фигурка, несущаяся, высунув язык, по мокрому полю. Милю за милей отмеряет маленький дурачок, не разбирая дороги. Вот он падает в канаву, но не очень-то расстраивается – похоже, он специально бухается в грязь; вот он продирается сквозь мокрые кусты, лезет через забор, вымазавшись дегтем, перемахивает через частокол, оставляя на нем часть одежды. Вперед, вперед! Вот он миновал лесок Бишоп-вуд; шлепает, увязая в иле, по дну котловины Черч-боттом – там, где сейчас ревут поезда; несется сломя голову по лужам, без которых тогда нельзя было себе представить Мусвел-хилл – теперь-то это дачное место: улицы замостили и застроили сляпанными на скорую руку коттеджами. Время от времени он останавливается, чтобы перевести дух; грязной тряпкой, в которую превратился носовой платок, вытирает пот со лба, перевязывает узелок, который держит под мышкой; больше всего боится он попасться на глаза какому-нибудь случайному путнику и норовит потихоньку прошмыгнуть мимо окон одиноких домишек, а дорогу перебегает, лишь убедившись, что никто его не видит. По лицу размазаны слезы, одежда забрызгана грязью; бежит он в гору по темной Кроуг-энд-стрит – это сейчас она залита электрическим светом сотен витрин, а в те годы фонарей ей не полагалось; последний рывок – и он на платформе Севен-систерт-роуд; здесь можно выжать промокшую насквозь фуфайку, сесть на поезд и поехать в свой Поплар, домой, где придется врать с три короба, взахлеб рассказывая, какой жаркий выдался денек, как все хвалили неуловимого зайца и сгорали от зависти.
Бедное, несчастное дитя! Признание товарищей? Слава? Это призрак, маячивший перед глазами. Станешь ловить славу – она обязательно ускользнет. Но стоит лишь отвернуться от нее и пойти, радуясь жизни, навстречу солнцу, как она поспешит за тобой по пятам. Что, разве я не прав? Так почему же ты смотришь на меня, горько ухмыляясь?
Когда поступаешь на службу к Обману, то подписываешь долгосрочный контракт, и упаси вас Бог нарушить условия – такое будет! Я убедил себя, что этот кросс бежал исключительно из спортивного интереса; он явно пошел мне на пользу (но почему же тогда так стонет душа?). Придется отчитываться перед родителями, но если все правильно подать, то получится, что я вовсе и не вру. Для окончательного успокоения совести я купил большой бумажный пакет, набил его обрывками старых газет, которые и разбрасывал по дороге, отмечая свой путь.
– И никто тебя не смог запятнать? – удивится матушка.
– Куда им. Я этих охотников и близко не видел.
– Нельзя так быстро бегать, – скажет матушка. – Это вредно.
Но будет видно, что она гордится своим сыном.
И тут мне на помощь пришло воображение: послышался топот ног преследователей, в кустах как будто мелькнула фигура охотника, напавшего на след, и я поднажал.
Я не пережил бы одиночества, если бы не Дэн. Дружба с ним была для меня той тенью, которую бросает одинокий утес, высящийся в жаркой пустыне; сюда устремляется несчастный путник, изнемогающий от зноя. К этому времени я стал понимать политику Дэна – это был вечный оппозиционер. Можно было заранее сказать, что дело, которое он собирается отстаивать, в глазах большинства – дело неправое, а человек, за которого он вступится, – изгой, отвергнутый большинством.
– Тебя что-то не понять, – как-то в моем присутствии заявил ему один наш одноклассник. – Есть у тебя хоть какие-нибудь принципы?
– Ненавижу толпу. – И никаких других принципов у Дэна не было.
Дружба его была бескорыстна, он ничего не требовал взамен. В любой момент я мог обратиться к нему за поддержкой. Я неоднократно пытался завоевать любовь одноклассников, но всякий раз эти попытки терпели крах; поджав хвост, я тащился к Дэну в надежде, что хоть он-то меня пожалеет. И он меня жалел – молча, без всяких дурацких советов. Когда же, наконец, мои товарищи перестали меня сторониться, и Дэн мне стал не нужен; он не то что не обиделся, даже не удивился. Что там думают другие, что они вытворяют его нисколько не волновало, даже если дело касалось непосредственно его. Дарить он любил, а вот к подаркам был совершенно равнодушен; принимать подарки ему было просто скучно. Он был, как родник: вода бьет ключом, перехлестывает через край, а попробуй-ка в него что-нибудь влить – он тут же извергает инородное тело.
Признание пришло ко мне совершенно неожиданно: (когда я и думать об этом забыл), удивив и обескуражив. Я вдруг заметил, что все ищут моего общества.
– Эй, Келвер, дуй-ка сюда, – говорил какой-нибудь мальчишка, уполномоченный группой товарищей. – Домой идешь? Так нам же по пути! Пошли с нами!
Я был бы не прочь прогуляться с ребятами, да не тут-то было: не успевали мы дойти до ворот, как на радость общения со мной начинала претендовать соперничающая группировка.
– Сегодня он идет с нами – он обещал.
– Нет, не обещал.
– А вот и обещал.
– Мало ли, что он обещал. С вами он не пойдет. Усек?
– Ишь, напутал. Пойдет как миленький.
– Это кто сказал?
– Я.
– Ну-ка, Дики, двинь его по башке.
– Попробуй только, посмотрю я тогда на тебя. Потопали, Келвер.
Я был нечто вроде прекрасной дамы, выставленной в качестве приза на рыцарском турнире. Далеко не всегда соперничающие группировки ограничивались словесной перепалкой, случались и форменные побоища; тогда я доставался победителю, который, торжествуя, уводил меня с собой.
Я долго ничего не мог понять; наконец, не выдержав, обратился за разъяснениями к Кашалоту – такая у него была кличка, на самом деле его звали Джордж Грэмпиан; так уж мы острили. Если раньше Кашалоту доставляло огромное удовольствие издеваться надо мной, то теперь он полюбил меня всей душой. Это был сильный и отважный парень, в младших классах лучше его дрался только Дэн. Если мне удастся понять, почему Кашалот из моего заклятого врага превратился в лучшего друга, то загадка будет разгадана, и когда он, отбив меня в раздевалке у Кэмпдена Тауна, также претендовавшего на мое общество, взял меня под руку, я прямо спросил его:
– Почему вы все хотите, чтобы я шел с вами? Что вам от меня нужно?
– А ты нам нравишься.
– Что вы во мне нашли?
– Да ты такой потешный, такие смешные вещи рассказываешь – животики надорвешь.
Нет, лучше бы он меня ударил! Я-то, дурак, надеялся, что во мне наконец-то признали человека мужественного, способного на героические поступки. В учебнике я читал про Леонарда и Мармедьюка (был у нас один Мармедьюк, в пятом начальном; прозвали его, естественно, «Мармелад»; какая кличка была в детстве у его великого тезки – о том история умалчивает); они снискали любовь и уважение благодаря цельности характера, благородства помыслов, доброму сердцу, честному уму; к этим качествам я бы присовокупил еще ловкость и сноровку, меткость (необходимые при игре в кегли), да и, пожалуй, этакую пружинность мышц, позволяющую тебе прыгать дальше и выше других; впрочем, эти качества не обязательны. Но никто из великих не рассказывал забавные истории, вызывающие смех.
– Да не ломайся, Келвер, пошли с нами. Хочешь, мы возьмем тебя запасным в нашу крикетную команду? Я научу тебя подавать.
Итак, мне уготована роль шута – а я-то грезил о рыцарской доблести и славе героя! Мне суждено развлекать и потешать. Молил богов о славе? Молил. Так и получай ее! Что и говорить, боги – великие насмешники, что и отметил еще в древности бедолага Мидас. Будь я не столь тщеславен, то гордо бы бросил этот ненужный мне дар богам прямо в лицо; но уж больно мне хотелось, чтобы мною восхищались и завидовали. Так что приходилось выбирать: либо ты дурачишься, и за тобой по пятам следует толпа, либо ты сохраняешь достоинство и идешь в полном одиночестве. Нечего и говорить, что я предпочел отпускать шуточки. Со временем я с некоторым изумлением заметил, что шуточки мои становятся все острее и изысканнее; я стал сочинять смешные истории, готовить экспромты; самую дурацкую фразу я мог закрутить так, что все помирали от хохота.
Награда не заставила себя ждать. Вся школа бегала за мной по пятам. Но радости это мне не доставляло. Вот если бы я был капитаном футбольной команды или, на худой конец, младшим помощником его заместителя! К чему мне дар красноречия, если он способен породить только смех? Уж лучше быть заикой, как Джерри; в матче с командой школы Хайбери он заколотил им три сухих гола. Как я завидовал ему, когда под гром аплодисментов он совершал круг почета!








