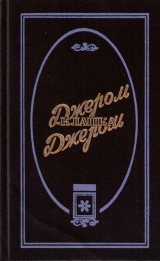
Текст книги "Пол Келвер"
Автор книги: Клапка Джером Джером
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 27 страниц)
Джером Клапка Джером
Пол Келвер

Перевод Александра Попова.
Пролог
В котором автор питается убедить читателя в том, что инициатива написания этого романа исходит от третьего лица.
Есть на окраине Ист-Энда [1]1
Ист-Энд – рабочая окраина Лондона (Здесь и далее примечания переводчика.)
[Закрыть]одна улица – длинная, прямая, застроенная кирпичными домами; она ничем не отличается от других улиц этого района: так же безлюдна, так же уныла, все те же прокопченные стены; дома на таких улицах похожи друг на друга, как близнецы; окна и двери отстоят от тротуара на равное расстояние и сливаются в сплошные параллельные линии, уходящие в дурную бесконечность – не улицы, а какие-то выполненные в камне чертежи, иллюстрирующие знаменитый постулат Евклида. В конце этой улицы есть дом, он постоянно влечет меня к себе, и тяга настолько сильна, что, стоит мне забыться, как ноги сами несут меня туда, и, очнувшись, я вдруг замечаю, что продираюсь сквозь шумную толпу, заполнившую какой-то проезд, где тускло мерцают масляные фонари – в их свете лица людей кажутся свирепыми, перекошенными, мертвенно серыми; или вот: я иду по пустынной полутемной улице и вижу, как в наглухо зашторенных окнах появляются и исчезают чудовищные тени; а вот узкая оживленная улица, где в сточных канавах резвятся ребятишки, где настежь распахнутые входные двери как бы приглашают случайного прохожего принять участие в семейном скандале; я прохожу мимо зловонных помоек, пересекаю пустыри и наконец достигаю вожделенной цели, взлелеянной моей памятью; прислонившись к ломаной ограде, я останавливаюсь передохнуть.
Дом этот куда больше, чем его товарищи; построен он был еще в те времена, когда улица, на которой он стоит, была простым проселком, проложенным через болото; дом не похож на соседние, и эта непохожесть звучит резким диссонансом в тоскливой гармонии серого однообразия. С двух сторон его окружает то, что когда-то было садом, а ныне представляет собой бесплодный клочок земли, утоптанный в пыль и усеянный камнями; там вечно сушится белье – удивительно, что здесь кто-то еще думает о стирке; над подъездом сохранились остатки портика, с которого осыпалась лепнина, бесстыдно обнажив его псевдоклассическое естество.
Иногда меня заносит сюда в дневное время, когда неряхи-хозяйки собираются у ворот посплетничать, и тишину нарушает душераздирающий вопль: «Углей – углей – три шиллинга шесть пенсов за мешок у-у-гле-е-ей!»; отсутствие спроса на товар наложило отпечаток на тональность этой песни, и непреходящая тоска рвется из сердца ее исполнителя; но днем улица меня не признает, а мой старый друг, стоящий на углу, стыдясь своего потрепанного вида, столь явного при безжалостном свете дня, отворачивается и не хочет замечать меня.
И только когда вечер – единственный, кто еще оказывает милость сирым и убогим, – набрасывает свой покров на его согбенные плечи, пряча от глаз прорехи и заплаты, вот тогда-то, подобно любящей няне, повстречавшей своего питомца через много-много лет, он широко раскрывает объятия и сердечно приветствует меня. Выждав, когда наконец-то затихнет жизнь, кипящая теперь в его стенах, и в расположенном по соседству трактире «Прусский король» погасят свет, он заводит со мной разговор о прошлом, задавая мне множество вопросов и напоминая о том, что я успел позабыть. А чуть позже послышатся на притихшей улице знакомые шаги, заскрипит калитка, будут, не видя меня, сновать взад-вперед люди, лица которых я запомнил на всю жизнь; мы будем говорить о них, подобно тому как два старинных приятеля, листая ветхий альбом с выцветшими фотографиями друзей и близких, одетых в старомодные костюмы, тихо беседуют о тех, кого уж нет, и о тех, кого раскидало по белу свету, – то улыбаясь, то вздыхая и беспрестанно восклицая: «О Боже!» или «годы, годы!»
Вот я вижу согбенного, изможденного человека; он устремляется к нам быстрой, нетерпеливой походкой, но через каждые пятьдесят-шестьдесят ярдов ему приходится останавливаться и отдыхать, тяжело опершись на длинную бамбуковую трость. «Красивое лицо, что скажешь?» – спрашиваю я, вглядываясь в овал, обрамленный вечерней тьмой.
– Да, красивое, ничего не скажешь, – отвечает старина Дом. – Представляю, каким он был красавцем до того, как мы с тобой с ним познакомились: ведь тогда житейские заботы не успели избороздить его лицо морщинами.
– Никак не могу взять в толк, – задумчиво продолжает старина Дом, – в кого ты такой уродился? И отец твой, и матушка – редкой красоты люди, но, Боже мой, что это были за дети!
– Дети? – удивленна переспрашиваю его – ведь я отлично знаю, что отцу было уже под сорок, когда Дом познакомился с ним, а в роскошных каштановых волосах матушки, лицо которой сейчас отчетливо проступает в темноте, я вижу пробивающуюся седину.
– Дети, – сердито повторяет старина Дом (он не любит, когда его слова подвергают сомнению, – недостаток, свойственный многим старикам) – чистые дети! Беспомощнее этой парочки свет не видывал. Скажи на милость, кто еще в тридцать восемь лет, желая поправить свои дела, вдруг решает податься в стряпчие? И кто еще, приняв такое решение, не может придумать ничего лучшего, как перебраться к черту на рога, в Поплар, [2]2
Поплар – ближний пригород Лондона.
[Закрыть]и здесь открыть контору? Только ребенок.
– Так ведь считалось, что Поплар будет расти, – отвечаю я, не скрывая обиды. Ну какому сыну приятно слушать, как его родителя выставляют дураком, пусть даже в глубине души он согласен с приводимыми аргументами. – Предполагалось, что все, кто так или иначе связан с морем, переберутся сюда, поближе, к новому бы с них шкуру спустила! Я бы спустила шкуру с них со всех! Я бы живьем с них со всех шкуру спустила!
Это дьявольское проклятье, но мне не страшно, и я смеюсь. Лицо старушенции теряет свои черты, размывается, как это бывает во сне, и она, ковыляя, исчезает из виду.
Затем, как бы по контрасту, является очаровательное смеющееся лицо. Это лицо я видел наяву всего лишь несколько часов назад, точнее сказать, не его, а тот омерзительный грим, который наложили на него злые силы, не терпящие первозданной свежести, Я стою, смотрю на это лицо, и мне хочется, чтобы оно всегда оставалось таким – ведь не меняются же лица мертвых! Но вот опять всплывает из мрака то лицо – со злобно кривляющимся ртом и добродушными глазами, и я опять стою в растерянности – ведь я любил их обоих: и его, преподавшего мне первые уроки мужества, и ее, от кого я узнал, что такое женская красота и загадочность женской натуры. И опять крик боли вырывается из моего сердца: «Так кто же виноват – он или она?» И опять он отвечает, разразившись саркастическим смехом: «Кто виноват? Все мы твари Божьи!» И думая о ней, о той любви, что я пронес через всю жизнь, – а походила она на любовь паладина к Деве Марии, я начинаю чувствовать, как в душе закипает ненависть к этой даме. Но стоит мне взглянуть ей в лицо и увидеть глаза, преисполненные страдания, как жалость охватывает меня; я забываю о своих терзаниях и лишь повторяю его слова: «Все мы твари Божьи!»
Ветерок приносит новые призраки: лица веселые и грустные, лица благородные и заклейменные печатью порока; и все они вьются вокруг одной и той же точки – маленького мальчика с золотыми локонами (более приличными девочке, чем мальчику), – застенчивого, неловкого, замкнутого, угрюмого, какого-то не от мира сего.
Я отвожу от него взгляд и обращаюсь к своему старому кирпичному другу:
– Как по-твоему, он узнал бы меня, если бы мог увидеть?
– С какой стати? – отвечает старина Дом. – Он ожидал увидеть нечто иное. Да подумай сам, узнаешь ли ты себя лёт этак через двадцать?
– Жаль, что он не узнает меня, – говорю я.
– Чего же тут жалеть? Было бы хуже, если бы узнал, – ворчит старина Дом.
Некоторое время мы молчим, но я знаю, о чем он думает. Так и есть, я не ошибся. Он говорит:
– Ты – писатель, строчишь рассказы. Почему бы не написать книжку о нем? По крайней мере, сочинять ничего не придется.
Это любимый конек старины Дома. Я никогда не затрагивал этой темы, идея принадлежит исключительно ему.
– Но он ничего не совершил, – возражаю я.
– Он жил, – отвечает старина Дом. – Разве этого мало?
– Да, но жил-то он только в Лондоне, да еще в наше глухое время, – упираюсь я. – Как из этого сделать роман, который будет интересен читателю?
Старина Дом гневно топает ногой.
– Эх вы, люди! – отвечает он. – Ведь вы же дети, сидите себе в детской, где уже потушили верхний свет, и ждете, когда вас позовут спать. А один из вас уселся на стульчик и рассказывает собравшимся вокруг какую-нибудь историю. Кто знает, что им будет интересно, а что – нет?
Домой я возвращаюсь не спеша и, проходя по тихо дышащим во сне улицам, размышляю о словах старого Дома. Есть такие мамаши, которые наивно полагают, что всем вокруг интересно знать, как там поживает их ненаглядное чадо. Не тот ли это случай? А может, его совет не столь уж и неразумен? Я вдруг вспоминаю – к счастью или к несчастью, судите сами, – что есть среди моей аудитории презанятнейшая публика, правда, немногочисленная, Чуть ли не каждый вечер они требуют от меня рассказать историю. Когда же, поведав своим слушателям о страшных великанах и их победителях – добрых молодцах, о сыновьях дровосека, спасающих всяких там девушек, угодивших в лапы людоеда; о принцессах, прекрасней которых во всем свете не сыскать; о принцах и мечах-кладенцах, я замолкаю, эта публика, явно неудовлетворенная, подползает ко мне поближе и начинает клянчить: «А теперь – правдивую историю, – и поясняет, чувствуя мою бестолковость: – о маленькой девочке, у которой были папа и мама, которая жила в большом доме и не всегда слушалась родителей».
Посему не исключено, что среди широкой читающей публики найдутся двое-трое заинтересованных слушателей, которые на время отложат в сторону роман о благородном герое, то блистающем при дворе, то проявляющем чудеса храбрости в кровавых битвах, и послушают историю о самом обыкновенном мальчугане, который рос в самой обыкновенной семье, жившей не так уж давно на самой обыкновенной лондонской улице, и из которого получился самый обыкновенный человек: как и все, он немного любил, немного страдал; как и все, кому-то доставил капельку радости, а кому-то – чуточку горя; как и все, он боролся, терпел поражения, надеялся. Если кому-то это интересно, то пусть они соберутся вокруг меня.
Но пусть те, кто подойдет меня послушать, потом не возмущаются, что, дескать, этот шарлатан поведал нам историю какой-то самой заурядной жизни, а в романах все бывает совсем не так. Я предупреждаю, что буду рассказывать лишь о том, что видел собственными глазами. Мои элодеи, боюсь, покажутся всего лишь бедными грешниками; да и не такие уж они злодеи; мои добрые люди претендуют на звание праведника, но не всегда их претензии обоснованны. Мои принцы далеко не всегда побеждают дракона – узы, частенько дракон пожирает моего принца. Злые колдуньи бывают сильнее добрых фей. Волшебный клубок зачастую заводит не туда, куда надо, да и герой не всегда отважен и честен.
Итак, пусть вокруг меня соберутся только те, кто согласен выслушать незатейливую историю своей собственной жизни, только рассказанную от лица другого, и пусть они перебивают меня по ходу повествования своими восклицаниями: «Точно, о этом я и мечтал! Ах да, верно, теперь-то припоминаю».
КНИГА I
Глава I
Пол попадает па грешную землю, где узнает много интересно, после чего отправляется на встречу с человеком в сером.
Судьба готовила мне счастливую участь. Если бы все шло, как и было задумано, то родился бы я в июне – известно, что все сильные мира сего появляются на свет в июне, и заботливые родители стараются подгадать, чтобы рождение их чада пришлось бы именно на этот месяц. Пусть те, кто смыслит в этих делах поболе моего, объяснят, как меня угораздило родиться в мае: ведь в мае – кто осмелится это отрицать? – родятся сплошные неудачники, что я и доказал всей своей жизнью.
Няня, первое человеческое существо, запечатлевшееся в моей памяти, объяснила сей прискорбный факт моей природной непоседливостью и не уставала повторять, что если я не перестану вертеться и не научусь вести себя прилично, то попаду еще и не в такую переделку; это пророчество наложило глубокий отпечаток на всю мою дальнейшую жизнь.
От этой же худосочной женщины мне стали известны и обстоятельства моего появления на свет. Роды были преждевременными; начались они ровно через два часа после того, как нам пришла телеграмма, в которой сообщалось, что отец мой стал банкротом: шахта, в которую он вложил все свои деньги, затоплена и обвалилась; беда, как объяснила мне няня, не приходит одна. В подтверждение этого матушка, потянувшись за колокольчиком, упала на стол и разбила хрустальный бокал, что явилось причиной новых расстройств, – никогда валлийцу [3]3
Валлийцы (уэльсцы) – народ кельтского происхождения, населяющий п-ов Уэльс, сохранивший свой язык и культуру.
[Закрыть], окончи он хоть три университета, не избавиться от своих суеверий: разбитый бокал – дурная примета, и каким бы ни был конечный исход моей изнурительной борьбы со злым Роком, первые семь лет жизни я был обречен на несчастья, и все из-за матушкиной небрежности.
– И что бы там ни говорили, – со вздохом добавила миссис Ферси, – приметы сбываются.
– А разве мне не везет? – спросил я. Ведь до сих пор миссис Ферси только о том и твердила, как повезло мне в жизни. Например: поди поищи таких счастливчиков, которых укладывали бы в шесть (мало ли, что в шесть мне спать ну никак не хотелось!); другие, куда менее счастливые дети вынуждены носиться по двору до восьми, а то и до девяти вечера и лишены возможности выспаться как следует. А у некоторых детей вообще нет своей кроватки – им я страшно завидовал, особенно когда мною овладевали приступы бунтарской непокорности. Опять же, стоило мне только захлюпать носом, как меня тут же начинали усиленно кормить патокой – жуткой кашицей, представляющей собою смесь отвара льняного семени и какого-то горького лекарства, лицемерно называемой патокой на том основании, что таковая там присутствовала, хотя ее приторный аромат не в силах был забить резкий запах серы. Разве счастье не улыбается мне? Сколько на свете несчастных мальчиков, на болезни которых никто не обращает внимания? Если же этих примеров оказывалось недостаточно, чтобы убедить меня в том, что Счастье балует меня своим вниманием, то приводился последний, самый веский довод: в няни мне достался не кто-нибудь, а миссис Ферси. Теперь вдруг выяснялось, что не такой уж я и счастливый, и это явилось для меня откровением.
Добрая женщина поняла, что попала впросак, и попыталась исправить свою оплошность.
– Ничего себе несчастный! Тебе-то как раз везет, – ответила она. – Я ведь говорю о твоей бедной матушке.
– А разве матушка несчастна?
– Да с самого твоего рождения счастье ее не балует.
– Значит, ей не повезло, что я у нее родился?
– Да уж какое там везенье, в то-то время!
– Я что, был ей не нужен?
Миссис Ферси всем желала добра и полагала, что дети – это обуза, но раз уж так заведено в природе, то ничего не поделаешь.
– Да уж как-нибудь обошлись бы без тебя.
Эта картина так и стоит у меня перед глазами. Мы с няней у камина в ее комнате; я сижу на стульчике, задрав колено и охватив его обеими руками. Миссис Ферси что-то шьет, и слышно, как постукивает иголка о наперсток. Тогда-то, впервые в жизни я задумался, откуда берутся дети.
Я собрался с духом и выпалил:
– Так зачем же она меня взяла? Изматывающий душу стук наперстка вдруг прекратился.
– Взяла тебя? Что ты такое несешь? Кто это взял тебя?
– Как кто? Матушка! Зачем же она взяла меня, если я ей был не нужен?
Но даже в этот момент, когда, обиженный до глубины души, я задавал этот вопрос, чувствуя, что никто не сможет дать мне вразумительного ответа, я был рад, что матушка все-таки взяла меня. Я представил, как она сидит у окна спальной и отказывается меня брать, Вырисовывалась потрясающая картина. Вот прилетел аист и стоит с растерянным и понурым видом, какой бывает у Тома Пинфольда, когда он, держа рыбу за хвост, несет ее на кухню к Анне, а та, презрительно фыркнув, захлопывает дверь перед самым его носом. Неужто и аист пошел бы прочь со двора, задумчиво почесывая в затылке длинной, похожей на ножку циркуля лапой и ворча себе под нос? И тут, совершенно неожиданно, я вдруг задался вопросом: а как это аист принес меня? В саду я частенько видел, как дрозд несет червячка: он крепко держит его в клюве, упасть тот никак не может, но, тем не менее, червячок все время дергается и чувствует себя явно не в своей тарелке. Неужели IT я так корчился и извивался? Конечно же нет, иначе бы аист не стал долго со мной возиться, а забросил бы в первый попавшийся дом. А это, скорей всего, оказался бы дом миссис Ферси. А миссис Ферси ни за что бы не взяла. И полетел бы аист дальше, к следующему дому. А там живет хромой мистер Чандли, сапожник; целый день сидит он у себя в конуре, наполовину ушедшей в землю, и стучит себе молотком, подбивая подметки; руки у него вечно грязные, и вообще, он похож на злого людоеда. Вот уж не хотел бы я быть его сыном! Скорее всего, никто бы меня не взял. Я стал размышлять, что было бы, если бы все в нашей деревне от меня отказались. Что бы стал делать аист, останься я у него, так сказать, на руках? Это размышление породило новый вопрос.
– Няня, а откуда я взялся?
– Сколько можно об одном и том же? Тебя принес аист.
– Это я знаю. А где он взял меня?
Миссис Ферси ответила не сразу. Она долго думала, наверное, боясь, как бы, получив исчерпывающий ответ, я, безо всяких на то оснований, не возомнил о себе. И все же она решила рискнуть; имелись, очевидно, и другие версии, но она решила приберечь их на крайний случай, если уж я слишком зазнаюсь.
– Ты был на небе.
– А я думал, что на небо мы отправляем после смерти, а прибываемся на землю совсем не оттуда, – сказал я. Хорошо помню, что сказал «прибываемся». В то время я много думал над особенностями словоупотребления и никак не мог понять, почему поезд «прибывает», но «отправляется», и часто, к ужасу матушки, говорил «отправляет», но «прибывается».
Миссис Ферси презрительно поморщилась, но поправлять меня не стала: матушка убедительно просила ее не затруднять себя вмешательством в эту сферу моего образования, дабы не путать ребенка возможными расхождениями во взглядах на литературную норму.
– Тебя принесли с неба, – повторила миссис Ферси, – на небо ты и отправишься, если будешь хорошо себя вести.
– А всех мальчиков и девочек приносят с неба?
– Говорят, что всех. – Судя по тону миссис Ферси, было ясно: это – распространенное заблуждение, которое лично она не разделяет.
– А вас тоже принесли с неба, миссис Ферси?
На этот счет ответ миссис Ферси не оставлял никаких сомнений.
– Конечно, а откуда же еще?
И сразу же, к стыду своему вынужден признаться, я перестал испытывать священный трепет перед Небесами. Еще раньше меня несколько смущало, что все, кого я знал, собираются туда – так, по крайней мере, мне казалось; теперь же, когда выяснилось, что и миссис Ферси взялась с неба, его очарование сильно померкло в моих глазах.
Но и это еще не все. Откровения миссис Ферси сулили мне новые разочарования. То, что моя судьба ничем не отличается от судьбы других мальчиков и девочек, меня мало радовало. С детским эгоизмом я сосредоточился на собственных невзгодах.
– Так ведь я и на небе никому не был нужен. Меня там что, не любили? – спросил я.
Страдальческие нотки в моем голосе затронули за живое даже миссис Ферси. На сей раз она меня пожалела, чего раньше за ней не замечалось.
– Любили, любили. Еще как любили. И я тебя люблю, да уж больно ты надоедливый, иногда хочется отдохнуть от тебя.
В этом-то мне сомневаться не приходилось. Хоть и был я мал, но все же догадывался, что частенько меня укладывают сдать не в шесть, как положено, а в половине шестого.
Утешение получилось слабым. Мне стало окончательно ясно, что никому я не нужен – ни на небе, ни на земле. Богу я не нужен; Он с радостью спровадил меня. Матушке я не нужен, она и без меня бы обошлась. Никому я не нужен. Так зачем же я здесь?
И вдруг мне показалось, что я нахожусь в темной комнате, где сама собой открылась и тут же захлопнулась дверь – это меня осенило, что где-то есть Нечто, и я ему нужен, иначе меня бы и не было; я чувствовал, что принадлежу этому Нечто, но и это Нечто принадлежит мне; это Нечто в такой же степени является частью меня, в какой и я являюсь частью его. В детстве это чувство не раз посещало меня, но никогда не удавалось выразить его словами.
Много лет спустя сын одного португальского еврея объяснил мне, что все это значило. [4]4
По-видимому, речь идет о философской концепции Б.Спинозы (1632–1677), в которой постулируется единство материальной и духовной субстанций.
[Закрыть]Но сам я тогда мог сказать лишь одно: впервые я осознал, что живу, что я – это я.
Но недолго сиял свет в моей темной душе, и опять я ощутил себя маленьким мальчиком, который сидит у камина в няниной комнате, терзается неразрешенными проблемами и мучает деревенскую женщину вопросами о смысле жизни.
Тут мне приходит в голову новая идея, точнее, я вспомнил свои старые размышления на эту тему.
– Няня, почему у нас нет мужа?
Миссис Ферси отложила шитье и пристально посмотрела на меня.
– В голове у тебя одна чушь, – таково было ее заключение. – У кого это нет мужа?
– Как у кого? У матушки.
– Не болтайте глупостей, мастер Пол; вам великолепно известно, что у вашей мамаши муж есть.
– Нет, нету.
– И не спорь. Муж твоей мамаши – твой папенька, сейчас он живет в Лондоне.
– А зачем он нам?
Миссис Ферси не на шутку вспылила.
– Гадкий мальчишка! В Писании сказано: чти отца своего, а ты? Побойся Бога! Отец работает не покладая рук, зарабатывает деньги, чтобы сынок его мог здесь прохлаждаться, а тот: «Зачем он нам?». Вот уж неблагодарное отродье! Постыдился бы!
А вот и не отродье, а вот и благодарное! Ничего такого я говорить не хотел, просто передал разговор матушки с теткой, который подслушал на днях.
Тетка сказала: «Ага, явилась, голубушка! Опять хандрит? Вот уж мастерица по этой части!» Тетка имела полное право читать проповеди на эту тему. Сама она была вечно всем недовольна, но брюзжала как-то задорно.
Матушка стояла у окна, заложив руки за спину, – ее любимая поза – и смотрела в сад. Кажется, была весна – я припоминаю белые и желтые крокусы в зеленой траве.
– Хочу мужа, – сказала матушка капризным детским голоском, и я тут же вспомнил сказку, которую мы с ней недавно читали; мне показалось, что матушка вот-вот превратится в маленькую девочку. – И как можно жить без мужа?!
– Упаси нас Господь! – ответила тетка. – Да сколько же этой дамочке надо мужей? Один, кажется, уже есть.
– А что от него проку, если он за тридевять земель?! – надула губки матушка. – Мне он нужен здесь, чтобы я могла быть с ним!
Мне часто рассказывали об этом самом отце: он живет в Лондоне, и ему мы обязаны всеми благами жизни; но попытки представить его во плоти ни к чему не приводили, и в моем детском сознании он существовал в виде некоего духа. Я был согласен с матушкой, что, как бы многим мы ни были ему обязаны, такой отец не может заменить настоящего, живого отца, какие бывают у более счастливых детей – этакий здоровый, сильный, отважный; такой может и по саду тебя прокатить на закорках, и кораблики с тобой пускать.
– Ты не поняла, няня, – объяснил я. – Я говорю о таком муже, которого можно потрогать.
– «Потрогать!» Ладно, не ной, скоро потрогаешь, не долго осталось ждать, – ответила миссис Ферси. – Как только твой отец все подготовит, он даст знать, и вы отправитесь к нему в Лондон.
Я чувствовал, что миссис Ферси так ничего и не поняла. Но я предвидел, что дальнейшие мои объяснения до добра не доведут, – миссис Ферси еще более распалится, и потому решил ограничиться незатейливым, вполне конкретным вопросом;
– А как попасть в Лондон? Сначала надо умереть?
– Вот наказание Господне! – сказала миссис Ферси тоном, в котором звучало не столько удивление, сколько отчаяние. – Таких глупых людей я в жизни своей не встречала. Сил моих больше нет!
– Прости меня, няня, – ответил я. – Я думал…
– А ты поменьше думай, – посоветовала мне миссис Ферси. – Лондон, – продолжала добрая женщина, зная по опыту, что я не оставлю ее в покое, пока не уясню все как следует, – это большой город, туда надо добираться на поезде или на подводе. В один прекрасный день – теперь уж недолго осталось ждать – мамаша получит от папеньки письмо, что все, дескать, готова Тогда вы с мамашей и теткой уедете от нас и будете жить в Лондоне; тогда-то ты наконец оставишь меня в покое.
– И мы уже больше сюда не вернемся?
– Ни за что на свете.
– И я больше не буду играть в саду и не побегу по дорожке, когда меня позовут к чаю, и не увижу старую башню?
– Ни за что на свете. – По-моему, миссис Ферси произносила эту фразу с явным удовольствием. Голос ее звучал торжественно, как на молитве.
– И больше я не увижу ни Анну, ни Тома Пинфольда, ни ослика, ни нашу собаку, ни тебя? Никогда-никогда? – В тот момент мир вокруг рушился, и почва уходила из-под ног, и я готов был ухватиться за любую соломинку, пусть даже такую пересохшую, как миссис Ферси.
– Ни за что на свете Вы уедете, у тебя начнется новая жизнь. И я надеюсь, мастер Пол, – добавила она, сделав набожное лицо, – что заживете вы богато. И ты наконец научишься себя вести…
Но добрые напутствия миссис Ферси – она желала мне еще чего-то хорошего – не достигли моих ушей. Я стоял, ошеломленный новой загадкой. Ну и жизнь у меня – ничегошеньки в ней нельзя понять! Человек уезжает, покидает места, прекрасней которых в мире нет, и никогда больше сюда не вернется. Человек бросает свои любимые занятия, свои игры и уезжает в чужедальнюю страну, чтобы начать там новую жизнь. Человек расстается с друзьями, которых знал всю свою жизнь, и больше никогда их не увидит. Все-таки странная это штука, жизнь, и если хочешь ее понять, то сиди смирно и смотри на огонь, думай да слушай, что там болтает няня.
Вечером, когда матушка пришла пожелать мне доброй ночи, я отвернулся к стенке и, решив обидеться, притворился спящим – у детей, как и у взрослых, бывают свои капризы; но когда матушка нагнулась, чтобы поцеловать меня, и я ощутил на щеке ласковое прикосновение ее волос, моя обида куда-то улетучилась, и, обвив ручонками ее шею, я крепко прижался к ней и задал вопрос, который весь вечер не давал мне покоя:
– Ты ведь не отдашь меня обратно? Ведь я у тебя живу уже долго?
– Отдать тебя обратно?
– Да, но ведь я уже большой, и аисту меня не унести.
Матушка опустилась на колени подле моей кроватки; теперь дица наши были рядом, и стоило мне заглянуть в ее глаза, как от страха, неотступно преследовавшего меня, не осталось и следа.
– Глупенький! Ну кто тебе сказал такую глупость? – спросила матушка, гладя мои ручонки; я обнял ее еще крепче.
– Мы с няней говорили об очень серьезных вещах, – ответил я, – и она сказала, что ты могла бы без меня обойтись. – Теперь мне почему-то не хотелось передавать ей весь наш разговор; теперь мне было ясно, что миссис Ферси просто пошутила.
Матушка обняла меня еще крепче.
– И ты ей поверил?
– Понимаешь, я появился на свет в самый неподходящий момент; у тебя тогда и своих забот хватало.
Матушка улыбнулась, но тут же нахмурилась.
– А я и не знала, что ты задумываешься о таких вещах, – сказала она. – Надо бы нам, Пол, почаще бывать вместе. Сядем рядком, и ты расскажешь все, что у тебя на душе; няне-то, боюсь, тебя не понять. Да, верно, забот у нас тогда хватало, в дом постучалась беда.
Но что бы я делала без тебя – не знаю. Мне было очень плохо, и, чтобы меня утешить, Господь послал тебя. Если бы не ты, того горя я не пережила бы. Такое объяснение меня вполне устраивало.
– Так, значит, тебе повезло, что меня принесли? – спросил я. И опять матушка засмеялась, и опять тут же посуровело ее детское личико.
– Постарайся запомнить все, что я тебе сейчас скажу, и она стала такой серьезной, что я тотчас проникся торжественностью момента и принял сидячее положение.
– Обязательно запомню, – ответил я. – Хотя память у меня никудышная.
– Ну, это тебе наврали, – улыбнулась матушка. – Нужно лишь понять, что тебе хотят сказать, тогда уж ни за что не забудешь. Самое главное, чтобы у тебя все получалось, – и сейчас, и когда вырастешь. Тогда я буду самой счастливой матерью на свете. Если же ты ничего в жизни не добьешься, то мне будет больно. Ты станешь взрослым, я умру, но и тогда не забывай мои слова. Хорошо, Пол?
Разговор был весьма серьезным, и я дал обещание стараться; и хотя сейчас, вспоминая те два серьезных детских личика, я улыбаюсь, понимая, что особенно хвастать мне нечем, но все же замечу, что не пообещай я тогда матушке стараться, то не имел бы и того малого, чего удалось добиться.
Тот день оказался критическим – что-то случилось с моей памятью: лицо матери вырисовывается все более отчетливо, а образ миссис Ферси постепенно уходит под воду, будто размытая волнами песчаная коса. Помню, как по утрам светило солнце в запущенном саду; вокруг нас кружатся осенние листья, а мы занимаемся – матушка читает мне книжку. Помню, как в вечерние сумерки мы сиживали у окна, спрятавшись за темно-красными шторами, чтобы нам никто не мешал; мы ведем разговор – почему-то шепотом – о добрых людях, о благородных дамах, о людоедах, колдуньях, святых, нечистой силе. Прекрасные то были дни.
Скорее всего, программа моего образования методически была не продумана – сведения, получаемые мною, были уж слишком обширны и разнообразны; переварить их в том возрасте я не мог. В результате все даты и эпохи перепутались, а исторические факты и вымысел слились воедино – в исторической науке такое допускается, но и там есть свои пределы. Мне не составляло особого труда представить себе, как Афродита, родившись из пены морской, берет лук на изготовку и устремляется на короля Канута, [5]5
Король Канут (Кнуд) II Великий (995-1035) – датский канунг, ставший в 1018 г. королем Англии. Его коронация ознаменовала окончание почти двухвековой вражды англосаксов и датчан.
[Закрыть]который, восседая на троне, водруженном прямо на 6epeiy, повелевает ей не приближаться, если она не хочет промочить ноги. На лесной полянке мне мерещится король Руф; вот он падает, сраженный отравленной стрелой, выпущенной Робином Гудом; но на помощь ему спешит нежная королева Элеонора, она высасывает яд из раны и спасает королю жизнь. Оливер Кромвель убивает короля Карла и женится на его вдове; но не долго ему ликовать – отважный Гамлет закалывает злодея. Одиссей на «Арго» открывает Америку – это мне запомнилось лучше всего. Ромул и Рем убивают волка и спасают Красную Шапочку, Доблестный король Артур, у которого подгорели пироги, попадает за это в Тауэр, где его убивает собственный дядя. Прометей, прикованный к скале, был освобожден Святым Георгием. Парис вручил яблоко Вильгельму Теллю. Ну и что такого? Материал я усвоил. Разложить его по полочкам – дело нехитрое.
Иногда после обеда мы отправлялись в горы. Мы карабкаемся по крутой извилистой тропке, бегущей через лес по краю бездонной пропасти; мы слышим, как за нами гонится Лесной царь; мы проходим по густым лугам, где по ночам кружатся в хороводе феи; нам то и дело попадаются заросшие колючим кустарником пещеры, в которых обитают жуткие чудовища. И вот, наконец, мы видим вздымающееся под небо море и попадаем на открытую поляну, где высятся развалины башни старого Джекоба. Местные чаще называли ее «Гнездо Джекоба», а некоторые – «Чертовой башней»; была такая легенда, будто бы старый Джекоб, продавший душу дьяволу, частенько встречался здесь со своим хозяином, и они в штормовую погоду зажигали на башне огни, чтобы сбить с толку моряков. Кто такой этот «старый Джекоб», как он построил эту башню, да и зачем – я так и не знаю. Могу сказать лишь одно – поминали его недобрым словом, а рыбаки готовы были побожиться, что по ночам в шторм в заросших плющом амбразурах башни мерцают загадочные огоньки.








