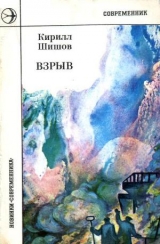
Текст книги "Взрыв"
Автор книги: Кирилл Шишов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 11 страниц)
Ровно гудит за стеною мартен, смотрят, прикрыв лицо рукавицами, в круглые летки заслонок багровые сталевары, лязгают ребордами о рельсы мостовые груженые краны. И стоит за полированным столом сутуловатый Рассохин, в сотый раз ощупывая голубоватый срез стальной порыжелой заклепки…
А Елужков – небритый с ночной смены, Лазарь Елужков – грустно усмехается в морщины, сизые от въевшегося машинного масла. Он-то знает, отчего посыпались семечками заклепки на ездовой балке, отчего заклинило подъемную лебедку на втором кране и, если покопаться, то и подмяло еще кое-что… Знает тертый Кузьмич, что не похмелье машиниста Жорика Пестрякова тут виной, ни ночная смена или сверхкрепкая обмуровка свода, а такое, чему и имени-то не подберешь.
Но молчит Елужков, пыхтя и отдуваясь от духоты, вспоминает, как нынче ночью на дежурстве прибежал к нему в каптерку перепуганный Жорик с трясущимися руками: «Кран свалился! Кузьмич, теперь мне хана…» И точно – накренилась стальная махина поперек пролета, слетела с рельсов двумя колесами – как вниз не рухнула, на головы… Ни взад – ни вперед… Полночи возился Кузьмич, не велел помпотеха вызывать: враз Пестрякова канаву чистить сошлет, на три года прав лишит. Измучает парнишку морской корсар, озлобит. Хотя и у Кузьмича крепких выражений достало вдоволь: устроили, вишь, машинисты потеху – хоботом машины мусор сгребать. У кого хуже – тому всю смену за газировкой бегать. За полчаса так всю рабочую площадку выскребли – словно ручным совком. И все бы сошло, да перестарался Пестряков. Вылизал свою зону и на полном ходу в колонну врезался. «Как сам не погиб, дурья башка, патлатый черт», – думает про себя Елужков, и доволен, что обманул-таки морского академика. Разве ему придет в голову, что стотонный кран за три часа на рельсы не поставить без лебедок и талей?.. Разве их такому в академиях обучали? «Его обучали по инструкциям, по параграфам, а мы вот без параграфов умом кумекаем, с людьми не лаемся, кровь не портим», – думает Елужков, поглядывая, как нервно крутит в пальцах начальник цеха злополучную с искривленным конусом заклепку…
И кажется Кузьмичу, что рыбачит он с дурным Пестряковым с одной лодки. Ласково греет ему в спину солнышко, а Пестряков раскачивает лодку, закидывая крючок, а Кузьмич ворчит, но вполголоса, потому что клюют у него на донку отчаянно. Ходит по дну упрямый хитрый лещ – серебряная доска, – сосет приманку – крыльчатого мураша, а не заглатывает. И досадно Кузьмичу и приятно, что сидит он в пахнущей ряской и сыростью лодке, что парит на утренней зорьке стеклянное гулкое озеро и что нескладный Пестряков неуклюже закидывает крючок на длинном удилище…
«Дурень, голову наклоняй, зацепишь!» – ворчит Елужков и тихо подсекает хитрого жирного леща.
Взрыв
Инженер Юрий Соснихин был направлен на расследование причин взрыва воздухонагревателя металлургического завода на Урале. Будучи уже не совсем молодым человеком, он понимал, что это не просто командировка для экспертизы, а сложный ход директора его института, где проектировался воздухонагреватель. И миссия, в которой он должен был отвести тучи, сгущавшиеся над институтом, представлялась ему достаточно сложной, но выполнимой.
Он летел до Челябинска самолетом, а потом, перекусив на аэровокзале в буфете, взял такси и, не дожидаясь электрички, поехал за две сотни километров на завод, расположенный в горах, куда самолеты не садились. Попутчиками оказались двое командированных, от которых пахло коньяком и которые непрерывно острили над чахлой уральской весной, сиротливыми березками и порядками в Аэрофлоте. Соснихин сидел впереди, вобрав голову в плечи, стараясь сосредоточиться на предстоящем деле…
– У вас что, в марте всегда такая неразбериха? Сошли с самолета: весна, все тает, а не успели и по рюмочке пропустить – буран, пурга, черт ногу сломит!..
– Урал, одно слово, – мотал головой шофер, не переключая скорости, отчего машину с визгом заносило на поворотах, – с гнилого угла дунет – январь, с теплого пахнет – загорать можно… Урал – он всем ветрам открыт.
Шофер закурил, и у Соснихина сразу заболела голова. Он был налегке, в демисезонном пальто, и чувствовал, как простуда ввинчивается в него ознобом.
Машина летела стремительно, благо на шоссе почти не задерживалась поземка; степь шла по обе стороны, голая, с редкими колками, и дряблые тучи спускались над ней все ниже и ниже…
– Ты включи свет, не дай бог, налетим на кого-нибудь, – сказал Соснихин и поднял воротник пальто, стараясь дышать через сукно, чтобы спастись от дыма. Он думал о том, что последние годы взрывы доменных воздухонагревателей стали довольно частыми и, при всех их случайностях и сопутствующих обстоятельствах, в них прослеживалась какая-то непонятная закономерность. Перед отлетом он ночь напролет сидел над чертежами и расчетами, проверяя каждый сварной шов обшивки, и не мог, не мог найти ни одного сомнительного по прочности узла… Но аварии происходили: в январе – на Украине, в декабре – в Караганде, теперь на Урале… Где скрыта причина? Ведь качество работ актировалось представителями института. Дубликаты актов проверки швов ультразвуком приложены к паспортам объектов…
Он вспомнил, как удалось ему найти мелкие неточности в производстве ремонта на украинском объекте, как удачно подвернулся некачественный металл там, в Сибири, – это позволило отвести сомнения в некомпетентности института во всех аварийных комиссиях. Но он был недоволен своими поступками – обоснованность их была весьма сомнительна… Было что-то такое в проекте, что не удавалось открыть ни ему самому, ни членам комиссии…
– Вон уже горы показались, – сказал шофер и включил радио. Опереточная музыка полилась в салон, и стало казаться, что столица – многоголосая, пестрая – где-то совсем рядом, за поворотом.
– Едешь за тысячу верст, а приезжаешь – одни и те же коробки, – один из соседей сзади зевнул, а другой, клюя носом, бубнил про себя бессвязно:
– Настроили, город от города не отличишь…
– Зато без бараков – теперь всем комфорт подавай. На прошлой неделе у нас последнюю развалюху прикончили – с войны простояла. И как люди жили, не представляю. – Шофер охотно поддерживал любую тему. Видно, ему нравилось ехать в дальний конец: попутчики назад нашлись бы, а прогон стопроцентный. Не то что по городу – гоняться за клиентами…
– И большие у вас холода стояли на прошлой неделе? – вдруг спросил Соснихин, продолжая внутреннюю нить поиска…
– Ночью не знаю, утром градусов до двадцати доходило. Машину по полчаса греешь, пока запустишь мотор. У нас ведь безгаражное содержание. Тачек понагнали, а крыши нет. Резину через неделю меняешь – трескается от мороза…
– Если утром двадцать, то часов в пять до тридцати дожимает, это точно, – сосед сзади никак не засыпал и комментировал на подхвате.
Горы окружали дорогу со всех сторон. Ели, могучие, ракетообразные, стояли амфитеатром, осыпанные белой пургой, и было не по себе от безмолвия и серьезной естественной их простоты. Окажись один в ночи среди этого леса – многое откроешь в себе, многое передумаешь, не суетясь, не спеша. Камни и ели – они приходят из вечности, из того, что было до тебя и останется после…
Соснихину стало грустно от этой философии, и он обернулся к соседям:
– Вы на завод по каким делам?
– На расследование свершившегося факта. Искать стрелочника, черт подери эту железную бомбу!..
Утром комиссия собралась в полном составе. Директор завода и смотритель сооружений прибыли засветло и виновато оправдывались, что половину конструкций монтажники уже разобрали…
«Следы заметают», – подумал Соснихин. Попутчики, выбритые, с синими кругами у глаз, деловито обмеряли площадку, где лежала, накренившись, башня воздухонагревателя, каупера по-иностранному. Много еще объектов в металлургии звучало по-английски, хотя и забыли давно, откуда пришли названия. Приспособляли их к языку сами рабочие постепенно, деловито. И это нравилось Соснихину. Сначала – «эта дура», «штуковина», а потом по сути – скип – подъемник… «Приспособим, все приспособим», – думал он, обходя стесненную площадку возле домны, где никогда не было снега, лежала лишь пыль и скрипела под подошвами. Непривычному глазу могло показаться беспорядочным нагромождением это сплетение железных кружев, грушевидных сосудов, скрежещущих вагонеток… Но для него оно было родной стихией, красотой продуманных, тяжелонагруженных конструкций, мощью человеческого разума…
Из разорванного брюха воздухонагревателя транспортерами вытаскивали футеровку – горы черного кирпича – и грузили на платформы. Стальная обшивка была еще теплой и оттого мокрой, с коричневыми подтеками ржавчины. Он положил ладонь на немое тело металла и словно спрашивал его: как же это ты подкачал, дружище?
– Ну что, Юрий Алексеевич, пойдем в лабораторию пробы металла смотреть? – это кричал попутчик, оказавшийся представителем министерства и, как выяснилось, весьма расторопным малым. И гостиницу, и связь с заводом, и черную «Волгу» организовал именно он, хотя его об этом никто не просил.
– Вы езжайте, а негативы принесите на заседание, Петр Николаевич! – стараясь перекричать свист компрессоров, ответил Соснихин и, вытащив из кармана лупу, снова углубился в осмотр обшивки.
Далеко было то время, когда он тщеславно гордился дипломом инженера в кармане и эмалевым значком с молоточками. Постепенно развеялась примитивная уверенность в непогрешимости логарифмической линейки и лабораторного анализа. Многообразие, неповторимая жизнь каждой конструкции становилась для него похожей на жизнь человека – всегда особенную, со своими ударами судьбы, своими болезнями. Он часто ловил себя на мысли, что для стального изделия нужен не инженер, а врач. Стало модным говорить о стрессах, а разве металл не подвержен стрессам?.. Надо искать, что вызвало этот нервный шок!..
– Чепуха какая-то, – пробормотал он и, уже не церемонясь, полез по наклонному кожуху к месту взрыва. Было видно, что от давления лопнул сначала один лист, каупер накренился, и обшивка потеряла устойчивость. Затем сооружение рухнуло на будку управления, где и засыпало двоих… Он старался не думать о жертвах, хотя металл был невольным их убийцей. Но, в конце концов, его создавал человек! И человек должен понять: в чем его ошибка… Он отвечает за это перед погибшими в первую очередь… И только после – перед министерством, институтом, комиссией…
«Комиссар Мегрэ ищет преступника», – зло подумал он и замер, не доползая на полметра до покоробленного листа. Это не был шов, предусмотренный проектом. Чья-то неумелая рука наварила его грубо и аляповато, не заботясь о концентрации усилий и не зашлифовав поверхность. Шов, лопнувший посередине, видимо, держал какой-то другой, усиливающий лист, накладку, понадобившуюся черт знает кому и пропущенную при приемных испытаниях…
«Стоп, стоп, но испытание шло на повышенном давлении, а при взрыве было не более двух атмосфер внутри…»
Он выпрямился и, балансируя, рискуя свалиться в десятиметровую глубь каупера, пошел по краю отверстия. Следы шва то пропадали, то отчетливо появлялись по его краю.
– Слезай, твою мать! В жмурика сыграть хочешь! – бешено орал снизу бригадир монтажников и грозил кулаком. В каске и с монтажной цепью, он походил на викинга, широкоплечий, бронзоволицый, с охрипшим от команд голосом.
– Сейчас! – крикнул Соснихин и почувствовал, как бьется сердце. Сейчас на совещании все организации начнут дружно выгораживать себя, сваливать вину с воза на дядю, на стрелочника, на проектировщиков, а у него в руках опять будет великолепный козырь – этот дурацкий шов. Какой идиот наварил его, создав идеальные условия для хрупкого разрушения? Минус тридцать – в пять утра, поперечное растяжение от перепада температур – и крах! Готово! Авария случилась на рассвете.
Он вытащил из-за пазухи фотоаппарат и, лихорадочно нажимая спуск, открыл диафрагму. Одна тридцатая, одна пятидесятая, одна сотая… Снимки будут, как в ателье!
– Тебе что, жить надоело! – напал на него бригадир, когда Соснихин, перемазанный ржавчиной, со сбившейся на лоб пластмассовой каскеткой, сошел вниз. – Наряд-допуск есть, а лазаешь, куда не положено. Ясно написано: наружный осмотр – и смотри себе в бинокль с земли.
– Снизу не увидишь, – Соснихин тяжело дышал, словно протащил на спине альпинистский рюкзак, как в молодости.
– Да я к высоте привычный, не поскользнусь, видите, какие у меня вездеходы… – и он показал бригадиру тяжелые ботинки с рифами.
– Все мы альпинисты, – проворчал бригадир и хотел было двинуться, но Соснихин остановил его:
– Не знаю, как вас звать…
– Егором, по батюшке Сергеев.
– Егор Сергеевич, а что, футеровку вы часто на них меняете? – он кивнул в сторону двух оставшихся кауперов, работавших на горячем дутье.
– В год раза по три. Смотря как выгорает. Людей не хватает, вот и дотягиваем, пока изнутри не засветится…
– То есть как?
– А так: металл накалится докрасна – значит, кончай дутье. Кирпича на полметра осталось. Круглые сутки работаем: на три домны девять колоколен. Успевай поворачиваться…
– Значит, за пять лет его раз по тридцать охлаждать и нагревать приходится?
– Бывает и больше. В последние годы дрянной кирпич пошел. То ли поставщика сменили, то ли рацею какую-то огнеупорщики предложили, а только выгорает он дочиста. А набойки так, одна видимость.
– Но ведь без хорошей набойки усилие все передается на кожух! – вырвалось у Соснихина.
– Это уж вам, инженерам, виднее… Куда грузишь, ослеп? Это годный кирпич еще! – бригадир, махнув рукой, ринулся в сторону платформы, оставив Соснихина одного.
Задумчиво стоял он возле стального гиганта, похожего на рухнувшую ракету, и неясная гипотеза рождалась в воображении.
Циклическое воздействие волн холода и жара, из минус тридцать в плюс пятьсот – и так десятки раз. Накапливание незаметных трещин, расшатывающих металл. Не так ли вода, застывшая в складках гранита, разламывает весной многопудовые глыбы? Почему мы рассчитываем кожух, будто на него действуют постоянные неизменные, хоть и большие усилия? А эти перепады, эта смена яростных температур – не тут ли принципиальная ошибка всех математических выкладок…
Он присел на корточки и стал набрасывать свои мысли в виде лаконичных диаграмм в блокноте. Кривая усталости металла в малоцикловой зоне дает трещину после десятков циклов. Так мы переламываем сталистую проволоку в три-четыре приема! Но проволока – не кожух! Нужны специальные испытания… Да, да, по схеме Баушигера нужно создать моделирующую установку!..
Черная «Волга» остановилась возле него, скрипнув тормозами.
– Юрий Алексеевич! Совещание кончается. Идите хоть протокол подписывать, – из машины высунулось хлопотливое лицо представителя министерства. Он был доволен и лоснился, видимо, успел не только подписать документы…
– Как, уже все выяснили? Но я даже не успел доложить о своих выводах.
– Все абсолютно ясно. Из будки аппаратчики вытащили диаграммы записей режима. Они давление в два раза завысили – вот он и лопнул, как мыльный пузырь. Копии записей прилагаем к протоколу. Элементарная безграмотность персонала!..
Соснихин стоял и растерянно мял в пальцах раскрытый блокнот. Потное, усталое лицо было похоже на маску с трагическими бороздками у рта. Еще одна случайность! Еще один подписанный протокол!
Он медленно пошел к машине, вытирая руки об обложку блокнота, и вдруг решительно остановился. Нет! Это не может продолжаться бесконечно. Ошибка лежит в самом проекте, в самой концепции расчета. Никаких подписей под фальшивыми выводами!
– Куда же вы, Юрий Алексеевич! – машина догоняла его сзади, шурша протекторами. – Вы не согласны? Напишите особое мнение…
«Да, – думал Соснихин. – Я напишу особое мнение и буду доказывать с пеной у рта, что это не случайность. Но кто мне поверит, если я не главный конструктор и об усталости знаю слишком мало? Кто мне поверит, если подписаны десятки аналогичных протоколов? После таких заявлений придется уходить из института».
– Вы что, не слышите? У вас есть ручка с красными чернилами? – Он очнулся и увидел, что стоит в кабинете директора завода, прокуренном десятком разговаривающих знакомыми голосами коллег. На столе веером лежали отпечатанные листы протокола, и кто-то в углу уже рассказывал бывальщину.
Во рту пересохло. Болело горло. Судя по всему, начиналась ангина…
Пятый портрет
Бегичев не любил, когда ему давали обязательные заказы. Пол-лета он провел, скитаясь по башкирским, заросшим нехожеными лесами горам и с наслаждением писал пейзажи. Он давно любил этот дремучий еловый край. Ему хотелось передать могучую скрытую силу кряжистых гор, укромных лесных полянок, с одинокими стогами и внезапными горизонтами. Он любил писать глухие горные дороги с разбитыми глинистыми колеями и темно-зеленым лапником. А чаще всего он писал скалы – красноватые, надтреснутые, с щербатинами и впадинами, в которые яростно вонзались сосновые корни, повиснув над самой пропастью. Эта невидимая постоянная борьба растений и камней, следы которой он резкими мазками переносил на холст, представлялась ему примером всей человеческой жизни; и он без устали работал, делая иногда в день десятки километров в поисках разломов; он приходил к себе в шалаш измученный, со сбитыми коленями и исцарапанными локтями, потный и голодный, а виденья сиреневатых гор и скуластых камней преследовали его по ночам…
Но позавчера, когда лесник Байрамгулов привез, как обычно, хлеба и пшена из деревни, он вручил ему и телеграмму от Худфонда, из которой явствовало, что правление вызывает его для срочной работы. Бегичев мог бы сделать вид, что телеграмма не дошла – шутка ли: пятьсот километров глухомани и непролазных дорог, а телеграф в Сухомесово работает два часа в сутки. Да и этюды были не закончены – почти ни один… Но он знал, что коллеги уже давно косятся на его нелюбовь к обязательным заказам и за глаза называют его «варягом»… а под осень, как ни крутись, отчетная годовая выставка «Союз к очередной дате»… Бегичев морщился, перебирал свой нехитрый скарб и наконец решил ехать немедленно, оставив на добродушного Байрамгулова все: полотна, палатку, утварь, даже три нераспечатанных бутылки «Старки», которыми он так и не воспользовался: лето стояло жаркое и сухое. «Через недельку вернусь», – думал он, взбираясь на спину мохнатого низкорослого конька, которого лесник привел на поводу…
Оказалось, нужны были портреты передовых металлургов. В Союзе ему дали путевку на один из многочисленных заводов области, командировочные и рекомендательное письмо к директору, снабженное громадной лиловой печатью, всегда вызывавшей у Бегичева непроизвольную улыбку: в середине овала выгравирована заводская труба и скрещенные кисти. «Труба художникам», – называл ее Бегичев и никогда не пользовался этой верительной грамотой, от предъявления которой цепенели производственники и начинали потом закатывать банкеты и льстить ему заурядными поделками. Сам Бегичев знал, что никакой он не портретист и воображение его скудеет от долгой разлуки с лесом, но работа была всегда обязательной и срочной, а рука – достаточно послушной, чтобы получалось, как говорится, похоже… Долго после таких «взлетов» он приходил в себя, делая натюрморты или акварели, и было в этом что-то двусмысленное, словно он изменял себе…
Завод, на который его послали, был небольшим. То есть, по сравнению с теми динозаврами, изрыгающими тонны дыма и копоти, где он успел побывать ранее, это были почти демидовские мастерские: пара длинных сараев, где гудели прокатные станы и завывали циркульные пилы, и мартеновский цех, построенный в годы войны. Бегичев ехал с неохотой, и глаз его непроизвольно замечал, как беспорядочно загромождена территория заводика: рыжая куча металлолома на скрапном дворе соседствовала с аляповатым зданием директорской конторы, возле которой натужно разворачивались грузовики, почти наезжая скатами на чахлые клумбы. Фанерные щиты гигантских плакатов с цифрами прикрывали закопченные стены мастерских, откуда доносились тяжкие вздохи молотов. И в самом заводоуправлении была та же несуразица: полированная директорская дверь соседствовала с кургузым бачком с кипяченой водой и алюминиевой кружкой. Секретарша сидела за электрической машинкой, на которой она печатала одним пальцем… В другое время, может, это и смягчило бы его раздражение, но сейчас Бегичев сердился и курил в приемной, кидая окурки в угол, где стояла щегольская урна.
– Директор приглашает вас, – наконец услышал он, когда из двери вышла группа нервно разговаривающих, жестикулирующих инженеров с усталыми лицами.
Секретарша, нажимая кнопки переговорных устройств, пыталась найти на столе его командировочную, но он не дождался и пошел в кабинет. Пока директор рассказывал ему о той большой роли, которую играет завод в отечественной и мировой практике, он молча разглядывал кабинет и его хозяина, пытаясь теперь уже более конкретно представить: что же ему придется фантазировать для заказчика на этот раз?
За много лет работы Бегичев понял, что обычно люди не понимают, чем отличается художник от фотографа. Впрочем, если ему заказывали тематическую картину или панно, то столоначальники охотно принимали любую символику или дерзкие приемы компоновки. Он мог сочетать что угодно: гигантское ухо с радиобашней или вмонтировать в человеческий зрачок голубя с растопыренными крыльями. Но портреты – портреты вызывали одну реакцию: похоже – не похоже. И оттого он не любил эти заказы, а потому рассеянно рассматривал в кабинете директора грамоты со знаменами и бронзовые статуэтки, пытаясь вобрать в толк: кого и зачем ему предстоит изобразить…
– Значит, портреты девяносто на метр двадцать по грудь?
– Да, желательно покрупнее лица, потому что зал у нас солидный, чтобы издалека разглядеть можно было…
– В масле, в гуаши?
– У нас и в договоре обусловлено: в масле, рамки мы сами сделаем – какие скажете…
Разговор был обычный, пять портретов отнимут дней двадцать… «Еще успею на Отклик-ной гребень» – думал Бегичев и рассеянно вглядывался в лицо директора. То, что наряду с передовыми он включил и себя в список изображенных, не удивляло его. Крупноскуластый, с утомленными глазами и обтянутыми пересохшей кожей щеками, с резкими надбровными дугами, он был, пожалуй, довольно интересен для кисти. По пальцам – костистым и напряженным – видно, что поработал руками немало, а ранние залысины, наверное, след вечернего образования и курсовых проектов под развешенными пеленками.
– Я в принципе согласен со сроками. К юбилею завода, вероятно, успею сделать первую серию портретов, только…
– Да, да, я слушаю, – директор успевал отвечать на телефонные звонки и селектор с привычной лаконичностью, не теряя нить разговора. Бегичеву же был нуден этот скачкообразный, приевшийся разговор, каковым обычно удостаивались посетители кабинетов с полированными дверями, и он быстрее хотел перейти к делу.
– Я прошу только в список пяти первым включить одного из ваших рабочих по моему выбору…
Директор замер с телефонной трубкой у уха, кося на него недоумевающим глазом.
– Но список утвержден руководством завода, да и потом во Дворце культуры, перед такой аудиторией…
– Но я художник, понимаете. Должен же быть и у меня какой-то интерес рисовать ваших… сотрудников, – он хотел сказать «подчиненных», но вовремя остановился.
Ирония слишком часто губила его взаимоотношения с людьми, да и глупо…
– Такого в договоре не предусмотрено… – директор был растерян, и Бегичеву показалось, что он увидел то, что тот не хотел бы показывать явно: робость неуверенного в своем месте человека, бледнеющего от телефонных звонков сверху, от невыполненных планов или аварий на этом маленьком, известном на весь мир заводике. – Этот вопрос нужно согласовать, да и смотря кого вы выберете?..
Бегичеву стало жаль этого человека. Он представил себе его дома, в халате или пижаме возле телевизора, отрешенного от ежедневных забот и нагоняев, и он решил уступить.
– Хорошо, этот пятый портрет я не включу в счет, если он вам не подойдет…
Впрочем, он и сам не знал – зачем ему надо спорить и ершиться ради неизвестного ему трудяги, но даже в самом неприятном деле он принял за правило оставлять хоть малую толику для души, для поиска и вот спорил, по-мальчишески, не солидно. Директор вздохнул, повертел в пальцах его командировку, словно раздумывая – не отправить ли несговорчивого «служителя муз» обратно и наконец подписал.
– У секретаря оформите пропуск в мартеновский и первый прокатный. С меня можете делать работу последней…
* * *
Десять дней Бегичев работал как вол. Он вставал в пять часов и к началу утренней смены уже был в цехе, в нелепой, сползающей на лоб каскетке, выданной на проходной, с большим альбомом для эскизов и карманами, оттопыренными от наборов карандашей и фломастеров. Внутреннее сопротивление, с которым он встретил заказ, постепенно сменялось профессиональным интересом к натуре, к каким-то неясным для него еще пока характерам. Он избегал тех, которые были занесены в список, а просто рисовал типы рабочих, стараясь ухватить суть их движений, неторопливых и размеренных. Оттенков цвета он не замечал: серый облик цехов, монотонный шум, казалось, можно было положить лишь на графитный карандаш, а тени, угловатые глыбистые тени, создаваемые закопченными лампами и вспышками разрезаемой стали, он пытался создать сангиной.
Сидя вверху на переходной площадке возле окна, он всматривался в муравейник цеха и чувствовал, что серые графитные тона удавались ему: напряжение, мощное напряжение сотен рабочих переносилось в альбом то косой штриховкой фигур, где ослепительно алела прокатная полоса на фоне черного стана, то контрастом силуэта человека в защитной маске, зачищающего металл меж фонтанирующих искр. Вечером, идя в толпе рабочих, он вглядывался в лица и упорно искал своего, пятого, в облике которого он бы нашел то, что отражало характер всех, всей тысячной массы…
Но в гостинице Бегичев анализировал этюды и с разочарованием отбрасывал их. К шестому дню он понял, что ни сангина, ни карандаш не оставляют следов того ритма, который он слышал в цехе: неумолчного подземного гула работы, борьбы с неподатливой и коварной сталью, сегодня идущей эффектной малиновой полосой, а завтра безжалостно сваленной в брак неумолимым контролером ОТК. Он лежал на кровати и вспоминал начало своей трудовой биографии, когда мальчишкой в войну работал токарем в депо, а сталь весело дымилась сиреневой стружкой под резцом, а потом теплую болванку крутил плюгавый мастер в железных очках и брезгливо выкидывал в металлолом: «Играешься! А мы оси для фронта точим, понял. Две сотки допуск, детсад!..»
Он понимал, что, как всякая работа, труд металлургов – это жестокая схватка с непослушным материалом. С детства сталь представлялась ему то ножом, врезающимся в робкое податливое тело дерева, то плугом, взрывающим песчаные иссохшие комья его родной владимирской земли, то танком, ударяющим грудью по паучьей свастике жалкой немецкой пушчонки. Но только сейчас он столкнулся с тем, как сама сталь, прежде чем стать пригодной плотью, формует каких-то особых людей, ее изготавливающих. Словно какая-то корка – угрюмая, неподатливая – лежала на их лицах. Неуклюжие робы топорщились, скрывая сильные мышцы. Неторопливые короткие фразы, которыми они обменивались, ничего не говорили ему. Бегичев мучился, меняя технику рисунка, и фигуры получались у него то жестко-скульптурные, словно из застывшей лавы, продавливающие землю под собой, то несуразно-бестелесные, расплывчатые, почти сливающиеся с мраком цеха и оттого таинственно-пугающие. Конечно, он мог бы начать писать портреты, как обычно, в красном уголке любого цеха, и вызванные стали бы добросовестно отсиживать в напряженных позах полчаса, но эта нелепая шальная мысль о пятом портрете – портрете для себя – выбила его из колеи привычного. Он решил хоть раз в жизни написать портрет так, как работал над пейзажами и натюрмортами, отдаваясь весь и до конца, пытаясь выявить невидимое обычному глазу.
Но, работая над пейзажами, он писал страдание умирающего дерева, или одинокую тоску бесплодного жестокого камня, или трепетную силу проросшей на пепелище травы, а здесь – здесь он не мог ухватить состояния этих людей, для которого нашлись бы потом и краски, и цвета, и тени…
* * *
На десятый день он забросил свой альбом под кровать, отбил на почте телеграмму с просьбой найти замену и, зло покуривая, отправился бродить по городишку, которого, по сути, не видел да и не хотел видеть. За заводским поселком из типовых пятиэтажек открылся старый город – деревянный, усадебный, залезающий в гору с лихостью грузинских сакль. Деревьев, естественно, там почти не было: предки об охране природы не думали, но вверху, на макушке соседней выпуклости он приметил жалкий лесок, куда и понесли его непроизвольно ноги. Он шел и думал, что даже этот обветшалый конец города, с почерневшими деревянными крышами, пьяно-разваленными воротами и бродячими псами для него понятнее хаоса и визга железа, в котором он пробыл. Он мог бы, побившись с пару дней, написать и эту старуху на фоне резного наличника, вырастившую какого-нибудь пропойцу-сына и жадюгу-дочь, а ныне не желающую нянчиться с внуками и прикармливающую из блюдечка блудливую кошку. Он мог бы написать и печально читающего на завалинке газету старика, шевелящего губами над передовицей и думающего о том, приедет ли сын на покос или опять мучиться одному в семьдесят лет на жарище. Он понимал этих людей, потому что все русское искусство незаметно вложило в него свой опыт. Но у него не было приемов для изображения людей, ежедневно прокаливаемых горячим дыханием стали и ловящих по вечерам чебачишек в заводском пруду. Он был бессилен перед скуластым парнем, залезающим в трехсотградусную печь для ремонта подины. Он грустно думал, что если круговорот живого – от робкого одуванчика до цветущей яблони – ему подвластен и уловим, то поединок потного, раскаленного печью мужчины с огненной стальной полосой вызывает у него лишь штампованные приемы, не согретые болью души или сочувствием.
Он шел по крутой каменистой тропе, привычно учащая дыхание, и уже различал впереди красные звездочки среди негустых березок, серебристые оградки. Да, это было кладбище – старый и вечно обновляемый погост, ради которого сохранялись от порубки деревья и пели беззаботные пичуги, сияло солнце и гудел внизу напряженным зыком завод. Тишина смирения и безысходности обступила его, и он медленно проходил среди могил, вглядываясь в поблекшие от дождей фотографии, удивляясь весу стальных пирамид, словно вдавленных в желтоватую иссохшую землю. Видно, делали их на том же заводике по типовым размерам из листового проката, что катали скоростные прокатные станы. Напряженные застывшие лица, молодые, пожилые, с той же замкнутостью смотрели на него, не соединяя цепь времен, не повествуя ни о чем, кроме двух цифр, соединенных коротенькой чертой, чертой, за которой вся жизнь – неизвестная, загадочная…








