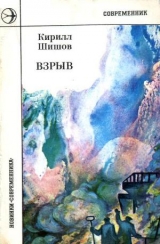
Текст книги "Взрыв"
Автор книги: Кирилл Шишов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 11 страниц)
Каким-то немыслимым пируэтом, весь во власти ритмики и возвышенного настроя, я врывался в конскую сумятицу острошлемных всадников, оскаленных от натуги лиц, стиснутых туго затянутыми у подбородков ремешками. Я слышал кляцанье и стукотню шашек, глухие удары копыт о грунт, падение мешкообразных вялых тел в длиннополых шинелях с просверками погон. И хриплый, простуженный звук трубы за холмами, там, за пыльным маревом, звал меня, тянул неодолимо и властно, и слова моей любви путались, становились несвязными, вскипали на глазах слезы, и сам я дрожал от восторга перед этим знойно-прекрасным прошлым.
Иногда мне казалось, что отец оживает, когда я, ерзая в кресле, запершись в своей комнатке и обложившись пачками пыльных книг, мусолю во рту кончик авторучки, грызу ее колпачок, мучительно уперев взгляд в чистый листок. Он появлялся неслышно, не скрипнув дверью и половицей, сзади незаметно подходил ко мне, и я улавливал лишь запах его смазанных рыбьим жиром сапог и ремня. Рука – легкая и стремительная – ложилась мне на плечо, и я чувствовал, как она вздрагивает от волнения. Ладонь была теплой и совсем невесомой, и я плотно прижимался ухом к ней, ощущая кожей пульсирующие набрякшие вены, выпирающие косточки фаланг, напряженные сухожилия. И перо мое выводило ознобные прыгающие строчки, а голова кружилась от сладкой боли, от счастья и влюбленности…
Весной я решился показать свои опусы на суд Феофану. Обиженный его невниманием к своей персоне, снедаемый честолюбием и жаждой признания, я принес в школу густо исписанный вельветовый альбомчик с тисненой виньеткой на обложке и на перемене подошел к учительской, где Феофан блаженно курил, развалясь в низком мягком кресле и широко расставив колени. Пузатый неизменный портфель его стоял между суконно-резиновыми ботами, а на нем – сизым куржаком густо лежал пепел от папирос… Феофан с недоумением взял мой альбом, пожевал губами, пока я доходил до морковного цвета, хмыкнул и затянулся дымом. Наконец он сказал: «Писучих юношей я люблю. Посмотрим, что ты сочинил, Вахонин… Только, предупреждаю, суд будет беспощаден. Согласен?..» Я молча кивнул, и тогда Феофан, взвесив на широкой ладони тетрадь и еще раз хмыкнув, щелкнул замками, раскрыл полуметровую крокодилью пасть своего портфеля и точным движением вставил мое сокровище между кожаными переплетами толстых старинных книг с застежками.
Феофан долго читал мою рукопись. Почернели и с шипением за неделю растаяли в апреле снега. Солнце – яростное, языческое, ликующее – выжгло огнем досуха сначала железные, потом шиферные крыши, пропылило асфальтовые корки и газоны с пожухлой листвой. Осклизлые замурзанные ледышки с теневых дворов, разбитые ломами дворников, сочились мутной влагой на проезжей части дорог, терзаемые протекторами авто и троллейбусов. Стало свежо, потом сухо, потом душно, и тогда полезла мелкая жесткая трава из-под старых листьев. Напухли почки корявых городских тополей, распушилась обкорнанная за зиму акация; а Феофан все молчал, безжалостно подчеркивая грамматические ошибки в моих классных сочинениях, расставляя красные червяки запятых и пожарные изогнутые вопросительные знаки. Я нервничал на его уроках, рассеянно слушал скороговорку девчонок и бубуканье парней, препарирующих Ленского и Онегина, бессмысленно рисовал на полях учебника фигурки лошадей, а сам думал, думал, думал, несясь на волнах пленительных рифм и глаголов… Показать и даже говорить кому-либо из класса о своих занятиях я и не помышлял, насмешки Феофана напрочь отвратили меня от мысли о легкости версификаторства. Я понимал, что это труд, и с вожделением стремился к нему, и ждал признания в гордом отчуждении от сверстников. Признания сначала от учителя… Был в этом какой-то вызов ему – старому, износившемуся человеку. Вызов молодости…
VIII
То, что случилось потом – волнующее и обманное, – я воспринял, как должное. Мои стихи были напечатаны в газете, и Феофан сам написал крохотное предисловие. Очевидно, до последней минуты он не хотел говорить об этом и, лишь войдя в класс с пачкой пахнувших типографской краской свежих листов, пробасил: «Принимайте продукцию доморощенного гения, коллеги! Только без паники…»
И хотя газета была крохотной и принадлежала какому-то железнодорожному ведомству, так что рядом с моими петитными строчками на весь лист красовались схемы сигнализации и советы путевого обходчика, все были потрясены. Никто из нас, обучавшихся по печатным буквам, в жизни не испытывал подобного: воочию увидеть собственные, писанные корявым почерком фразы, облеченные в строгую ритмичную красоту шрифта. Ребята бесились от восторга, заставляя меня подписывать автографы, а девчонки, онемевшие от изумления, только издали потрясенно приглядывались ко мне – однокласснику и Поэту! Внутри у меня все пело от ликования. Оглушенный, потерявший слух и зрение, я, конечно, не видел, как, скрестив руки и пожевывая губами, Феофан молча сухими бесцветными глазами вглядывался в наш шабаш, как, закрыв спиной дверь, чтобы шум не слишком потряс школу, покачивал головой.
Не слышал я его и потом, когда через неделю или месяц, в следующем классе или уже в выпускном он недовольно морщился, читая мои сочинения (наконец!) вслух, и цедил: «Поверхностно! Скользите, коллега, по льду. Не обольщайтесь…»
Как я мог не обольщаться, если читал свои стихи на районных и областных смотрах и пожилые бабушки со слезами приходили ко мне за кулисы, целовали меня ватными пухлыми губами в лоб, повторяя: «Вы – талант! Так написали! И такой молодой…» Как я мог не парить, если в военном училище после шефского концерта ко мне обращались поседевшие полковники с орденами: «Молодец! Ловко закручено. И сам ты это все сумел?..» Я не говорю уже о школе, в которой чуть не пальцем показывали на меня издалека то семиклашки, то старшеклассники, а то и учителя, торопливо пробегающие по коридору с пачками тетрадей под мышками. Слава – прилипчивая и мгновенная – дурманила шестнадцатилетнюю голову, слепила непривычным светом рамп глаза, оглушала уши аплодисментами. Как всадник, беря на лошади барьеры стипльчеза, я рвал собственные удила, фыркал пеной и напрягал мышцы для новых прыжков. Я писал на уроках поэмы, я ходил в городские литобъединения, я гастролировал по школам с чтением собственных произведений…
И не понимал, что те несколько удачных искренних строк, что заметил у меня Феофан, были посвящены тому, кто был со мной незримо всю жизнь – отцу… Это его ладонь согрела тогда мое плечо. Но это было лишь однажды.
Часть четвертая
…Нас гораздо более интересует то, что происходит в тех и между теми, кто не теряет себя на (смертельный) лад и все же должны как-то по-иному, в жизни, потерять себя, ибо не научились любить…
М. Р. Рильке.Заметки о книге Бунина «Митина любовь»
I
Летом я снова ушел в поход. Ушел с группой, наспех собранной в спортивной секции туризма, что ютилась под деревянными трибунами привокзального стадиона. Стадион был ветхим, отживающим свой век, с выбитым до земли футбольным полем, где лишь клочками росла трава, с латаными скамьями дощатых рядов, почерневших под дождями и оттепелями. В секцию я попал случайно, как умеющий плавать кролем, и меня без затруднений взяли, выдав на двадцать дней положенное количество густо смазанных солидолом банок тушенки, каменных брусочков концентратов и снабдив мятым выцветшим рюкзаком с матерчатыми лямками. Предстояло прошагать зачетное количество километров, пробежать и проплыть на каких-то смутно представляемых соревнованиях дистанцию туристического марафона, а вообще-то мы были предоставлены самим себе, прихоти горных распадков, каменистых перевалов и сосновых урем.
Я уже осознанно, жадно любил эту свободу лесного шага, эти сухие, шуршащие хвоей тропы, внезапные низины с трепетным осинником, влажным сырым запахом и хлопающими по грязи жердями, по которым идешь, опасливо соскальзывая ботинками и балансируя руками. Еще побаиваясь леса наедине, я настороженно бродил недалеко от костра в вечерних сумерках, когда нудно зудела в воздухе мошкара, чернильной темнотой наливались сосновые кроны, словно тушью прорисованные на фоне гор, тоже мрачнеющих, постепенно исчезающих в дымке парного тумана. Костер горел вначале бледно, каким-то лимонным цветом, постепенно, однако, раскаляясь и, наконец, загудя ровным пламенем сухостоя, пиленых дров и потрескивающих шишек. Издали лица людей, их фигуры казались фантастическими, библейскими, и я подолгу наблюдал из темноты причудливую игру рыже-багряных, карминных, янтарных и медных тонов, разрезаемых полосами мрака и тревоги. Особенно пристально я разглядывал силуэты спутниц – их быстрые точеные длинноволосые фигуры в спортивных куртках и резиновых сапогах или в тапочках на босую ногу. Распарившись возле закопченных ведер, опалив брови и волосы, колдуя над бурлящимся варевом, они сбрасывали свои одежды, оставаясь в тонких безрукавках, и тогда горло мое охватывала томительная трепетная спазма, и я, замирая, почти не дыша и весь уйдя в зрение, жадно ловил взглядом и плавную линию женского предплечья, и небрежно-пленительный поворот обнаженной шеи, и крутую обрывистость груди…
Они все были старше меня – на год, на два, что казалось тогда огромным сроком, и потому они относились ко мне ласково-снисходительно, не заставляя рубить поленницы, таскать воду и даже ставить палатки. Все в группе, за исключением меня, были рабочие – смазчики, машинисты, проводники вагонов, и я не понимал их новых для меня разговоров, крепких и гортанных шуток, смешливых похлопываний по плечам и бедрам, внезапных схваток с визгом и басом, шумом, ломкой кустов и гвалдом… Я не мог долго высиживать у костра, намаянный дорогой и рюкзаком. Напившись до одури горячего, заваренного на смородиновом листе чая, я буквально валился с ног, вяло доползал до своего ватного спальника и проваливался в пустоту, полную сладких полетов, неясных грез и предчувствий. Именно там впервые пришло ко мне дотоле неизвестное…
II
Я внезапно проснулся, не понимая отчего. Была глухая ночь. Тело болело от корневищ, вдавливающихся в спину сквозь тонкую подстилку. Руки затекли, прижатые к подбородку в неудобной позе, и весь я трясся от мелкого озноба. Зубы стучали частой дробью.
– Замерз? – услышал я свистящий шепот, и мягкая парная рука легла мне на шею. Надо сказать, что спал я в женской палатке, как младший, не агрессивный партнер, долго просыпая по утрам часы подъема, когда вокруг уже содрогалась земля от топота гимнастики, пробежек и прыжков спортсменов. Две или три девушки спали рядом, повернувшись друг к другу лицами, и до сей поры я не задумывался над двусмысленностью своего положения.
Это мгновенье, словно электрическим током, пронзило меня. Нечто замершее, дремлющее дотоле вдруг встрепенулось во мне, струной напряглись мышцы, исчез сон, и только громче, отчетливей затряслись в дрожи зубы. Впервые в жизни я почувствовал рядом присутствие иного мира – мира, не похожего на материнскую ласку, тревожного и влекущего. Точно магнитом, сквозь толщу двух ватных оболочек, тянуло меня к незнакомому теплу, к пряному дыханию девичьего тела. И чувства мои запутались, переходя от ужаса к восторгу, от отчаянья к сумасшедшей решимости. Вмиг, с лихорадочной быстротой, проносились в мозгу обнаженные видения пленительных тайных страстей человеческого рода. Афродиты, Венеры, Нимфы сверкающей мраморной белизной ослепили мне широко открытые в темноте глаза, и я только костенел, стискивая подергивающиеся губы и почти плача, не в силах пошевелиться…
Вспоминая сейчас тот миг, ту ночь, полную внезапной бездны, я усмехаюсь над собой – робким, домашним мальчиком, так и не нашедшим в себе сил выдавить хоть одно слово, хоть движением дать понять отсутствие сна и ответить на ласковый порыв спутницы по походу. Одеревенев, без сна пролежав всю долгую чуткую ночь, я даже не помню, кто тогда прошептал мне участливую фразу, кто пытался согреть мое жесткое юношеское тело. Под утро я изнемог, забылся и протер глаза лишь к полудню, когда все вернулись с лодочной прогулки и долго потешались над моей оторопелостью, меловой бледностью и косноязычием. Сам же я боялся поднять глаза на хохочущих, брызжущих силой и здоровьем девушек, с еще мокрыми от купанья загорелыми телами, такими мучительными теперь для меня.
В тот же вечер при свете пламени вечернего костра, горячащего и скоротечного, как время, я начал читать на память любимые стихи. Я выбрал минуту, когда все устали от еды, от чая и блаженно разлеглись на штормовках и чехлах от палаток, подняв глаза к неподвижным звездам. Торопясь и пересыхая горлом, я читал стихи, тайно надеясь, что чудо, заключенное в них, коснется и той, кто дотронулся до меня минувшей ночью, чье присутствие повергло меня в трепет и смущение. Чудо живой, теплой, пахнущей водорослями и сосновой смолкой девушки я, словно защищаясь, хотел противопоставить чуду звучащего слова – единственного понятного мне кумира. Мне казалось, что вместе с сумерками, с грибным, травяным, озерным запахом, с тревожными вскриками чаек и длинными лунно-лимонными полосами на воде вокруг происходит пугающий переворот, когда все ясное, знакомое, ощутимое исчезает и наступает зыбкое, тревожное состояние, в котором гулко, как маятник в пустой комнате, колотится мое сердце.
Я не помню, какие стихи я тогда читал. Не помню, как прошли оставшиеся дневные часы моего похода. В расширенных напряженных моих зрачках замерли с той поры два цвета: трепещущие желто-язвенные блики пламени, пляшущего на бревнах, лопающегося на аккуратные розовые квадратики, и неподвижный сине-серый фон ночной палатки, в который я, мучительно уставясь, вперял глаза, боясь и ожидая неизвестного. Засыпал я теперь на рассвете, с первыми криками птиц…
III
Ни за что не поверю, если кто-нибудь скажет, что он не помнит выпускной класс. Можно забыть институт, университет, всю свою жизнь в беготне, сдаче зачетов и коллоквиумов – но десятый класс забыть невозможно… Еще весной в коридорах школы бродили рослые атлеты в тугих олимпийках, со следами свежих бритвенных порезов на щеках. Они клали нам в «баскет» десять очков форы, и в отчаянных схватках у волейбольной сетки их атласные трусы мелькали где-то на уровне наших глаз… Еще недавно мы и носу не совали в «святая святых» школы – радиорубку, откуда десятиклассники крутили на школьных вечерах немыслимые румбы и фокстроты, принося пачками пластинки в своих спортивных, с клепаными углами чемоданчиках…
А сегодня в школе одна мелкота, и мы – десятиклассники, с которыми учителя все чаще сбиваются на «вы», которым разрешено открыто покуривать на переменах, выйдя на широкий балкон спортзала. Головы у нас кружатся от обольстительных надежд, от названий грядущих институтов, военных училищ, университетов, где нас уже ждут – рослых, свободных, широкоплечих…
Именно в это время, когда я, отбыв десять лет в одной школе, уже привык к иллюзии своей исключительности, на самой точке кипения моей юности встретилась мне Она…
Конечно, она училась в другой школе, ибо своих одноклассниц я по привычке не замечал да и не мог заметить, ибо только броское, резкое, непохожее бросалось мне в глаза. Конечно, Она приехала из другого города, так как и в соседних школах мы знали поименно всех девчонок старших классов, сталкиваясь на вечеринках, диспутах или на танцах.
Конечно, нашему знакомству предшествовала школьная молва – та обычная, девчоночья сплетня, без которой немыслимо появление любой новенькой, незаурядной девушки, попавшей в старшие классы города. Несколько раз в течение осени я слышал о необыкновенной красавице из соседней школы – гордой и молчаливой. Говорили о мальчике – чемпионе области по велоспорту, который травился из-за нее эссенцией. Другой – гимнаст и отличник – пытался броситься под машину и теперь ходит с палочкой, принося ей домой каждый день розы… Было и еще что-то шепчущееся, таинственное, что знали одни девчонки, вечно стрекочущие, шелестящие фотографиями артистов, намазывающие украдкой себе губы.
Меня эта возня и пересуды мало трогали, вызывая лишь скептическую усмешку: красавица училась в девятом классе и, естественно, была еще ребенком. Я сочинял в ту осень грандиозную поэму, долженствующую произвести фурор и открыть мне дорогу в Литинститут, о котором я мечтал снисходительно и с достоинством. За поэму я взялся солидно: сидел по утрам в городском музее, перебирая пожелтевшие бумаги архивов гражданской войны, слушал воспоминания сморщенных беззубых старичков, шамкающих о днях своей молодости, о лихих скачках, подкопах, тайниках – почему-то непременно под застрехами изб или в кирпичной кладке печей… Я находил фамилии забытых казачьих офицеров, лютовавших когда-то на рельсах того вокзала, где прошла вся моя жизнь. Я воскресал в воображении лица худых большеглазых подпольщиц, которых, тыча в спину винтовками, вели верхоконные бородачи мимо уже снесенного семиглавого собора, мимо кладбища с пузатыми памятниками купцам. Мне казалось, что там, в Заречье, я присутствую на тайной сходке вместе с пахнущими мазутом мастеровыми, с подслеповатыми интеллигентами в сползающих с носа пенсне. В завешенном дырявым одеялом окне мне чудился скрип грубых сапог – торопящихся боевиков с нитроглицериновыми бомбами, завернутыми в тряпки…
Словом, красавица из соседней школы не вписывалась в круг моих интересов, вызывая, пожалуй, лишь некоторое любопытство в силу упорства разговоров о ней.
Тем сильнее было мое потрясение, когда в предоктябрьский сумеречный полдень меня вызвали к директору после четвертого урока, в его теплый, с цветными ковровыми дорожками и чугунными статуэтками кабинет, у громадного дубового с резными листьями стола которого робко стояла в расстегнутом пальто девушка, теребя кончик серого шарфа. Она стояла вполоборота к окну, чуть наклонив голову, так что волосы закрывали от меня лицо, и я видел лишь красное дешевое с накладными карманами пальто, суконные с кожаной прошивкой боты, темные от сырости, и шарф – обычный вязаный шарфик без рисунка…
– Вахонин, – сказал мне директор, не поднимаясь из-за стола и глядя поверх очков на нас, – тебя просят выступить в соседней школе. Вот пришли…
И он кивнул в сторону девушки как-то странно и неодобрительно, пригладив при этом сивые редкие волосы и оправляя лацканы серого пиджака с форменными петлицами путейца. Я знал, что директору льстит мое сочинительство: недаром он добился печатного издания целого сборника наших опусов в дорожной типографии, и сейчас удивился, чувствуя его скрытую неприязнь к девушке.
– Хорошо, – сказал я, – вы меня с анатомии отпускаете?
Директор снова начал приглаживать петушиные волосы, прокашливаться, что-то бормотать, из чего я понял, что он в полной растерянности: из школы ему не звонили, из райкома не предупреждали, и вообще-то говоря, это непорядок…
– Ладно, Аркадий Саввич, – с беспечностью десятиклассника и баловня школы сказал я, – по дороге зайду в райком и все улажу. Ведь вы меня по линии сектора пропаганды приглашаете? – обратился я к девушке. Она вздрогнула, подняла на меня глаза и густо покраснела…
Боже мой! Забуду ли я ту секунду, когда увидел это лицо – нежный овал щек, покрытых густым румянцем, густые черные брови и ореховые глаза, полные волнения, страха и робости. Вьющиеся каштановые волосы падали на лоб – высокий и чистый, как у женщин пушкинской эпохи. Губы с темным пушком вокруг рта были пунцовы и крупны, и она в волнении покусывала их, ничего не отвечая… Видимо, она долго ожидала директора.
– Так мы идем? – не получив ответа, после короткой паузы сказал я и сам почувствовал, как тревожно и гулко забилось мое сердце.
Мы вышли, и вслед нам директор еще что-то продолжал бормотать, возясь с телефонным диском и срываясь пальцем из железных его дырочек.
IV
Как описать состояние, в котором мы находились, когда вышли на улицу, молча пересекли привокзальную площадь, сели в гулкий, нещадно мотающийся трамвай, взяли билеты у сонной билетерши в обшарпанных перчатках с отрезанными напальчниками. Чувство необычности, необыкновенности охватило меня. Мутный осенний день, стальные озяблые рельсы, рубчатые стволы карагачей – все напряглось и зазвенело неслышной, но явственной музыкой, и разговоры вокруг, и фигуры украдкой оглядывающихся людей, и даже нещадный скрип и грохот трамвая были исполнены особого, значительного и ликующего смысла.
Она пришла за мной! Она нарочно пришла за мной и сейчас идет рядом, стараясь не ступать в прозрачные лужи на асфальте, и я слышу рядом ее дыханье и вижу, как она зябко прячет кулачки в рукава старенького с белыми пролысинами обшлагов пальто… Боже, как она мне нравится, – думал я, а язык мои, словно помимо меня, начинал уже что-то говорить, спрашивать, рисоваться. Она отвечала односложно, о чем-то сосредоточенно думая, сообщив мне кратко, что весь девятый ее класс ожидает меня в кабинете литературы и что все они читали мои стихи в только что вышедшем сборнике… Сколько я не пытался завести с ней разговор – как Она нашла меня, и почему пришла именно Она, а не кто-то другой, – Она отвечала просто: «Меня просили».
И лишь в конце, когда мы уже почти прошли через городской сад с пустыми железными лодками качелей, полунагим березником и потемневшими афишными щитами, Она замедлила торопливый шаг, умоляюще взглянула на меня и прошептала чуть слышно:
– Вы можете назвать меня дурой, но это я сама хотела вас увидеть… И никто нас не ждет… Никто…
Ровно через год – следующим октябрем, когда я ходил одурманенный нашей любовью и мы были откровенны и правдивы друг перед другом, как никогда до или после, Она призналась мне, что увидела меня на школьном районном смотре и Ей, приехавшей из маленького таежного городка, где отец служил вплоть до отставки безвыездно, показалось, что Она увидела чудо. Юноша – поэт! Как Байрон, как любимый Ею Блок, стихи которого она знала наизусть уже с пятого класса, а «Прекрасную Даму» читала как молитву.
– Ты знаешь, – говорила Она, – я всегда была дома одна, а мы жили почти в лесу, и было так страшно ждать маму с работы, и я засыпала над книжкой и постоянно видела во сне твое лицо. Не смейся – это было именно твое лицо: самодовольное и злое, с перекошенным подбородком и обкусанными губами. Лицо эгоиста, которого я любила: ведь ты был тоже одинок…
Но это было потом, а сейчас она стояла передо мной на скользком от прелых листьев асфальте, и ветер гнул мокрые отвислые ветви берез, и в горсаду было пусто, лишь в отдалении нахохленные мамаши возили в блестящих пестрых колясках укутанные в одеяла свертки. Какой-то старик в поношенной шинели без хлястика, бесцветный и унылый, брел по аллее, подняв воротник до заросшего серой щетиной подбородка. Я был растерян и, кажется, впервые в жизни не знал, что сказать.
– Извините, что так получилось. Я и сама знаю, что это глупо… – И она повернулась и быстрым шагом, почти бегом, кинулась в глубь сада, туда, где фанерным, маслено блестящим куполом круглилась раковина танцплощадки, где на раскисшей земле резко-фиолетово отпечатывались следы ее жалких ботиков…
Я вернулся домой потрясенный и недоумевающий. Случившееся было так странно, что я поначалу решил про себя: ну и ладно, убежала – и на здоровье. Не гоняться же промеж деревьев за девчонкой, пусть даже такой…
Но музыка, услышанная мною там, на трамвайном кольце, под сверкание внезапных лиловых искр срывающихся полуовальных дуг, продолжала тревожно и настойчиво звучать во мне. Я не мог сосредоточиться. Пытаясь раскрыть папки своих черновиков, я видел только ее напряженную хрупкую фигурку, стремительно удаляющуюся и уже мелькающую за черно-пегими мокрыми стволами. Кто Она – эта чудесная, откровенная, внезапная девушка? Зачем Ей нужно было увидеться со мной и так мгновенно исчезнуть, раствориться в осенней туманной мгле, не дав мне даже опомниться? Интуиция подсказывала мне, что мы должны, обязательно должны встретиться. Но как и где? И смогу ли я смотреть ей в глаза?..
V
Через неделю начались праздники. Классная компания, по обыкновению, свелась к домашней вечеринке у одной из обеспеченных девушек, чья квартира была побольше площадью, а родители с самоотверженностью толклись на кухне, таскали горячие, только что из духовки пироги, незаметно подсовывали сметанные салаты и убирали пустые, с печальным звоном бутылки из-под вина и лимонада. Надоедно и металлически звучал патефон, мы толклись на пятачке между пианино со старомодными слониками и тахтой, покрытой ковровым пологом, и мне было грустно от того, что девушка, о которой я думал, была неизвестно-далека. Возбужденный от выпитого, в белой, мягкой, ласковой от маминых рук рубашке, я танцевал и чувствовал, как остро пахнут рядом, у самых ноздрей, кокетливо завитые волосы моих одноклассниц, как непроизвольно и пламенно касаются меня их тугие, острые грудки, покрытые уже не форменными передниками, а яркими цветными тканями платьев. Но, однако, игрушечность, поднадзорность этой близости, перемежаемой цепкими стерегущими взглядами родителей и шуточками классных остряков, от которых я бледнел и сбивался с маршеобразного такта фокстрота, раздражали меня. Чем темней становилось за окнами, завешенными прозрачными, непривычно-дорогими стекловидными шторами, тем пестрее и беспорядочнее было в моих глазах, и меня все больше подмывало желание убежать от этой ярко-хрустальной посуды, что жгла электрическим блеском зрачки, от хохочущей и дурачащейся соседки-троешницы, которая пачкала лиловой губной помадой края рюмки и кричала через весь стол: «А Вахонин пусть тост в стихах скажет. Он у нас талантливый!..» А с другого конца стола ей парировали басом: «Он выдающийся, ему с нами скучно!..»
Я исчез, когда начали сдвигать в сторону столы и переставлять стулья, грохоча посудой и звеня падающими вилками. Наспех одевшись, я выбежал на площадку, оглушенный музыкой, доносящейся через двери квартир. Ступеньки с щербинами на красноватом бетоне плясали перед глазами, словно в тумане. Радиаторы, за которые я хватался на поворотах, были пыльны и горячи, и я бессмысленно слизывал с ладоней пятна, оставшиеся после соприкосновения с их острыми, в зазубринах, ребрами. Я прошел один поворот лестницы, другой, с трудом умеряя от опрокидывания свой корпус, и вдруг лицом к лицу столкнулся…
Тут мне хочется на мгновенье прервать ход воспоминаний, в которых я почему-то все время стараюсь казаться лучше, чем я был в те годы. И даже утверждение о том, что я не знал и не стремился к сверстницам до Нее, не совсем верное. Еще в отрочестве я открыл для себя упоение от тайной близости с загадочной для меня женщиной. Она приходила ко мне редко, в минуты беспричинной тоски и хандры, когда я долго не засыпал, лежа на животе, уткнувшись носом в подушку. Я почти не видел ее лица – всегда расплывчатого, с опущенными ресницами и бледными тонкими губами, но ощущение странной, пронизывающей все тело тяги к ней плавно вздымало меня и долго-долго несло на своих волнах, убаюкивая и отпуская скованность мышц. К юности я уже любил и ждал эту женщину, и уже яснее различал ее плавную фигуру, и мне все сильнее хотелось поймать ее распущенные парящие волосы… Но женщина эта, мучая меня кажущейся близостью, всегда уплывала в сон, в небыль, в беспамятство.
И вдруг я увидел ее – почти вплотную, с упавшими на глаза иссиня-черными прядями, с открытой шеей, с запрокинутым вздрагивающим подбородком, на котором блестела странно-неподвижная крупная прозрачная горошина. Помню, что именно эта неподвижная, словно кристаллическая, горошина прервала мой судорожный бег по наклонной гулкой лестнице подъезда. Я остановился, упираясь руками в стену, и приблизился лицом к приоткрытому рту, из которого доносились сдавленные рыдания… Я никогда не видел так близко губ, мокрых и припухших, с коричневой родинкой возле края верхней дуги с ложбинкой, идущей к носовой перегородке, и ровным рядом блестящих зубов, прикусивших краешек языка… Боже мой, она плакала – моя Женщина из сумеречных снов, и скулы ее лица были словно испачканы мелом, а веки закрыты и сини, как прежде – в грезах! И когда я безотчетно прильнул к этим губам, абсолютно не различая, где я нахожусь и что происходит со мной, – я вдруг ощутил сахаристый привкус вздрагивающего рта и головокружительную шершавость языка. Тело мое ослабло, глаза перестали видеть, и я провалился в пустоту, уже не сопротивляясь нахлынувшему чувству сострадания и любви, которыми было переполнено мое сердце…
Я очнулся спустя некоторое время, чувствуя, как холодные струйки текут мне за шиворот. Я лежал на вогнутой уличной скамье без шапки, и пальто было валиком подложено мне под голову, а на лбу лежало нечто белое, вроде платка. Она стояла рядом, держа мою вялую руку в своей ладони, и я тотчас почувствовал металлическую дужку кольца на ее пальце. «Ну как, отдышался?» – почему-то шепотом спросила она и оглянулась на высокие освещенные окна дома, из которого по-прежнему неслась оголтелая музыка. Я кивнул и попытался сесть, соединяя воедино совиные зрачки фонарей. «Я тебя еле дотащила, думала, с тобой обморок, – снова шепотом сказала она и тихо засмеялась. – А целоваться совсем не умеешь… Дурачок…»
Она помогла мне сесть, обхватив меня сильной рукой под мышки, и снова, сбегав куда-то, положила мне на голову прохладный мятый платок… «Юрка меня убьет, если увидит, что я здесь, с тобой… Ну, да ладно – отольются ему мои слезки»… И она повернула, сжав в пальцах, мою голову в свою сторону: «Ты вон какой… красивый. Где раньше-то был?» Длинные ноготки ее вдавились мне в кожу – и пахло сильно и остро духами, пудрой и еще чем-то терпким и волнующим. Мне было стыдно за свою слабость перед ней, и я рывком вытащил из-под себя пальто, путаясь в рукавах, надел его и только теперь почувствовал, как озяб и как бессмысленно-мято мое лицо, как дрожат руки и не слушаются ноги… Улица была точно намазана гуталином – черным и блестящим, и сапожный ее запах вызывал у меня тошноту. «Наклонись, наклонись», – ласково сказала она, спазмы потрясли мое тело, и я чуть не упал со скамейки. В эту минуту дверь подъезда раскрылась, и оттуда вывалилась, бренча гитарами, ватага кричащих, преувеличенно крупных парней в коротких полупальто. Моя лекарша, лихорадочно смяв платок, опрометью кинулась в их сторону, а я, давясь и захлебываясь, мотал ушами над забрызганной вонючей землей… Потом, когда все стихло, я встал и с сухими, напряженными глазами пошел домой, в знакомый до каждого поворота двор. Загадочная Женщина навсегда перестала мне сниться.








