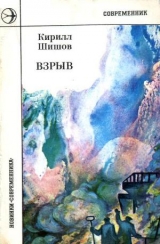
Текст книги "Взрыв"
Автор книги: Кирилл Шишов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 11 страниц)
Бандеролька
На заводе, где я должен был читать лекцию, меня встретила у проходной вертлявая девица в шерстяном брючном костюме. «Я организатор, здрасте». Она сначала чуть постеснялась, а по дороге уже закокетничала… Цех отвлек меня. Громады скреперов, колеса которых не достать вытянутой рукой, мощные зубья резцов с вишневыми отблесками наплавок, насупленные сосредоточенные лица токарей… Я долго любовался полировкой зеркальных штоков гидроцилиндров, восхищался глянцевой гальваникой. Этот мир точного машиностроения был нов и горяч для меня. Девушка отступила на второй план и молча таскалась за мной и начальником цеха.
После лекции – вернее, чтения пушкинских стихов, от которых и у меня и у слушателей всегда дрожь восторга проходит ознобом по лопаткам, – мы вышли в город. Я устал от впечатлений и актерства, девушка была моложе меня лет на десять, и я мог молчать, предоставляя ей приятное право стрекотни.
Боже мой, какая ломаная путаная душа стремительно начала исповедоваться мне, посвящать меня в свои тайны сумбурно и чуть цинично. В короткие полчаса, пока пыльный асфальт хрустел под ногами, вошел я в болезненный избалованно-горький мир человека, чьим единственным достоянием, насколько я мог заметить, была незаурядная внешность. Но какое смешение и сумбур расчета и наивности, жестокости и обид! Семья, где отец обожает мать, двадцать лет обманывающую его, разъезжающую по курортам неизменно в одиночку, коротко знакомую со всеми тузами местного масштаба… Семья, где родственники рассеяны от Ленинграда до Туапсе, от поста начальника треста до замминистра (девушка вставляла это нарочито скороговоркой, но было видно, что цену таким связям она отлично понимает). Семья, где мать купила дочери однокомнатную квартиру втайне от отца, а отец отложил дочери на книжку третью тысячу, запретив говорить об этом матери… Семья, где мать собралась выходить замуж за другого с тремя детьми и недавно возила дочь на знакомство с тем, другим, имеющим сына – ровесника ее дочери и произведшего на девушку комическое впечатление неотесанностью… А сейчас мать болеет, и дочь третью неделю не ходит в больницу, с обидой вспоминая дурацкую поездку, и фальшь всегдашнего поведения матери, и ее деспотизм. «Лучше бы она не была моей матерью, лучше бы умерла», – запальчиво и страшно, чуть картавя, говорит девушка и одновременно смотрит, какое впечатление это производит на меня…
Девушка «перебулгачена» всем, чем можно, что дает обеспеченным детям наш разномастный век: импортными нарядами и мамашиными визитерами, ранними вечеринками и восхищенными маслеными взглядами «трезоров». Похоже, что она видела мужчин во всех вариантах, но кроме картотеки имен и фразы: «О, я не выйду замуж никогда», – ничего из этого калейдоскопа у нее не выблескивается. Конечно, она где-то учится – заочно, конечно, она работает: организует лекции, но не в этом суть…
Я грустно сижу рядом, слушаю ее непрерывный стрекоток и думаю, думаю, думаю… Я думаю о цене свободы, коей так щедро оделена у нас женщина с детства, о поклонении красоте, что брызжет из наших жеребячьих глаз, о гнете девичества и наивности, что, как постыдное ярмо, принято теперь скрывать в двадцать лет за развязностью и всезнайством… В сущности, передо мной ребенок – капризный и обиженный, избалованный и жестокий в своем неведении настоящего горя, сбитый с толку неурядицами семьи и пресыщенностью. «Я не хочу быть спасительным кругом кому-то», – срывается с ее перламутровых губ, и мне становится не по себе. Зачем я слушаю эти корявые речи, зачем пытаюсь смягчить ее гнев на мир?.. Пройдут годы. Материнство и боль сосков, разлука и ожидание писем, может быть, сгладят эти угловатые жесты молодости, эту неприязнь суждений. Разве можно молодости объяснить, что она жестока? Разве можно девушку уговорить не отрекаться от святости замужества, от бремени ласки, от пытки верности?..
Мы расстались легко и просто. Так, как она, видимо, привыкла расставаться – без адресов и телефонов. Я шел домой и вспоминал, что свою мать она упорно называла «старой бандеролью». Странное выражение. Не правда ли?
Выборг
У моря – угрюмая, из костистых валунов на древнем известковом растворе шведская крепость с пушечными аппарелями, бастионами, фортами по всем правилам рыцарских времен. Башня, как скала, высится в центре. Скала, с которой сладко и страшно смотреть вниз – на море с бело-синими корабликами, с силуэтами низких шхер.
Полковник лез вверх рядом со мной и рассказывал о штурме линии Маннергейма, о бронированных колпаках, бетонных дотах и раскаленных от выстрелов орудиях. Лестница висела внутри башни над сорокаметровой пропастью на крошечных стальных кронштейнах, вбитых между древними валунами…
Когда мы вышли на смотровую площадку и ветер хлестнул нам в лицо солью и влагой, мой собеседник вдруг согнулся и, с трудом переставляя ноги, подковылял к лазу, что-то пробормотал и исчез. А я обошел по площадке вокруг купола с циркульными окошками, бросил вниз камушек и, посчитав траекторию его, подивился хитрости расчета заморских фортификаторов и только тогда пошел спускаться… Полковник сидел у выхода синий, с подглазицами и набухшими веками у висков…
– Запах, – сказал он, – не переношу трупного запаха…
– А что, разве он где-нибудь был?
– Не знаю откуда, но так пахнуло, что чуть не задохнулся… Это у меня с сорок второго… – он помолчал, вытирая платком сырой лоб.
– Я ведь отступал на Кубани. Жара, трупы, мухи… До сих пор на могилу отца с мукой хожу – кисловатый этот запах сквозь землю чую…
– Откуда бы здесь этот запах? – подумал я, беспечный и беспамятный в свои тридцать.
А Выборгский замок, переходивший из рук в руки восемнадцать раз за десять столетий, угрюмо и холодно высился вокруг нас серыми бастионами…
Аня
Анюточка – розовощекая полуторагодовалая девочка с блестящими голубыми глазками и доверчивым сияющим взглядом. Она гуляет со своим угрюмым папой, вечно погруженным в газету и механически передвигающимся за ней, уткнувшись в печатный лист.
Лес стоит осенний, сухой и пыльный. Березы еще в лимонной листве, а лиственницы и осинки – голые, жалкие. Трава в парке выгорела, затоптана до белизны и усеяна мусором.
Анюточка, ловко перебирая ножками в алых колготках, бежит к детям из детсада, что под оком толстой сонной тети играют на полянке. Дети – в ярких осенних курточках, с ленточками, кожаными хлястиками, ремешками. Они увлеченно бегают, играют в куклы, в войну, в прятки…
Анюточка никак не может пристроиться к ним. То одному, то другому просяще заглядывает в глаза, доверчиво улыбается и тянет за рукав: «Играть», – просит она, но детям некогда. Мальчики, строча электрическими автоматами, с топотом проносятся мимо. А девочки – девочки, косясь на читающего папу, что невидяще перебирает ногами невдалеке, оттирают Анюточку спинами от ярких, с распущенными волосами кукол.
– Там кука, там… – передразнивая, обманывают они Аню, и та доверчиво бежит, спотыкаясь о сосновые корни, в другую сторону. Потом останавливается, долго расширенными глазами смотрит то на папу, то на девочек, хихикающих под облетевшим кустом волчьих ягод, и громко, отчаянно и обреченно плачет.
Девушка на мотоцикле
Она была крупноскулой, с маковыми зернами родинок на щеках и ослепительной, мгновенной улыбкой, похожей на фотовспышку. Ходила она в джинсах с махрами по шву и смешно щелкала ими о кожаную, на длинном ремне сумку. Часто после лекций я видел ее на мотоцикле, в ярком, яблочно-красном шлеме и хрустящей куртке с диагоналями лиловых молний. Ручки она крутила небрежно, чуть замедленно заправляла каштановые волосы под шлем, а потом, взревев синим чадом, срывалась с места, как хоккеист после отсидки на скамье штрафников…
Студенческая жизнь ей нравилась. Она была словно создана для гулких аудиторий, полных молодых здоровых голосов, суматохи и панибратских жестов, щелканья блестящих портфельных замков и гама. Однажды я видел, как она, слегка отвернувшись, передразнивала перед сокурсниками мою нелепую манеру встряхивать головой и значительно поводить бровями перед началом лекции…
В общежитии она, должно быть, копировала всех преподавателей, за что на нее часто обижались. Осенью она появлялась иссиня-черной, с громадными белками на обветренном, шелушащемся лице и со свежими следами шрамов и ссадин. «Поцелуи Тянь-Шаня», – отшучивалась она на мои расспросы и нетерпеливо постукивала лакированными ноготками о крышку стола. И я, нудно шелестя бумагами, не смел ее больше допытывать – как и зачем она оказалась именно в горах. Потом уже, от других, я узнавал о каких-то фантастических мотопробегах, о козьих тропах, о загадочной черной смоле – мумие… Помню, что особенно поразил меня крупный, со следами сшивки, розовый шрам на ее левой икре, похожий на гусеницу…
Она исчезла на четвертом курсе, выйдя замуж за летчика. Случайно я потом увидел ее лицо через два года в иллюминаторе самолета, бледное, с прилипшими растрепанными волосами. Она прижимала к себе плачущего ребенка, что-то быстро говорила ему, по-видимому уговаривая, и вытирала ему носик платком. Гудели надсадно турбины, сухая пыль хлестала по серебристой обшивке, и ее лицо в алюминиевой оправе мелких заклепок, под желтоватым плексигласом казалось мне жалким и испуганным… Было это на другом конце страны, и стоящая рядом со мной старушка старательно махала ей заштопанной варежкой…
Тени
Раньше я не замечал, какие разные бывают тени. Тень и тень – подумаешь, какая важность.
В жаркий солнечный день в саду, устав от труда, я заснул под тенью старой яблони. Было знойно, душно вокруг. От досок дома шла сухая нагретая истома, а здесь, в тени замерших листьев, дышалось легко и свободно. Проснувшись, я почувствовал необычайный прилив сил, словно кто-то омыл меня живой водой. Я приложил руку – ствол был прохладным и чуточку сыроватым. Листья наверху поглощали аспидную жару, давая живую ароматную прохладу…
Так научился я различать тени живые и мертвые. Тени ласковые, как руки матери, и тени равнодушные, безучастные. Бледно-зеленые живые тени яблонь и лип. Пепельные мертвящие тени городских коробок. Кобальтовые угарные тени пыльных тополей.
И не было ни одной похожей. Каждая имела свой оттенок, свое дыхание, даже свою прохладу.
С тех пор я всегда ищу в минуту усталости живую тень. И отбрасывают ее только красивые, долго растущие деревья…
Много позже я узнал, что для японцев символ счастья – это тень старых одиноких сосен и шум ветра в их кронах.
Лес
Если вы потеряли чувство уверенности в себе, запутались в личных переживаниях или женщина, которую вы любите, отвергла вас, – идите сюда, в карельские леса.
Если работа, которой вы посвятили много лет и надежд, обманула вас, принеся плоды и славу другому, – надевайте выгоревшую на солнце, белесую штормовку и идите сюда – на вуоксинские озера.
Если болезнь, с которой вы боролись долгую зимнюю пору, опалила, высушила кожу и раскачала колоколом бухающее сердце, – сложите в абалаковский рюкзак хрустящие резиновые сапоги, шерстяной ароматный свитер и идите сюда – на медлительные речные поймы.
Чувство уверенности придет к вам, когда, содрав кожу с разгоряченных греблей ладоней, ваш четырехвесельный фофан выбьется при боковой волне с Макарьевского озера в каменную протоку Вуоксы и, шаркая бортами о полированный водой гранит, выйдет на струйное течение.
Достоинство возвратится к вам, когда, разламывая до хруста плечи и выедая дымом глаза, вы нарубите звонких сосновых поленьев для костра, борясь с неподатливыми корявыми сучьями и угадывая лезвием свистящего топора верную точку удара, чтобы дерево хрустко и весело раскалывалось, а костер жужжал ровным и чистым пламенем.
Ноющая тягостная боль по ночам отпустит вас, когда, облизывая потрескавшиеся губы, вы натянете под гулким дождем металлически-блестящие крылья перкалевой палатки, затянете мокрые осклизлые веревочные петли вокруг стальных штыковых кольев, раскатаете влажный упругий спальник и, засыпая, почувствуете под лопатками узловатые корневища карельских сосен.
Нет ничего целительнее этого первозданного леса, ветряных и студеных рек, петляющих промеж замшелых скал, и горьковатого кострового дыма, цепляющегося за сухощавый фиолетовый вереск. Только там, в Карелии, в Заонежье, на древней былинной русской земле, хранящей следы истового упорства предков, скрыто ваше тайное Возрождение, ваш Ренессанс в жестоком динамичном двадцатом веке – веке соперничества и тромбоза, скорости и инфарктов…
Врач
Этот юноша три года стоит у порога смерти. Он анестезиолог и реаниматор, то есть тот, кто провожает человека в небытие и встречает его в случае удачного исхода операции. Он похож на маленькую остроглазую синичку – аккуратный, чистенький, с быстрыми точными движениями.
Он пишет рассказы – кровавые, полные предсмертных хрипов, паленого мяса и больничных запахов. А сам – хрупкий, словно фарфоровый. И красивый какой-то английской, лордовской, голубоватой нежностью… Оскар Уайльд, Шелли приходят на ум…
Он говорит о мерцательном состоянии уходящих в сон, о влиянии запахов на миражи, что являются человеку под наркозом, когда ему с треском ломают ребра грудной клетки и вскрывают брюшину… После операции девушка шепчет: «Можно я вас поцелую. Я была на берегу моря, и рядом сидела мама, и слезы ее обжигали мне грудь»…
Юноша рассказывает, а я думаю – единственная, вечная трагедия мира, всех времен и народов – это превращение человека в предмет. Смерть, болезнь, арест, несвобода – сюда можно включить все, и на пороге этого состояния стоять всегда страшно. Разве нужно еще пугать кого-то описаниями физиологии опредмечивания?..
Я бы на его месте писал из контраста совсем о другом: о накрашенных беззаботных продавщицах магазинов, их манере ходить, причесываться на виду у покупателей, сплетничать и влюбляться. О курсантах в яловых сапогах, идущих гурьбой на танцы в парк… О стриженных под горшок крепкошеих борцах с цепочками на волосатых торсах, с гитарами за плечами… О всех, кто далек от страшного передового края гибельности и небытия…
Весна
Первый горячий день марта. И сразу – словно морским воздухом овеян город. Свежий, сырой запах, гул от капели, от проваливающихся в водосточные трубы ледяных пробок. Сверху, с крыш сбрасывают жухлые увесистые глыбы. Снег цвета дымчатого зайца – черно-бело-грязный. Ноздреватый. Крошево, месиво под ногами…
Первые молодые люди с непокрытыми, европейскими головами в ровных проборах. Одеты в короткие, песочного цвета кримпленовые пальто. Идут с презрительным выражением губ, шлепая по лужам… Брюки у них заляпаны до колен.
Первые дамы в весенних шляпках после махровой путаницы капоров, шапочек и платков… И голос воды везде – под шинами, черными и молодыми на солнце, под подошвами, хлюпающими и раскисающими от сырости, под колесами и блестящими спицами первых велосипедов…
Вечер
Зимний холодный вечер. Садится солнце. Над засыхающими, жалкими, озябшими соснами – тучи галок. Черное страшное полчище тревожно вскрикивает и куда-то стремглав несется. Некоторые стаи из этой тучи вдруг облепят иссохшие сучья сосны, и тогда они словно изоляторы на телеграфном столбе. Минута – и враз, с диким граем, срываются они вслед за сородичами. Какая власть в их движении? Полет их – в синем предзакатном небе – страшен и напоминает эскадрильи вражеских самолетов…
– Перед метелью кричат, – спокойно говорит толстая старуха в плюшевой шубе с облезлым енотовым воротником. У нее крупный шишковатый нос и очки с немыслимыми диоптриями. Интеллигентная старуха прогуливает пуделька – игрушечную собачку в жилетке с пуговичками на спине и в меховых сапожках. Ременной поводок выпадает из ослабелых рук, пуделек – ушки топориком – бежит, принюхиваясь к снегу.
– Стой, – говорит она. Тот останавливается, ждет, пока она с трудом нагнется за ремешком.
– Ласковый он, смирный, – говорит она, – под подстилкой конфеты прячет, печенюшки. Когда захочет, покушает. Послушный… – Она удаляется, а галочий вопль не молкнет в воздухе. К метели кричат черные трефовые галки.
Янтарь
Читаю книгу о солнечном камне – сосновых древних слезах, и думаю, как похожи далекие области искусства между собою. Много веков янтарь шлифовали, полировали, кромсали его естественную структуру. Мошки и паучки – включения – считались безобразными. Из камня делали каленый раствор и лили его в формы. Стружку прессовали на перстни и броши. Душа камня – выходца далекого неолита – исчезла…
И только недавно мастера поняли: камень хорош сам по себе. Тонкое чувство меры, неуловимая обработка, естественный неповторимый рисунок – и камень ожил, стал предметом искусства.
Дымчатый и стекловидный, желто-поджаренный и пепельный, без металлических петель и оправ, он, как сказочный Феникс, пробудил фантазию, освежил душу художника…
Так же и в литературе. Полировка, шлифовка, подгонка образов в едином мозаичном полотне – и рваный, с природными неровностями характеров, жесткий стиль… Мелочная стружка и прессовка поверхностных наблюдений – и прозрачная янтарная слеза правды…









