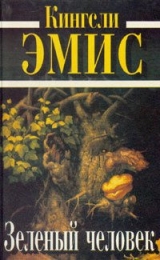
Текст книги "Зеленый человек"
Автор книги: Кингсли Эмис
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 15 страниц)
– Да, конечно.
– А возможно, и себя самого?
– Не стану спорить.
– Морис… знаешь, что мне больше всего в тебе нравится – твоя честность. – Она поцеловала меня в щеку. – Теперь поезжай. Звони как можно быстрее по поводу нашей встречи с Джойс.
Она бодро побежала вперед, испытывая, видимо, двойное удовлетворение: и от того, что заставила меня признаться в необходимости самому успокоиться, и от того, что снова продемонстрировала свое превосходство, углядев привидение, которого мне лицезреть не удалось (правда, как ни странно, последним соображением она со мной не поделилась). Неужели она всерьез решила, что видела призрак? И какие мысли придут ей в голову, когда Джек при случае расскажет о моих признаниях по поводу привидений? Не беда, поживем – увидим; теперь же я окончательно выдохся и, направляясь от гаража к дому, шатался, словно пьяный (хотя в данный момент был трезв, как стеклышко).
Я проглотил еще две пилюли, запив их сильно разбавленным шотландским виски, и, закрыв шкатулку в конторе, отправился в постель. Нужно было хорошенько выспаться перед похоронами и теми пикантными развлечениями, которые маячили впереди и к которым, несомненно, прибавится что-то новенькое.
Глава 4. МОЛОДОЙ ЧЕЛОВЕК
– В конце концов, смерть – составная часть жизни. Мы обречены на нее самим фактом своего рождения. Давайте посмотрим правде в глаза, мистер Эллингтон, не исключено, что мы воспринимаем конец нашего жизненного пути чертовски серьезно.
– А разве вы не находите, что мы должны относиться к смерти, как к преддверию иного способа бытия, или как к божьему промыслу, или чему-то еще?
– Господи боже мой, нет. Я вовсе так не думаю. Вовсе нет.
В голосе преподобного Тома Родни Сонненшайна, пастора церкви Святого Иакова в Фархеме, слышались оскорбленные нотки. Хотя сам он ни оскорбленным, ни шокированным не выглядел, потому что у него было одно из тех гладких, сохраняющих мальчишеские черты даже в зрелом возрасте, лиц, которые, думается, даже в минуты гнева или тревоги (если те выдадутся) не способны выразить ничего, кроме легкого раздражения. В церкви или на похоронах, у могилы, полагаю, он вполне мог изобразить возмущение в ответ на откровенно кощунственное поведение каких-нибудь безбожников или действительно от этого физически страдать; но теперь, в баре «Зеленого человека», было наглядно видно, что он просто устал. Я счел странным и, пожалуй, маловероятным знакомство с духовным лицом, которое, пользуясь политической терминологией, находится на левом фланге даже от такого закоренелого атеиста, как я сам. Несомненно, скоро пастора переведут в Лондон, где его приход, в отличие от здешнего, станет оплотом духовного свободомыслия; во всяком случае, встретить его здесь через некоторое время вряд ли удастся.
– «Вовсе нет»? – переспросил я.
– Знаете ли, все эти сказки о бессмертии – не что иное, как способ облегчить смерть. Надо смотреть на это под историческим углом зрения. Наши представление о бессмертии – понятие преходящее. В основных чертах оно было придумано викторианцами, главным образом ранними викторианцами, как нечто, продиктованное чувством вины. Они породили все пороки индустриальной революции и не могли не почувствовать, в какое чудовище в будущем превратится капитализм, поэтому единственным прибежищем от ада на земле, которое они могли вообразить, стала загробная жизнь, где не будет дыма, вони и слез голодных детей. Но сегодня в человеческие головы наконец стало проникать сознание того, что капитализм не обернулся чудовищем, что кровавых ужасов просто-напросто нет, и в новом обществе мы сумеем каждому обеспечить достойную жизнь здесь, на земле, да-да, а идею бессмертия пора отправить на свалку истории вместе с бакенбардами, лордом Гладстоном, Армией спасения и эволюцией.
– Эволюцией?
– Конечно, – сказал пастор, широко улыбаясь и сурово хмурясь одновременно, он раздувал ноздри и часто подмигивал, вероятно, по поводу каждого из предметов, отправленных на свалку.
– Ну, что ж, хорошо… Но я не очень-то понимаю, почему эти ваши викторианцы были такими пламенными поборниками идеи о загробной жизни, если их терзало чувство вины из-за тех безобразий, которые они натворили в жизни земной. Ведь не трудно было догадаться, что, скорее всего, они прямым путем отправятся в ад, а не…
– О, дорогой мой, в этом-то все и дело, судите сами. Они были просто в восторге от ада, ведь он представлялся им чем-то вроде филиала их собственного закрытого учебного заведения, дающего впечатляющий жизненный опыт, единственный, который им доступен. Битье тростью, порка, изнурительная учеба, холодные обливания, разносы, проматывание уроков и – всесильный, вызывающий ужас учитель, постоянно внушающий, что вы кусок дерьма и распущенная тварь. Клянусь, они были вне себя от счастья. Вы, надеюсь, понимаете, что далеко не случайно викторианское время стало великой эпохой мазохизма не только в Англии, но и за ее пределами тоже?
– Конечно, – согласился я, – эпоха мазохизма не может быть случайностью.
– Не может, верно? Эти качества целиком и полностью вытекают из капиталистического образа мышления, из желания испытывать боль, подвергаться наказанию и терпеть нужду, иначе говоря, из самых главных духовных ценностей протестантства. Если хотите иметь репутацию человека передовых убеждений, но не слишком поверхностного, можете спокойно заявить, что бессмертие души выдумано доктором Арнольдом из городка Регби; не очень красиво так отзываться о прежнем кумире, но что поделаешь?
– Как вы можете говорить такие вещи? Разве о бессмертии души не сказано еще в Библии? А сколько боли и наказаний обрушилось на человека в средние века? И не относилась ли к бессмертию всерьез католическая церковь на протяжении всей истории?
– Давайте разберем все ваши возражения по порядку, согласны? В Ветхом завете о бессмертии практически не сказано ничего, а по сравнению с Новым заветом он получил всеобщее признание как более достоверный и лишенный патетики источник. Разве, говоря откровенно, евангельский Иисус не смахивает порой на мягкотелого либерала, пока не воспарит на крыльях довольно слащавых семитских метафор? Что касается средневековья, то все эти ведьмы, раскаленные щипцы и прочее всего-навсего демонстрируют законность истязаний, которым здесь, на земле, подвергались противники веры. Католическая церковь, посудите сами… ведь для нее бессмертие – тот же журавль в небе, разве не ясно? Понимаете ли, я хочу сказать, что она не случайно всегда поддерживала старые реакционные, а вернее, преступные режимы, например, в Испании, Португалии, Ирландии и…
– Да, я знаю страны, которые вы имеете в виду. Мне пока трудно разобраться в ваших суждениях. Но, безусловно, вы сделали необычайно интересный обзор, пастор.
– Хочу вам посоветовать, мистер Эллингтон, хорошенько поразмышляйте над этими вопросами в более подходящее время. Понимаю, не очень-то приятно знакомиться с бесспорными истинами, вписанными в исторический контекст, знаю по собственному опыту.
– Что бы вы сказали, услышав от меня, что я смогу представить доказательства существования некоей личности, в той или иной форме, и после ее физической смерти?
– Я бы сказал, что вы не в своем… – Застывшее на гладком лице преподобного Тома раздраженное выражение моментально уступило место настороженности. – Э-э-э, вы говорите о привидениях и прочих подобных вещах, не так ли?
– Да. В частности, о привидении, предоставившем мне самую точную информацию, которую другим путем мне бы никогда не удалось получить.
– М-м-м, понимаю. Знаете ли, я бы сказал, если у вас что-то не в порядке с головой, то надо за советом обращаться к врачу, а не к человеку моей профессии. Э-э-э, а где Джек, я почему-то его не вижу…
– Уехал к пациенту. Вы считаете меня сумасшедшим, раз я верю в то, что со мной случилось?
– М-м-м – нет. Но разве мы ведем разговор не об отклонениях от нормы в человеческой психике, так это определяется?
– Да. Согласно этому определению, люди не могут существовать после смерти.
– Послушайте, будьте любезны, налейте мне еще одну порцию. Я не должен надираться, потому что вечером собираюсь пойти на восхитительный пикничок с жареным барашком в Ньюхем-гарден, но, думаю, пара-другая глотков не помешает.
– Что вы пьете?
– Бахарди и перно, – в его интонации сквозила явная насмешка над «психом».
– Что-нибудь добавить?
– Простите?
– Томатный сок, кока-колу или…
– Упаси бог, нет. Только лед.
Я передал заказ Фреду, который, прежде чем им заняться, на пару секунд прикрыл глаза. Сейчас с полным правом он мог расслабиться – гостиница и ресторан были закрыты до вечера. В доме находились только Даяна, Дэвид, три или четыре соседа и моя семья, а также пастор, который в эту минуту, уставившись в стакан, с ожесточением его встряхивал, не рискуя сделать первый глоток.
– Все в порядке?
– Конечно. Вы только что упомянули божий промысел, – сказал он, обнаруживая хорошую память, которую было обидно за ним признавать. – В связи с этим хочу отметить интереснейшую вещь. Смею вас заверить, что о божьем промысле человеческая фантазия создала больше басен, чем о любом другом догмате веры (за исключением мученичества, разумеется, в котором просматривается откровенная сексуальность), ибо, используя представления о божьем промысле, человек дает выход своему бессознательному и может адаптировать его в социально приемлемых формах. Божий промысел! Ха-ха. Ни я, ни любой другой на моем месте не скажет вам, что это такое и с чем его едят, а несчетное количество молодых служителей церкви не постесняются, черт возьми, поставить под сомнение само его существование. Безусловно, наметилась и еще одна тенденция – вслед за бессмертием души через двадцать – двадцать пять лет вытолкать взашей и скомпрометированного бога. А теперь я должен извиниться перед вами, потому что хочу пойти поболтать вон с теми двумя потрясающими куколками. Самое главное, это…
– Я пойду с вами.
Не сговариваясь (как я предполагаю), по случаю похорон Джойс и Даяна были одеты совершенно одинаково: черный шерстяной костюм, белая блузка, украшенная английским кружевом, черные сетчатые чулки и черная соломенная шляпка. Благодаря этому они еще больше, чем обычно, походили на сестер, даже на близнецов. Пока пастор развенчивал христианство в моих, а скорее в своих интересах, я наблюдал, как они болтали, сидя на подоконнике, и задавался вопросом, обсуждают ли дамы предстоящие нам забавы. Вспомнил, что предупредил Даяну о выдумке, предназначенной для Джойс, будто идея организовать оргию принадлежала Даяне, но стоило мне в сопровождении пастора, угрюмо и неуклюже шагавшего рядом, подойти к ним, как сразу понял: мои опасения напрасны. Все настолько хорошо, что лучше не придумаешь: их плечи и колени соприкасались, щеки заливал легкий румянец и каждая в характерной для нее манере бросала на меня заговорщицкие взгляды: Джойс открыто и серьезно, Даяна с наигранным смущением и легкой стыдливостью.
– Мистер Сонненшайн объяснял мне, что такое божий промысел, – сказал я.
Пастор сразу же дернул бедром и противоположным плечом. Он резко произнес:
– Действительно, знаете ли, время от времени я занимаюсь такими вопросами.
– Так что же, по-вашему, божий промысел? – спросила Джойс заинтересованно, вполне дружелюбным и рассудительным тоном, который, согласно моему опыту, означал предостережение.
– Видите ли, я думаю, проще ответить на ваш вопрос, объяснив, что не входит в это понятие. Например, он не имеет никакого отношения ни к адскому огню, ни к заботе о душах человеческих, ни к воскрешению из мертвых, ни к сообществу праведников, ни к грехопадению, ни к раскаянию, ни к исполнению своего земного предназначения, где…
Я набрался терпения для дальнейшего знакомства с перечнем понятий, к которым божий промысел не причастен, однако Джойс тут же прервала пастора:
– Но что же все-таки такое сам божий промысел?
– Я бы сказал… сказал, что… это те дела, которых ждет от нас Господь. – Фраза явно была отмечена лукавством. – Это борьба за социальную справедливость и против угнетения в любом уголке земли, будь то Греция или Родезия, Америка или Ольстер, Мозамбик, Ангола или Испания, или…
– Но это все политика. А что вы скажете о религии?
– Для меня политика и есть религия, в самом прямом смысле этого слова. Разумеется, я могу заблуждаться по поводу целого ряда вещей. И не собираюсь учить людей, как им поступать и что думать…
– Но вы же священник, – произнесла Джойс все так же рассудительно. – Вам платят за то, чтобы вы учили людей правильно думать.
– Простите, с моей точки зрения, ваши представления старомодны.
– Мистер Сонненшайн, – вмешалась Даяна, так резко разделяя его фамилию на три слога, что та стала похожа на китайскую.
Пастор выдержал длинную паузу. А затем спросил:
– Да, миссис Мейбари?
– Мистер Сонненшайн… Вы не испугаетесь, если я задам вам один дерзкий вопрос?
– Нет. Разумеется, нет. Это для меня…
– Какой смысл для человека, безразличного к таким понятиям, как долг, человеческая душа и грех, носить сан священника? Разве не об этих вещах должны заботиться служители Господа?
– Конечно, существуют традиционные…
– Я хочу сказать, что безусловно разделяю вашу точку зрения по поводу Греции и прочих стран, там творятся безобразия, но это всем известно. Не обижайтесь, прошу вас, но среди нас найдется немало людей, которые скажут, что человеку вашего звания не подобает произносить речи… так сказать…
– Телевизионных журналистов в передачах о сегодняшних проблемах, свободе и демократии, – произнесла Джойс еще более рассудительно, чем прежде.
– Видите ли, для этого вы нам не нужны. Мистер Сонненшайн…
– …Да, миссис Мейбари?
– Мистер Сонненшайн, неужели не ясно, что мы, к вашему сведению, люди передовые и широко образованные, и вы слишком много на себя берете, когда обличаете всех и каждого так пламенно и с такой резкостью и нетерпимостью, вместо того чтобы, понимаете ли?..
– Чтобы вести себя как все остальные, – сказала Джойс. Она посасывала шерри, глядя на меня поверх бокала.
– Но человек обязан говорить ту правду, в которую верит, иначе…
– О, вы действительно так думаете? А не кажется ли вам, что самая рискованная вещь на свете – говорить правду? По всей вероятности, это ваше собственное мнение, будто вы знаете всю правду, – закончила Джойс.
– Да. Ну что ж, пусть будет по-вашему. Мне нужно повидаться с майором, – неожиданно выпалил служитель Господа и с такой стремительностью и решимостью выскочил за дверь, что свидание с майором (хотя действительно здесь был такой отставник), видимо, было не чем иным, как фамильным эвфемизмом, обозначавшим потребность облегчиться.
Я повернулся к моим девочкам; раньше мне не приходилось присутствовать на их совместных выступлениях.
– Великолепно, вы его выпроводили наилучшим образом, без малейшего промаха. Не могу удержаться от комплиментов. Приглашаю вас выпить, не возражаете?
Во время моего монолога они переглянулись и обратили ко мне взоры, отнюдь не согретые теплым чувством. Даяна, широко раскрыв глаза, наклонилась вперед:
– Морис, зачем ты притащил сюда это отвратительное занудливое животное?
– Я его не тащил. Он сам выразил желание поболтать с вами, и я подумал, что смогу быть полезен, если отправлюсь с ним…
– Ты не мог его задержать? – спросила Джойс.
– Думаю, что смог бы, если б знал, как это для вас важно.
– Конечно, Морис, ты же видел, что мы беседовали.
– Прошу прощения. Но как бы там ни было, продолжим беседу…
– Хочешь поговорить о сексе на троих? – сказала Джойс, не понижая голоса, словно мы разговаривали на обыденные, менее эмоциональные темы.
– Ш-ш-ш… Да. Итак, что вы…
– Мы решили, что в четыре часа было бы удобнее всего, – сказала Даяна.
– Великолепно, мы могли бы…
– Где? – спросила Джойс.
– Думаю, мы могли бы устроиться в восьмом номере, во флигеле. До понедельника его никто не бронировал. Я предупрежу Дэвида, и он позаботится, чтобы нас не беспокоили.
– Что ты ему скажешь?
– Положитесь на меня.
С Дэвидом я переговорил, как случалось неоднократно и раньше, когда надо было принять даму в моем доме, хотя просить, по обыкновению, занести в номер бутылку шампанского, ведерко со льдом и бокалы не стал, и дело было не в моей скаредности, а в недостатке воображения, ибо объяснить, почему потребуется именно такое количество бокалов, я не мог. Короткий разговор с Дэвидом состоялся сразу же после завтрака в главном зале ресторана. Там был пастор, который полностью пришел в себя после выволочки, устроенной ему девочками; находясь в приподнятом настроении и попивая кофе, он то и дело намеренно придирался к Нику (тот признался мне в этом позднее), но, вероятно, полностью захмелев от трех стаканов «Тейлора» 1955 года, убрался восвояси. Про себя я пожелал ему на пикнике в Ньюхем-гардене окончательно сойти с рельсов. После его ухода я зашел в контору, запер дверь, выключил телефон и постарался сосредоточиться на мыслях об отце.
Скорее всего эта попытка закончилась неудачей, либо потому что связать похороны с памятью о нем самом оказалось трудно, либо в голове, хотя и безотчетно, засела мысль о приближающихся четырех часах, либо недавно ушедшую жизнь еще долго не воспринимаешь, как угасшую окончательно, либо во всем были виноваты пилюли Джека. Холодные и бессмысленные фразы блуждали у меня в голове: он умер легко, он дал мне жизнь, он был в преклонном возрасте, он сделал для меня все, что мог, он видел, как сын и внук стали на ноги и заняли достойное положение, он наверняка знал, что его час придет (как будто это служило ему поддержкой). Он ушел в лучший мир, его тело мертво, но дух жив – трудно что-нибудь прибавить к этому перечню, да и осознать в наше время значение таких понятий тоже было совсем нелегко. Эти слова звучали в мозгу и воспринимались так, словно несмотря на все свои явно ошибочные мотивации, идиот-пастор был прав. Я думал и о том, что обещал ему предоставить доказательства жизни после смерти, связанные с феноменом Андерхилла. Совсем особый случай, касающийся особи, которую и человеком-то не назовешь, от него осталось только имя, скелет и, возможно, нет, безусловно, его появления среди живых. Бессмертие представляется нам либо слишком экзотической, либо слишком несовершенной концепцией, чтобы спроецировать ее на человека, в течение долгих лет бывшего живым существом из плоти и крови. Но можно подойти к этому вопросу с другой стороны, то есть сказать самому себе – постарайся сделать Андерхилла более понятным лично для тебя, более живым, более близким, однако не выпускай из виду и его остраненность, иначе говоря, отнесись к нему в точности так же, как к отцу при жизни.
Я открыл ящик в конторке и из-под груды банковских счетов и оплаченных чеков вытащил шкатулку, в которой находилась серебряная фигурка и рукопись. Я слишком устал прошлой ночью, чтобы внимательно их рассмотреть, а днем ни времени, ни желания у меня не было. Теперь же мне очень захотелось ими заняться. Я поднес фигурку к окну и в ярком солнечном свете стал разглядывать со всех сторон. Только вокруг шеи и ног была заметна коррозия, в остальном она сохранилась неплохо, но, как оказалось, полировка была повреждена. И торс и конечности – почти цилиндрические, чуть-чуть намечена талия; локти, колени и сохранившаяся рука, которая была непропорционально длинной, не имели ни суставов, ни костяшек. Голова не суживалась книзу, макушка казалась почти плоской, а черты лица – едва намеченными; только рот, растянутый в широкую, словно вычерченную по линейке ухмылку, где виднелось полдюжины зубов почта одинакового размера, был детально проработан. Я не сомневался в том, что эта вещица сделана не в Западной Европе и искать ее восточные корни, как я остро ощущал, было бы крайне опрометчиво. Вряд ли она имела отношение к Африке, думалось мне, – если учесть время, когда жил Андерхилл, такое предположение надо оставить лишь на самый крайний случай. Новый свет, культуры доколумбовой эпохи – вот где разгадка ее происхождения: я видел ту же яростную, озлобленную веселость на лицах скульптур ацтеков. И вполне достаточно времени, где-то полтора столетия, чтобы она проделала путь от завоеванной Мексики до Англии времен Андерхилла, однако вообразить какой-либо правдоподобный маршрут ее странствий было довольно затруднительно; хотя, если предположить, что фигурка находилась на каком-нибудь захваченном испанском корабле, то такая версия становилась вполне вероятной. Но каково бы ни было ее происхождение, каким бы путем она ни попала в Фархем, внимательно ее разглядывая, я понял, что это самое отталкивающее создание рук человеческих, какое когда-либо мне попадалось. Даже прикасаться к ней было неприятно: на ощупь она казалась такой же холодной и влажной, как двенадцать часов назад, когда я впервые взял ее в руки, и, от контакта с моими пальцами она не нагревалась, хотя я держал ее уже несколько минут; несомненно, это было следствием каких-то примесей в металле. В общем, не вызывало удивления, почему Андерхилл, видимо, из целой коллекции подобных идолов, воплощающих человеческое скотство, решил взять с собой в могилу именно ее и пользоваться в качестве доказательства своей жизни после смерти.
Я положил фигурку на конторку и взял рукопись, – она была написана на той же бумаге, что и дневник, который я просматривал в кабинете Хобсона в колледже Всех Святых; возможно, первоначально они находились в одном переплете. Текст на листках сильно выцвел, буквы казались почти коричневыми, но прочесть слова было можно. Рукопись состояла из четырнадцати-пятнадцати листов тонкой бумаги и на первых двенадцати было невозможно что-либо разобрать, кроме бессвязных отрывочных предписаний в адрес того, кто откопает рукопись; например: «Не спеши – и возвещу в срок тайну мою. Отдайся мне во власть и узришь великое чудо. Готовься; воздержись от питья ликеров и прочих крепких напитков (по крайней мере к этим требованиям я начал приспосабливаться уже сейчас), пей лишь то вино и пиво, что здоровье укрепляют. Помни, философия сия несет добро, хотя отдельные стороны странными и жестокими выглядеть могут…»
И так далее. Единственная запись, которая стояла особняком и была нацарапана на полях, словно для того, чтобы броситься, в глаза, и, возможно, была сделана Андерхиллом для самого себя (такой род общения с собственной персоной, если помните, был близок и мне), а вовсе не в качестве меморандума в мой адрес, выглядела следующим образом:
«Название деревни Fareham – Фархем; сравни с приютом Фархем в Южном Хемптоншире. О нем ничего не знаю. Похоже на Дальний (far) Дом (home), то есть далекий от человеческого жилья, или на Прекрасный (fair) Дом. Возможно, название произошло от саксонского и готского слова (feor), то есть „fear“ – страх. Таким образом, означает „feorhome“. Другими словами – „Страшное место“.»
Правильно или неправильно определил Андерхилл этимологию этого названия, она не лишена смысла, так же как и мои предположения по поводу различных версий, вскрывающих родословную «Зеленого человека». Но размышления на подобные темы относились к обширным областям человеческих знаний, бесконечно далеких от моих сегодняшних интересов. Я перевернул страницу и снова стал читать рукопись. На последней странице было нацарапано дрожащей рукой полдюжины строк, в которых с трудом узнавался почерк Андерхилла:
«Время мое наступит раньше, чем предполагал. Не мешкая, отпусти слуг; удали из дома всех, за исключением членов семьи, и сам не отлучайся. Сиди в комнате своей, не встречайся с домочадцами. Жди в одиночестве, когда приду. Пусть наш маленький серебряный друг неотлучно при тебе находится – иначе тщетными окажутся надежды твои. А теперь прощай, встреча – впереди».
Только одна из этих инструкций оказалась легко выполнимой, но она, очевидно, и была самой важной. Без всяких колебаний и размышлений, хотя и с отвращением, я взял фигурку и положил ее в левый карман пиджака, который сразу же уродливо оттопырился. Все в порядке, но что делать дальше? Прежде чем собрать бумаги, я перевернул последний лист и заметил на оборотной стороне пару строк. Оки были выведены твердой, неторопливой рукой, как и текст на предыдущих страницах. Я прочел:
«Буду ждать тебя в полночь в своей приемной на следующую ночь после открытий твоих. Приходи один».
Дрожа я вскочил на ноги, испугавшись не того, что прочел, а особенностей чернил: они были темно-синими, почти черными, совсем не поблекшими от времени, словно ими пользовались прямо сегодня. Но разве это возможно?
Меня охватило острое и (как и прежде) беспричинное ощущение – дело не терпит отлагательств. Надо не мешкая найти Люси. Я слышал, как она говорила, что после полудня собирается чем-то заняться. Но чем? Где? Ах, да – пойдет в сад позагорать и почитать. Я схватил бумаги и, выскочив из конторы, через холл и центральную дверь вырвался наружу и помчался вдоль юго-восточного крыла дома. Люси сидела на скамейке посреди полянки, Ник устроился рядом. Неуклюже, то и дело рискуя поскользнуться на сухой траве, чувствуя, как фигурка бьет меня по бедру, я подбежал прямо к ней:
– Люси, посмотри на эти чернила.
– В чем дело?
– Посмотри на цвет чернил. Они свежие, правда?
– Я не нахожу, что…
– Нет, на другой стороне, вот тут. Это свежие чернила, не отрицаешь?
Она заколебалась, но потом все-таки выговорила:
– По-моему, свежими они не выглядят, – и протянула бумагу обратно.
Разумеется, она была права. Буквы на обеих сторонах листа были блеклыми и коричневыми. Как бы я ни торопился, это, видимо, ничего бы не изменило. Он мгновенно сделал их блеклыми или, скорее всего, минуту назад создал впечатление, будто текст только что написан. Я заметил, что на Люси был купальник цвета морской волны со спущенными лямками, а на коленях лежала книжка в яркой обложке, и она выглядела немного осоловевшей от солнца. Ник взял от меня бумаги, посмотрел на них, затем начал читать. На нем были спортивные шорты и сандалии.
– Нет, мне показалось, – произнес я. – Теперь я все хорошенько разглядел. Не знаю, что со мной приключилось… Возможно, дело в освещении. В конторе темновато. Да, именно свет всему виной. Пока его не зажжешь…
– Что это такое, папа? – спросил Ник.
– А, это… думаю, часть какого-то письма или что-то в этом роде. Я его нашел.
– Где?
– О, разбирал старый шкаф, а оно завалялось внизу, под каким-то барахлом.
– В таком случае, как оно могло быть написано свежими чернилами?
– Не знаю. Просто мне так показалось.
– А что означает какой-то серебряный друг и открытие?
– Не знаю. Не имею ни малейшего представления.
– Ладно, тогда почему ты так взволнован? Ты…
– Не имеет значения.
Знакомая машина завернула во двор через центральный въезд, это был зеленый «мини-купер», принадлежащий Мейбари. Некоторое время я думал, что на меня как снег на голову свалился Джек со всеми его пилюлями и полезными советами, затем рассмотрел за рулем Даяну и все вспомнил.
– Не беспокойся, Ник, – сказал я, забирая бумаги. – Прости, что потревожил вас… Забудь об этом.
Я зашел в дом, сложил бумаги, хотя от моей спешки они вывалились у меня из рук, и снова запер их в ящике. Именно в тот момент, когда я покидал контору, Даяна через центральную дверь входила в дом, а Джойс спускалась по лестнице в холл. Обе после ленча переоделись: Даяна – в коричневую блузку и зеленые брюки, а Джойс – в короткое красное платье из какого-то блестящего материала; холеные, с серьгами в ушах и бусами на шее, они выглядели так, словно собрались на званый обед в саду перед домом. Когда секунда в секунду, будто отрепетировали заранее и даже превзошли собственные результаты, мы сошлись в бельэтаже, дамы воздержались от обычного при встречах поцелуя, что в данных обстоятельствах выглядело несколько странно. Джойс казалась еще более спокойной, чем всегда. Даяна была возбуждена и нервничала, ее расширенные глаза изредка мигали. Воцарилось непродолжительное молчание.
– Прекрасно, – сказал я, – нет смысла задерживаться, согласны? Пошли. Буду показывать дорогу.
Сказано – сделано. Мы пересекли пустой освещенный солнцем двор, подошли к флигелю, поднялись по лестнице и направились вперед по коридору, на стенах которого были развешены мои далеко не лучшие фотоснимки. Номер восемь находился в самом конце; я открыл его и запер за нами дверь. Постель была раскрыта, но из-за отсутствия личных вещей комната выглядела официально, как рабочее помещение; я вспомнил, как прошлым летом после полудня проснулся в этой самой постели и испытал чувство, будто меня поместили в выставочный зал универсального магазина. Я раздвинул занавески. Снаружи все погрузилось в глубокий покой: и солнце, и небо, и вершины деревьев. Я ощущал не столько возбуждение, сколько признательность за благополучный ход событий, что казалось почти невероятным.
Дамы переглянулись, а затем уставились на меня в точности так же, как в баре перед ленчем, когда обрушились с обвинениями за вмешательство в их беседу. Я улыбался и той и другой, стараясь определить, с чего начать.
– Ты ждешь от нас каких-то действий? – деланно спросила Даяна с едва заметным нетерпением в голосе.
– Давайте для начала разденемся, – сказал я.
Раздеваясь, женщина всегда может опередить мужчину, если проявит сноровку, а две женщины тем более в грязь лицом не ударят. Уже нагишом, несмотря на свои серьги и бусы, Джойс и Даяна обнявшись стояли у постели, пока я никак не мог справиться со вторым ботинком. Когда же наконец удалось к ним присоединиться, они уже лежали спинами ко мне и плотно прижимаясь друг к другу. Я устроился рядом с Даяной и стал целовать плечи, одно ухо и шею сзади, хотя ни один ее мускул не дрогнул в ответ. Я понял, что мне не удастся просунуть ладонь под руку Даяны, потому что снизу место уже было занято запястьем Джойс. К груди Даяны я смог подобраться только сбоку, ибо со всех других сторон та была перекрыта бюстом Джойс. Когда я несколько сместил вниз точку приложения сил, бедро моей жены превратилось в непреодолимое препятствие. Тогда я решил расположить партнерш согласно тем предписаниям любовных игр для троих, которые вчера вечером, не заботясь о тонкости выражений, выдала сама Джойс. Для этого в первую очередь надо было развернуть ее бедро, но оно не поддавалось. Перевернуть Даяну на спину не стоило и пытаться, так как ее собственное бедро попало в клещи между ногами Джойс. Человека всегда очень трудно сдвинуть с места без его помощи, но и та, и другая категорическим образом мне в таковой отказывали.
Так что же они делали сами? Целовались. И целовались, можно сказать, взасос, прижимаясь друг к другу с глубокими и протяжными вздохами. А что еще? С моего места было трудно что-то разглядеть, но руки Джойс я видел: одна находилась под головой Даяны, другая – у нее на талии; их объятия с самого начала были такими тесными и самозабвенными, что третьему здесь места не было. Обратить на себя внимание я бы сумел лишь вклинившись между ними, но очень сомневаюсь, чтобы их волновали мои проблемы. Я сказал самому себе, что не отступлю ни за что, затем произнес фразу вслух, добавив кое-что похлеще, но не переходя границ, без воплей и грубостей; обошел кровать и попробовал добиться победы с другой стороны, рядом с Джойс, но от перемены места результат не изменился.








