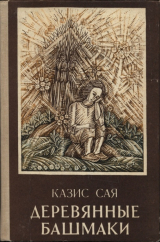
Текст книги "Деревянные башмаки"
Автор книги: Казис Сая
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 10 страниц)
– А инструмент, гвозди где, у кого?
Парень пожал плечами – видно, кому очень нужно было, как-то выкручивался.
То, что я назвал себя керамиком, помогло мне с горем по полам выклянчить у коменданта кровать. Сейчас мы спим на ней вдвоем. Пранас и без того в два раза толще меня, а уж когда ему снится драка, я оказываюсь на полу. Ничего не поделаешь – каюсь, терплю муки за свое вранье. Говорят, кое-кто с нашего курса уже собирается навострить лыжи, домой вернуться. Ну и пусть, скатертью дорога, койка нам останется.
…Сдав зимой экзамены, я получил стипендию и стал собираться домой. Теперь у меня был лыжный костюм, я приобрел легкий картонный чемодан, который набил гостинцами для домашних: дяде купил сигарет, тете – ее любимую копченую треску, а бабке – кило сахару.
Я хотел сделать им сюрприз, поэтому заранее не предупредил о своем приезде. А день в середине зимы долго ли тянется? Вылез я после обеда из вагона, покуда добрел заснеженными пригорками, солнце уж багровым стало.
Поднялся я на последний холмик, остановился дух перевести и вздрогнул: горит! Дядина избенка горит!
Какое счастье – я ошибся! Вот радость-то! Это не огонь, это солнце отражается в окнах!
На дворе оттепель, окошки оттаяли, я вижу чье-то лицо… Наверное, это дядя или тетя, смотрят и удивляются: кто же там пожаловал? Неужели Казис?..
Вытянулся я за эти полгода – пришлось даже манжеты отогнуть, чтобы удлинить брюки.
«Надо будет, – подумал я, – свозить когда-нибудь дядю Игнатаса и тетю к морю…»


ТОЛЬКО НЕ ЗАБУДЬ ПРО АСТРЫ…
(Рассказ Ару́наса)
Учитель Ви́ржинтас расхаживает по классу и с сосредоточенным видом раздает тетрадки с контрольными по математике. Ребята перешептываются, нетерпеливо ждут. Вот за одной партой раздается тягостный вздох, а за другой радостно взвизгивает отличница. Я же, небрежно развалившись на скамье, с презрением думаю о них: «Нашли, чему радоваться, чему огорчаться… Подумаешь, отметка. Чепуха. О людях не по отметкам судят. Желторотые – что с них возьмешь…
Но вы только поглядите на Виржинтаса! Что за глубокомысленный вид! Точно у него зуб разболелся. Можно подумать, он не тетрадки, а награды раздает… Будто, кроме его математики, на свете и нет ничего стоящего. Голова формулами нафарширована, а в сердце и на копейку чувств не наберется. Интересно, когда он мою тетрадку отдаст? Под самый низ засунул. Чего доброго, еще нотацию прочитает…»
Мой товарищ по парте Зи́гмас получил пятерку и покраснел как помидор. Вы только посмотрите, как человек ожил! И сразу язык развязался. Шею вытянул, знай вертится, знай донимает каждого:
– Ну сколько? Сколько получил?
– Тройку, казенную…
– Ты – тройку? Не может быть…
А сам так и сияет от радости, так и пыжится, что другой меньше заработал. Тартюф! Пусть только попробует выразить мне сочувствие. Как заеду по его начищенному ботинку, а потом вежливенько так извинюсь. Пусть не двуличничает, зубрила несчастный…
В этот час я готов был уничтожить всякого, кроме, разумеется, Нийо́ле. Это она сообщила мне сегодня утром, что ее папаша влепил мне двойку. Сейчас мне предстояло пережить эту новость во второй раз.
Будь я лодырь, увиливай я от учебы, тогда мог бы винить только себя и не брало бы такое зло. А тут кто виноват? Почему другие предметы даются мне легко? Я всегда испытываю какую-то робость в присутствии Виржинтаса. Он никогда запросто, по-человечески не улыбнется на уроке, не пошутит. Нийоле говорит, отец хочет заразить своей серьезностью класс. Да, но что с того? Самую обыкновенную задачку он диктует с такой многозначительной миной, будто это по меньшей мере уравнение с тремя неизвестными. И ребята теряются. По-моему, даже самую трудную и сложную работу – скажем, конструировать самолеты – можно делать с улыбкой, с юмором.
Просто удивительно, до чего Нийоле не похожа на своего отца! Веселая, живая и такая воздушная – кажется, ветер подхватит и унесет. Я думаю о ней, а она, надеюсь, обо мне, потому что я чувствую за спиной ее взгляд. Обернуться или нет? Ну и пусть видит, что я не в духе…
Виржинтас протягивает мне тетрадь. Рядом с горбатой двойкой каллиграфическая надпись красными чернилами: «Нужно думать, а не ворон считать».
Ворон… При чем тут вороны? Наверняка заметил, как мы с Нийоле прогуливались. Старый хрыч!
– Сколько? – Зигмас сует свой сопливый нос в мою тетрадку и, увидев двойку, сочувственно прищелкивает языком.
– Чего расчавкался, как поросенок!..
И я уже собирался лягнуть этого притвору, как тут заметил в тетрадке крохотный клочок бумаги: «Не унывай и не дуйся. Если не будет дождя, в семь встретимся в парке. Н.».
И тут я почувствовал, как тает мое раздражение, точно сосулька, и сердце заливает теплой водой. Даже Зигмас кажется мне сейчас вполне свойским парнем. Раз уж языки для него твердый орешек, пусть хоть отметками по математике порадуется.
В окно заглядывает солнце. Виржинтас принимается объяснять наиболее типичные ошибки, но солнечные блики на доске мешают нам разглядеть что-нибудь.
Ну, нет, сегодня дождя не будет. Сегодня выдастся солнечный, чудесный денек бабьего лета…
К вечеру все же разыгралась непогода. Ветер, как разгулявшийся подпасок, гонял по небу стадо свинцовых туч. Тяжелых, рузбухших, которые, однако, на наше счастье, не пролились дождем. Западный ветер трепал нам волосы, толкал в спину, сбивал с ног, но мы с Нийоле не искали укрытия. Взявшись за руки, мы брели, вороша ногами опавшие листья. На душе у меня все еще было муторно из-за той проклятой двойки, поэтому я, точно желая оправдать свое настроение, завел разговор о математике.
– Мы – дети природы, а в природе нет ни правильных окружностей, ни квадратов. Нет прямых линий. В природе вообще нет математики!
– «Без математики люди не смогли бы вылезти из своих нор» – так говорит мой отец, – будто невзначай возразила Нийоле.
– Пора бы уже тебе иметь собственное мнение, – поддел я ее. – Но раз уж ты сама заикнулась, скажи, это правда, что уважаемый товарищ Виржинтас носит калоши вместо изоляции, чтобы его в грозу не ударило?
Нийоле посмотрела на меня с горьким упреком, и я заметил, что ее знобит. И еще я понял, что мне нужно научиться владеть собой…
– Не сердись, – смягчился я, но продолжал начатую мысль. – Сама погляди: люди, которые имеют хоть какое-то отношение к цифрам, становятся бездушными педантами. Без поэзии, без чувства. Пошли за деревья – тебе холодно.
Мы остановились у своих любимцев – дуба и липы. Ветки их переплелись и поскрипывали на ветру.
– Переругиваются… – пошутил я. – Видно, липа – математик, а дуб – нет. Поэтому он такой зеленый и здоровый…
– Нет, они не похожи на нас. Они мирно беседуют, – невесело ответила Нийоле и снова замолчала.
– Нийоле, что с тобой? Ты не в духе? Озябла? Я тебя огорчил?
– Нет, – вздохнула она. – Отец не разрешил пока об этом никому говорить. Похоже, мы скоро отсюда уедем.
– Уедете? Куда?
– Его в Клайпеду приглашают. В сельскохозяйственный техникум. Он еще окончательно не решил, но, скорее всего, поедет. Будет у тебя новый математик. Лучше старого.
– Да, но, значит, и ты уедешь!
– И я…
– Тогда и я с тобой. Брошу гимназию, буду осенью в техникум поступать.
– Не болтай чепуху.
– Вот видишь…
Ни о чем я ее больше не расспрашивал, ничего не обещал, только обнял и просил побыть со мной еще немного.
– Пошли. Проводи меня, – попросила она. – Мне и в самом деле холодно.
Мы впервые, не таясь, дошли до самых ее дверей. В комнате учителя горела настольная лампа и за занавесками виднелась тень Виржинтаса, склонившегося над стопкой тетрадок.
– До завтра, – сказала Нийоле.
– До завтра…
Однако на следующий день Нийоле в школу не пришла. На первом уроке мне дважды сделали замечание за то, что я не слушаю объяснения учителя. Я пытался сосредоточиться, но мне не давала покоя вчерашняя новость. Почему Нийоле сегодня нет? Может, она помогает отцу собираться? Виржинтаса я сегодня утром тоже не видел. У кого бы выяснить? Нийоле просила, чтобы я об их отъезде никому не говорил.
На перемене я подошел к учительской. Калоши Виржинтаса стояли у дверей!
Калоши Виржинтаса… В прошлом году, когда я учился во вторую смену, Нийоле частенько оставляла мне в этих калошах записку. На уроке я писал ответ, и учитель Виржинтас, ни о чем не догадываясь, приносил ее в калоше домой. Разумеется, мы с Нийоле могли найти и другой способ, могли просто встретиться где-нибудь и поговорить. Но разве это интересно? Нам обоим доставляла удовольствие тайна нашей оригинальной почты, и мне – в особенности. Ведь этим я мстил математику за его строгость, за двойки, за замечания под ними…
Вот и сейчас, убедившись, что меня никто не видит, я заглянул в калошу, потом в другую… Есть! Браво, Нийоле! Расправив треугольное письмецо, я прочитал: «Я так и знала, что заболею. В парк пришла с температурой, а тут еще этот ветер… (Я не жалею, ты не думай.) Жду врача. Наверное, грипп. Насчет отъезда пока ничего нового. Не грусти. Н.». Это я виноват, я ее вчера простудил, покуда, как дурак, изливал желчь на математику. Видел же, что ее знобит, что щеки горят, и не предложил свой плащ. А она мне – «не грусти»…
Сейчас я любил ее еще сильнее и готов был чем угодно искупить свою вину. Но как это сделать? На уроке математики неожиданно для себя вызвался отвечать у доски. Виржинтас гонял меня по всему курсу, но я не сдавался. «Сдайся!» – екало от страха сердце, но я не отступал. Вспомнил, сейчас докажу, вот как надо!.. Под конец Виржинтас сказал:
– Давно бы так, – и поставил мне четверку.
На большой перемене я сунул в калошу ответ: «Обнаружив твое письмо, чуть не расцеловал от радости «почтовый ящик». Поправляйся скорее, отдавай мне свою болезнь и никуда не смей уезжать. Если тебе трудно писать, черкни только одно словечко – уезжаете или нет. Жду завтра. Арунас».
Четверкой решил пока не хвастаться. Пусть лучше сам Виржинтас об этом расскажет.
На следующий день я пораньше пришел в класс и с нетерпением стал ожидать появления калош возле учительской. Первым уроком у нас должна быть геометрия, но до звонка не было ни калош, ни Виржинтаса. И снова меня охватило беспокойство: Виржинтас еще ни разу не опаздывал на урок.
Уже угомонились за стенкой второклашки, за другой стеной тоже начался урок, а мы продолжали ждать.
Наконец в коридоре послышались мелкие шажки, и в класс вошла учительница пения.
– Добвое утво! – она почему-то не выговаривала «р».
– Здвавствуйте!.. – довольно загудели все и со стуком стали прятать в парты учебники.
«Все, – подумал я. – Виржинтас даже с классом не попрощался…»
– А сегодня что, совсем математики не будет? – догадалась спросить староста.
– Может, и не будет, – равнодушно ответила учительница и повесила на доске плакат с текстом новой песни.
За окном полоскал дождь, а в песне говорилось о солнце, о счастье, о цветах – видно, оттого она и показалась мне такой наивной, приторной и просто-напросто глупой. Не было Нийоле – нашей замечательной певуньи…
Какова же была моя радость, когда на следующий урок в класс неожиданно вошел все такой же величественный и строгий математик. Он сухо извинился за то, что пришлось поменять уроки, и велел выложить тетрадки с домашними работами.
Урок показался длинным, как последняя четверть. Не успел зазвенеть звонок, и я вихрем понесся к дверям, чтобы поскорее найти калоши учителя.
В своей записке Нийоле написала всего несколько слов: «В этом году не едем». А ниже другим почерком и другими чернилами было дописано: «У Нийоле воспаление легких. Она в больнице. Завтра после уроков сможешь навестить. Второй этаж, 23 палата. Только не забудь про астры…»
Я узнал каллиграфический почерк учителя Виржинтаса…


УКРАДЕННЫЕ СЕКРЕТЫ
(Рассказ Гинтаутаса)
После большой перемены в классе стоит кислый запах хлеба, невыносимо клонит ко сну. Учитель биологии и географии Мусте́йкис, крупный, по-слоновьи неуклюжий мужчина с заспанным лицом, гундосит что-то про «солнечный Таджикистан» и ходит из угла в угол, точно подыскивая удобное местечко, чтобы прилечь. Из кармашка его широкоплечего пиджака торчит длинная металлическая расческа, которой учитель время от времени почесывает свой лысеющий затылок и показывает на карте границы государств, их столицы и моря.
Все привычки Мустейкиса нам давным-давно знакомы, мы выучили их наизусть, как осточертевшую таблицу умножения, как инициалы, вырезанные на старой парте.
Мустейкис преподает биологию, и ты после его уроков начинаешь ненавидеть цветы, которые «ассимилируют» и «диссимилируют» …Во время уроков географии у будущих Колумбов начисто испаряется всякое желание совершать путешествия в далекие края. «Солнечный» Таджикистан кажется серым, пыльным и унылым. Настроение у всех становится пасмурное. Одни приканчивают со скуки недоеденный завтрак, другие потихоньку переписывают упражнения по английскому.
На предпоследней парте в среднем ряду, то и дело зевая, сидит Алду́те. Та самая, о которой Мари́те однажды сказала: «Ты была бы самая симпатичная девчонка в классе, если бы умела одеваться». Алдуте слегка порозовела, слегка рассердилась и слегка задумалась. В тот день тоже был урок Мустейкиса – «солнечный Узбекистан»… Алдуте полушутя-полусерьезно вывела в тетрадке по географии жирный заголовок: «Что необходимо для того, чтобы я была симпатичной?» – и протянула тетрадь подружке. Марите подумала немного, грызя ручку, и принялась строчить:
«1. Остриги эти дурацкие косы и сделай модную прическу.
2. Если не хочешь смахивать на сороку, пореже надевай школьную форму.
3. Побольше самостоятельности и…»
И тут учитель вызвал Марите к доске. Рецепт красоты остался недописанным.
Сегодня Марите нет в классе. Алдо́на незаметно прислоняет к учебнику зеркальце и, откинувшись, смотрит, на сколько ей укоротить «эти дурацкие косы».
– Буконта́йте! – выкрикивает Мустейкис, причесывая на карте Таджикистан. – Буконтайте!
Алдона выскакивает и смущенно глядит большими серыми глазами на учителя. (Эти глаза смягчили не одну суровую душу и не раз обрывали готовый сорваться упрек.)
– О чем мы сейчас говорили, Буконтайте?
Поспешно спрятав зеркальце, Алдуте молча кусает нижнюю губу: дескать, напряженно думает.
– Ты видела, что я показывал на карте?
– Горы… – попыталась угадать Алдуте.
– Ах, вот как? Так, может, соизволишь сказать, какие?
– Каракуль… Каракуль!.. – услышала Алдуте за спиной шепот Ги́нтаутаса. – Вспомни воротник на своем пальто.
– Каракулевые горы, где пасутся овцы, – ответила она учителю.
В классе послышался разноголосый смех. А Гинтаутас разошелся так, что парта под ним дрожала.
– Красота!.. – осклабился Мустейкис. – В озере овцы, в горах рыбы, а в классе, оказывается, и ослы водятся… Буконтайте, убери-ка зеркало и изволь глядеть на карту – еще раз показываю, где находится озеро Кара-Куль.
Тем временем Алдуте, обернувшись, бросила Гинтаутасу:
– Верблюд!..
Учитель долго еще тычет расческой в таджикские озера, города и вершины, а Алдуте продолжает стоять точно голая – она знает, что тот нарочно, в наказание оставил ее стоять.
– Эй, Алдонка, – слышит она снова шипение Гинтаутаса за спиной. – Ты нам панораму Душанбе заслоняешь.
Алдона оборачивается, чтобы нанести этому остряку удар в самое уязвимое место, но от досады лишь беззвучно разевает рот, не находя слов. Мустейкис же еще сердитее стучит расческой по столу:
– Если тебе неинтересно, Буконтайте, можешь покинуть класс!
Учитель делает паузу, видя, что Буконтайте скорее расплачется, чем выйдет, и наконец разрешает ей сесть. Сейчас Алдуте уже другая: вся красная, она сидит, подперев руками голову, и с сожалением захлопывает все дверцы и окошки своей души. Внутри делается темно, спокойно и, конечно же, грустно. Алдоне кажется, что с этого дня она всегда будет жить вот так, с наглухо запертыми ставнями, и никто никогда не услышит ее задорного смеха, ни с кем больше она не будет дружить и ни к чему ей стараться стать самой симпатичной девочкой класса.
Алдуте открывает в тетрадке по географии новую страницу и начинает писать все, что только приходит в голову, – мысли, которые можно будет со временем перенести в будущий дневник.
«Учителя географии я зову Баобабом, – написала она в отместку Мустейкису. – Он и вправду похож на толстое сонное дерево, ветки которого можно без труда пересчитать по пальцам, и никакой птице не захочется вить на них гнездо. Пустил Баобаб корни в нашей унавоженной пригородной почве, разросся, обленился, а дух его, может статься, паривший когда-то орлом, опустился на землю, отъелся и ковыряется теперь под забором вместе с курами жены Мустейкиса».
Образ Баобаба она одолжила из «Маленького принца» и теперь размышляла, с кем бы ей сравнить другого своего недруга – Гинтаутаса…
«А этому извергу, что вечно торчит у меня за спиной, еще не подобрала прозвище, – призналась она в тетрадке. – Я его называю Кривоносым, Страшилой и Верблюдом. А Г. лишь таращится на меня своими телячьими глазами – хоть недоуздок на него надевай да привязывай где-нибудь на лужайке. Я ему так и сказала, а он, в ответ: вот и хорошо… Это ничтожество готово снести от меня любое оскорбление, зато потом он сможет изводить меня своими плоскими бездарными шуточками.
В нашей школе, – продолжала писать она, – днем с огнем не сыщешь Человека, можно найти разве что его тень… Да-да, увы, только тень… И кто бы мог подумать, что он когда-нибудь женится на нашей учительнице музыки Тере́се, которую мы называем Теркой?.. Когда он спросил меня на прошлой тренировке, почему я перестала выдавать результаты, я ему так и ответила: видно, моя спортивная звезда закатилась… Только он, разумеется, ничегошеньки не понял. Вот так я и очутилась темной беззвездной ночью на распутье… Что лучше? Замкнуться в себе и уйти в искусство, науку или…»
И тут она снова слышит басок Мустейкиса:
– Высочайшую вершину Таджикистана нам покажет еще раз Буконтайте. Прошу подойти к карте, так сказать…
Когда взмокшая Алдуте возвращается на место, она видит, что тетрадки по географии нет. Девочка испуганно вытаскивает и перелистывает книжки, заглядывает под парту и, побледнев, тормошит сидящих впереди подруг:
– Вы случайно не брали мою тетрадку по географии?
Те мотают головами.
– Вы не видели, кто взял мою тетрадь? – обращается она к соседям слева и справа. – Ги́нтас, это не ты взял?
– А как она выглядела?
В глазах Гинтаса мелькает злорадный огонек, и Алдуте становится ясно, в чьи руки попали ее заметки, рисунки, рецепты красоты…
– Гинтас, отдай, – просит она как можно спокойней.
– Покукуй, тогда отдам.
– Гинтас! Я учителю скажу.
– Не скажешь…
– Болван, осел, тюхтя, больше никто!..
– Знаю, – говорит Гинтас. – К тому же «Кривоносый и Верблюд с телячьими глазами…»
Звонит звонок на перемену. Точно проснувшись, класс моментально оживает. Оглушительно хлопают крышки парт, и ребята, оттеснив замешкавшегося у стола учителя, опрометью бросаются к дверям. Гинтаутас выкатывает из-под парты мяч и, виновато ухмыльнувшись, косится на Алдуте.
– Хулиган! – бросает Алдона и с демонстративным видом остается плакать за партой. Но Гинтаутас все-таки уходит. Даже не обернувшись.
Едва дежурный с географическими картами в руках скрывается за дверью, Алдона подскакивает к парте, за которой сидит Гинтаутас, вытаскивает оттуда его старенький, потрепанный портфель, в котором белеет поллитровая бутылка с молоком, и лихорадочно роется в тетрадях, книжках… Ее записей нет как не бывало.
Тогда она выбегает на двор: а вдруг этот паршивец взял их с собой и теперь читает там? Но Гинтаутас увлеченно играет в волейбол. Где они еще могут быть? Что делать?
Звонок на урок.
Алдуте снова садится за парту, подпирает руками голову и внимательно следит за каждым возвращающимся в класс. Может, Зигмас? Он сидит в соседнем ряду. Ведь не могли же устроить такое свинство девочки, сидящие перед ней. Гинтас, по обыкновению, неопределенной ухмылкой отвечает на Алдонин взгляд, в шутку замахивается на нее мячом и садится на свое место.
– Эй! – слышит она минуту спустя. – Кто в моих книгах рылся?
В это время входит учительница английского языка. Гинтаутас дергает Алдону за косу:
– Ты обыск делала?
– Я.
– Гляди, – показывает он. В просветах между пуговицами его полосатой рубашки виднеется синяя тетрадка.
– Sit down, – говорит учительница.
– Негодяй! – бросает Алдуте Гинтасу.
– Jes… – спокойно соглашается тот.
Алдуте видит, что злостью ничего не добьешься.
– Гинтас, отдай, ну Гинтя́лис… – умоляет она.
Гинтас молчит. Немного времени спустя протягивает Алдуте записку: «Не проси, так скоро не получишь. Трофей еще не изучен. По дороге домой продиктую условия. Укрепляй свой дух и жди у речки».
После уроков Гинтаутас отправился к речке, остановился возле мостика, поджидая Алдону, и отыскал взглядом буквы «АБ», которые он в прошлом году вырезал на перилах. Алдуте наверняка не раз касалась перил своей нежной рукой, но букв, пожалуй, не заметила.
Гинтаутас вспомнил про тетрадку, и его снова охватило любопытство: захотелось прочитать ее от начала до конца. Но в это время показалась запыхавшаяся Алдона.
– Ну! Быстренько давай тетрадку сюда, и я пошла.
– Постой… – усмехнулся он. – Я еще не все прочитал.
– Ты не имеешь права это читать. Гинтас, ну отдай… Добром прошу.
Гинтас с нескрываемым восхищением глядел на ее губы, глаза, теннистые тапочки, белые носки и улыбался.
– Скажи, Гинтас, – продолжала она, – за что ты меня ненавидишь? За что терзаешь?
– Это ты ненавидишь, а не я…
– Брось хулиганить, отдавай скорей. Иначе я твоей матери пожалуюсь. К твоим родителям пойду, честное слово.
– Милости просим… На нашу косулю поглядишь…
– Сейчас о тетрадке речь.
– А мне так хочется, чтобы ты пришла… – у Гинтаса ни с того ни с сего запылали уши, и он перевесился через перила, будто желая коснуться ими воды.
– А если я пообещаю, что приду, отдашь? – спросила Алдуте.
– Вряд ли… Я для тебя наказание почище придумал.
– Наказание?! За что!
– В воскресенье в школе вечер – придешь?
– Не знаю, погляжу…
– Хочешь, не хочешь – придешь, – сказал он, теребя портфель. – Я буду ждать тебя тут ровно в полдевятого. Потанцуем… А потом я провожу тебя домой и верну твою тетрадку – не съем же я ее в самом деле…
– А если я не приду?
– Тогда попробую съесть… Буду хулиганом, дрянью, ослом и так далее.
Боясь, что Алдона, чего доброго, расплачется, Гинтас круто повернулся и, улыбаясь, пошел прочь. Пройдя довольно большое расстояние, он вытащил из-за пазухи тетрадь и, замедлив шаг, просмотрел написанное он начала до конца. За названиями государств и столиц шли цветочки, монограммы и смешные кривоносые рожицы, под которыми было написано: «Абориген», «Страшила» или еще какое-нибудь его прозвище.
Ему доставляло радость видеть на каждой странице упоминание о его персоне. Злые прозвища в Алдониной тетрадке казались Гинтасу забавными и приятными комплиментами. Ласковые, добрые слова отчего-то скромнее злых точно так же, как соловьи и жаворонки пугливее нахальных ворон или сорок. «Эй, ты, мокрая курица, – тычет он Алдуте в спину, – покажи решение задачки». – «На, – слышится в ответ, – только не заляпай снова своими жирными лапами…»
Эту тетрадку Гинтас схватил вовсе не для того, чтобы копаться в чужих тайнах. Он хотел тайком написать ей что-нибудь приятное, то, чего он не решился бы высказать вслух. Но вот, открыв тетрадку, он прочитал последний секрет Алдуте и, вспыхнув, сунул тетрадь за пазуху.
Желая объяснить все, как было, Гинтаутас в тот же вечер сел писать Алдуте письмо.
«Ночь, тишина. Все сладко спят, а я надумал…»
Нет, не те слова. Гинтас перечеркнул крест-накрест написанное и стал слушать, как по стеклу барабанит дождь. «Ночь, тишина, – снова назойливыми мухами сели на бумагу те же слова. – На небе замерцали звезды. А я сижу в комнате один-одинешенек…» Тьфу!.. Гинтас разорвал лист и швырнул в угол. Потом долго листал томик стихов Саломеи Нери́с, все искал вдохновения и наткнулся на такое четверостишие:
Тебе я весны первый день подарю
И нежных фиалок букет этот скромный.
И с ветром весенним я ввысь воспарю.
Давай улетим – в мир душистый, огромный.
Именно это Гинтас и хотел сказать Алдуте. Именно это. Этими стихами он и начал свое письмо, и написал в нем много слов, которые напоминали соловьев… «…Ты, – писал Гинтас, – похожа на косулю, которую я растил зимой и которую я так хотел, чтобы ты увидела, погладила. Но вчера я выпустил ее в лес, и она не вернулась. Нынче в лесу так хорошо, а осенью она, наверное, вспомнит обо мне и вернется на зиму к нам. Я слышал, что и ты на все лето уезжаешь в Палангу. А я останусь дома и буду очень-преочень ждать осени…»
Окончив черновик, Гинтас аккуратно переписал все начисто, и, лежа потом в постели, долго думал о предстоящем воскресенье, о том, как Алдуте будет танцевать с ним вальс, который он недавно разучил, и как он прочитает ей свое письмо.
И еще одна приятная деталь: завтра Гинтас заберет у портного новенький костюм. Темно-серый в голубую полоску.
– Нет, нет, не завтра, а уже сегодня, потому что первые петухи пропели о начале нового дня.
Ясное дело, важно, что у человека внутри – чтобы не шелуха была, но и костюм вещь немаловажная. Вчера еще Гинтаутас казался косолапым шалопаем, увальнем, как обзывала его Алдуте. Девчонки обходили его стороной, будто это дупляк с оттопыренными сухими ветками, боясь порвать юбку, а сегодня только зырк-зырк, верть-верть да шу-шу-шу: красивый парень этот Гинтаутас – костюм с иголочки, ботинки сверкают, рубашка снежной белизны.
На дворе сеет мелкий холодный дождик. Жаль костюма, но поношенная, драная одежда способна сразу испортить весь вид. Пусть его, Гинтас может и под елкой поторчать.
Кто-то идет. Под зонтиком, лица не разглядишь. Нет, скорее всего, не она. Алдуте не ходит вперевалочку, как утка. Алдуте как косуля. Нет, не Алдуте…
Вон, вон она!.. Но кто это с ней? Может, она нарочно пригласила какого-нибудь знакомого? Нет, слава богу, не она. Толстуха какая-то. Алдуте та потоньше.
Дождь добирается до Гинтаса и под елкой припускает сильнее. Да, плащ бы тут, конечно, не помешал. В такую непогоду и Алдуте может не прийти. И косули, чего доброго, прячутся где-нибудь в чаще…
Она! В молодых елочках мелькает прозрачный целлофановый плащ. Девочка глядит в сторону мостика, надеясь увидеть там Гинтаутаса.

– Алдуте! – окликает он. – Я здесь…
– Ого, какой ты нарядный!.. – сразу же замечает Алдуте. – Тетрадку не забыл?
– Вот она, в кармане…
– Так, может, сразу и отдашь?
– Отдам, конечно… Пошли, торжественная часть уже кончилась. Слышишь музыку?
– Знаешь что, Гинтас, – сказала Алдона, держа его за пуговицу пиджака, – верни лучше сейчас. Я и так столько переволновалась за эти два дня… Отдай тетрадку, и пошли.
Она смотрела на него такими умоляющими серыми с голубизной глазами, так ласково прикоснулась к его пиджаку… Как та косуля, что впервые робко потянулась к Гинтасу мордашкой и вырвала из его ладони пучок клевера. Гинтаутас без колебаний вытащил тетрадь и протянул девочке:
– На. Спрячь и никому не показывай.
– Спасибо за совет… – Алдуте ловко схватила записи и на ее лице мелькнула злорадная усмешка. – Я сказала «пошли», но не сказала, что на танцы. Мог бы, конечно, и проводить, но раз уж на дворе дождь, могу сказать и тут: никогда я с тобой не буду танцевать и дружить, Гинтас. Никогда! Прощай! Спокойной ночи!
Гинтаутас хотел сказать ей что-то, но Алдуте, не слушая его, разорвала тетрадку пополам, потом еще и еще раз надвое, швырнула обрывки в речку и, накинув на голову белесый плащ, побежала к дому, так ни разу и не обернувшись.
А Гинтас еще долго стоял, опершись локтями о перила, и смотрел, как быстрая речка полощет пестрые обрывки бумаги и развешивает их для просушки на прибрежном лозняке.









