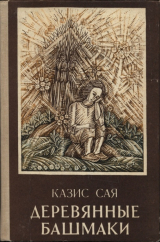
Текст книги "Деревянные башмаки"
Автор книги: Казис Сая
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 10 страниц)
– A-a, это Те́корюс, – узнал его Феликсас. – Папаша его властям пятки лижет, у евреев добра награбил.
– Что ему от нас-то надо?
– Откуда я знаю…
Я шел на шаг сзади и заметил, что у Феликсаса уже рука затекла. И сноп уже не кажется таким легким, как до этого, да разве теперь отдохнешь! Не выдержав, Текорюс пошел со своим велосипедом нам навстречу.
– Эй, головастики, куда солому волочите? Что поджечь собираетесь?
– Домой, – ответил Феликсас.
– Ты, часом, не заблудился? Твой дом в другой стороне.
– Зато мой в этой, – сказал я дрогнувшим голосом.
– У кого тут шнапс водится, не знаете?
– Не знаем, – буркнул Феликсас и собрался было уходить, но этот чертов Текорюс хвать за сноп:
– Погоди!
– Чего тебе?
Я похолодел: солома растрепалась и из-под нее чернел конец дула. Текорюс вот-вот коснется его пальцами. К счастью, Феликсас оказался храбрее и хитрее.
– Ведь знаете, заразы, а не говорите.
– Не знаем, – с издевкой ответил Феликсас. Как он рассказал потом, его единственным желанием было заставить Текорюса замахнуться на него, отпустить «солому», и тогда винтовка спасена.
– А может, вспомнишь, когда по физиономии смажу? А?
– Попробуй только…
И тогда Текорюс, придерживая одной рукой велосипед, другой ударил Феликсаса в живот. Снопик выскользнул из рук и с подозрительным стуком ударился о камень. Скорчившись, будто от боли, Феликсас упал на землю и попытался прикрыть собой винтовку, но Текорюс успел разглядеть ее. Поспешно положив велосипед, он набросился на Феликсаса:
– А ну вставай! Живо! Отдавай винтовку!..
От злости и растерянности поначалу я оцепенел, не зная, что предпринять, но тут вдруг вспомнил про свою палку. Размахнувшись, я трахнул ею Текорюса по спине. Тот взвизгнул и, ощерившись, набросился на меня. Я успел съездить его еще раз. Текорюс стал озираться в поисках булыжника. Швырнул, но промахнулся. Воспользовавшись этим, Феликсас попытался улизнуть, но Текорюс нагнал его и вцепился в винтовку.
– Не уйдешь, щенок, не уйдешь!
Я огрел его палкой еще разок и, видно, угодил по шее. Текорюс зашатался и, осоловело вытаращившись, прислонился к придорожной иве. Мы с Феликсасом схватили винтовку и опрометью кинулись прямо через канаву в поле.
– Бандиты! В тюрьме сгною!.. – неслись нам вслед угрозы.
Запыхавшись, мы остановились под кустом. Феликсас заново сделал перевясло, подправив разъехавшуюся солому.
– Что же теперь будет, а Феликсас? Что же будет?
– Не знаю, – ответил Феликсас, и голос у него был невеселый. – Если он на самом деле меня узнал, ничего хорошего не жди.
На душе у нас было тяжело, руки дрожали и крикнуть по-заячьи, как условились, не удалось. Однако Леньку долго звать не пришлось. Мы рассказали ему, что с нами приключилось по дороге. Ленька молча разглядывал винтовку. И еще похвалил Феликсаса – приклад был сделан на совесть. Ну а что касается Текорюса, сказал он, к чему тут прицепиться – ведь доказательств-то нет.
– Если допытываться начнут, – подбадривал нас Ленька, – стойте на своем до конца: мол, не мы там были, ничего не видели, никакого Текорюса знать не знаем. Допросят и отпустят. А если он к тому же пьяный был, сам ни черта не вспомнит.
Когда мы были все вместе, у меня на душе вроде просветлело, а как разошлись, снова черной тучей навалилась тревога. Легко сказать: допросят и отпустят. Слышали, что за допросы гестаповцы учиняют… И без того тетя хворает, а тут начнут выпытывать, обыскивать, все вверх дном перевернут. Леньке-то что – он вольная птаха: летит, куда захочет.
Долго не мог я уснуть, все вздрагивал от каждого шороха. К тому же за стеной хрипло дышала во сне тетя и машины то и дело с гудением проносились по проселочной дороге. Затаив дыхание я прислушивался, не свернут ли они к нам во двор, не начнут ли полицейские ломиться в дом. Я вспомнил, что в соломенной кровле спрятана другая винтовка, обгоревшая. Надо будет завтра же непременно выбросить ее в болото. Хоть умри, хоть умри, хоть умри…
Не успел я, кажется, закрыть глаза, как за окном раздался крик:
– Скоре-е-ей!
Я вскочил весь в холодном поту, выглянул в окно. Уже совсем рассвело, во дворе громко кукарекал петух.
…Бабка любила вставать с солнцем, и в тот день она, как обычно, расхаживала по уже просохшим тропинкам и бубнила утреннюю молитву. Я как раз умывался, когда старуха, подобрав юбку, с криком влетела во двор: оказывается, она своими глазами видела в ельничке, что за банькой, нечистого.
– Чернющий такой, под елкой притаился, а меня увидел и как ощерится – вылитый волк…
Ленька, кому ж там еще быть, подумал я. Они с Милашюсом жгли в лесу смолистые пни и гнали из них деготь – колеса смазывать. Чумазый, оборванный, он и впрямь смахивал на черта. Но чего ради он заявился? Не случилось ли что?
– Здоров ты спать… – услышал я во дворе голос Леньки. – А я, брат, всю ночь глаз не сомкнул. Все думал, думал и знаешь, что решил? Тебе нужно самому взять винтовку и сдать ее в полицию.
– То есть как это сдать? – вытаращился я. – Зря, что ли, мы с ней столько намыкались…
– Стоит Текорюсу донести, тут такая каша заварится… У нас они детей не щадили…
– Ну, отнесу я ее, а дальше что? И винтовку жалко, и самому чего зря в пасть им соваться…
– Ты все-таки помоложе… Дурачком прикинешься, – поучал меня Ленька. – Скажешь, нашли с Феликсасом в лесу, в лозняке. А когда несли, какой-то дядька на велосипеде пристал, отнять хотел, да мы не отдали… Вот и все. И пусть тогда Текорюс доносит на здоровье…
– Постой! – воскликнул я. – А что, если взять ту, горелую? Ведь Текорюс не разглядел, что там за винтовка была. Только дуло тогда и высунулось.
Ленька помолчал, подумал и хлопнул меня по плечу:
– Дельная мысль! Добро!
Назавтра я собирался идти в местечко, поэтому вечером написал Расуте письмо. Оно получилось и длиннее и лучше, чем то, которое я придумал в прошлый раз. В письме я подробно изложил, как следует лечиться от веснушек, и для пущей убедительности добавил, что и я точно так же вылечился.
Поутру я взял с собой краюху черного, как торф, хлеба, половину сушеного сыра, попрощался мысленно со всеми – как знать, а вдруг не вернусь… Вытащил из-под стрехи хлева горелую винтовку, у которой, оказывается, впридачу было погнуто дуло, взвалил ее, точно крест, на плечи – и в путь.
Я шел навстречу слепящему утреннему солнцу. Когда по дороге мне попадались люди, я прикрывал ладонью глаза – может, не узнают. Стыда не оберешься, если подумают, что несу в полицию винтовку. Добравшись до леса, остановился передохнуть и отыскал крупный муравейник.
Я не раз слышал, что от веснушек хорошо помогает муравьиная кислота. Нужно только весной подержать в муравейнике платочек, а потом вытереть им лицо. (Об этом я написал Расуте в письме.)
У меня был белый носовой платок с голубой каймой – подарок тети к первому причастию. Разве ж станешь сморкаться в такую красивую вещицу, вот я и решил отдать платочек Расуте, покуда муравьи не истратили свою целебную кислоту.
Склонившись над муравейником, я наблюдал, как муравьи, скрючившись, выбрызгивали из себя жидкость на платочек, точно это было пламя, которое им нужно было загасить. Немного погодя я стряхнул крохотных пожарников, завернул в платочек несколько фиалок и решил, что лучшей памяти о себе не придумаешь.
Куда же сначала направиться – в аптеку или полицию? К Нармантасу с ружьем неудобно. А вдруг меня арестуют и продержат хотя бы день – все выветрится, и лекарство от веснушек испортится. В конце концов я спрятал винтовку под забором и пошел в аптеку, но дверь была заперта. Я и звонил, и стучал – никто не отзывался. Может, еще рано? Или Нармантас уехал куда-нибудь? Что ж поделаешь, загляну еще разок, правда, если все благополучно обернется…
«Будь что будет», – и я свернул к зданию полиции.
На ступеньках стояли два человека в мундирах.
– Куда? – спросил один из них, недоверчиво оглядев меня.
– К вам вроде, – ответил я. – Вот винтовку нашел и принес, как вы давеча приказали.
С трудом скрывая испуг, я тупо уставился на них, а сам все пересчитывал пуговицы на их мундирах. Полицейские осмотрели винтовку, пошептались о чем-то и велели мне зайти.
В просторной комнате за перегородкой сидел кривой на один глаз фельдфебель и громко рыгал. За стеной кто-то злобно орал – видно, шел допрос.
– Вот этот гражданин приволок из деревни винтовку. С кривым дулом, специально для тебя, – расхохотались полицейские.
Бормоча что-то себе под нос, косоглазый поднялся с места и, приоткрыв одну из дверей, позвал какого-то начальника повыше чином. Тот осмотрел горелую винтовку и принялся расспрашивать меня, кто я и где нашел ружье. Я рассказал ему все точно так, как мы условились с Ленькой. Фельдфебель, пыхтя, составлял протокол. «Ну уж теперь-то, Текорюс, попробуй достань нас, – подумал я. – Накось, выкуси…»
Между тем допрос за стеной прекратился. Выставив перед собой автомат, полицейский широко распахнул обитую материей дверь и буркнул:
– Марш!
Из соседней комнаты вышла невысокая темноволосая девчушка в красной кофточке, с веснушками по всему лицу… Расуте! Господи!.. Следом, заложив руки за спину, брел аптекарь Нармантас – сильно постаревший, небритый.
– Молодец, парень! – потрепал меня по щеке офицер. – Если еще найдешь или узнаешь, у кого имеется оружие, приходи, не забывай нас. Будем благодарны. А теперь подпишись и можешь быть свободен.
При этих словах аптекарь поднял голову. Он узнал меня. Во взгляде его были презрение и печаль. Расуте отвернулась и сделала вид, что не заметила.
Сам не знаю, как я не сгорел в ту минуту от стыда, как смог удержаться, чтобы не крикнуть: «Нет! Нет! Дядя Нармантас, Расуте, честное слово – я не предатель, поверьте!» Я лишь потупился и стал комкать в руке платочек с шелковой каймой, который вытащил, как только увидел Расуте.
Офицер протянул мне ручку. Я смахнул слезы – носовой платочек пахнул кислым хлебом, лесом, и на исписанный лист упало две полузавядших фиалки.


ХРОМОЙ
Милое дело – пасти где-нибудь на привольном лугу, вдалеке от огородов и посевов, и все же лучше всего – в лесу, по березнякам да по кустарникам. Тут можно целый день напролет лазить по деревьям, слушать пение птиц, можно искать в лесу грибы, ягоды, орехи, нарезать ракитника и еловых корней для лукошек… А разве не вкусны поздней осенью лесные яблочки? Разве не интересно подкинуть в воронье гнездо парочку куриных яиц? В лесу и ветер не так задувает, и дождик не так поливает, и солнце в летний зной не так палит.
Подобно тому как усадьбы украшаются палисадниками и садами, наша деревня тоже принарядилась, только вместо руты ее украшением стал зеленый лес – Гремячая пуща. Раньше в нем скот не пасли, редко кто граблевище или палку выстругает – любили люди лес, растили его, берегли. Но вот прошумела тут война и безжалостно вытоптала поля, леса и прильнувшие к ним усадьбы. Солдаты рубили пущу стоя, вот и оставили после себя пни до пояса. В лесу появились утыканные столбиками пустоши, напоминавшие старые, заброшенные кладбища. Они быстро зарастали кустарником, буйной зеленой травой. На эти-то вырубки и пригоняли скотину подпаски из окрестных деревень, а с ними и хромой пастух Ка́збарасов.
Собирались мы обычно на пригорке, у толстой корявой березы. Казалось, это, опершись на клюку, стоит сгорбленная седовласая старуха и грустно смотрит на загубленный лес. Под этим деревом мы, подпаски, жгли костры, пекли картошку, грибы, тут же играли, ссорились и мирились.
Больше всего мы любили «наводить шорох»: стрелять, взрывать что-нибудь. После войны взрывчатки валялось вокруг сколько хочешь. Мы разводили огонь в каком-нибудь окопе и швыряли туда снаряд величиной с доброго поросенка – ну и грохоту было! А если нам за такой «шорох» и доставалось – эка невидаль! Для пастухов это дело привычное.
С пригорка нам, как с крыши, видны были мелькавшие в кустах коровы, овцы и козы.
Вон между двух юных березок щиплют густую траву две моих буренки. В холодке улеглись рядышком давно не стриженные овцы, они вытягивают шеи и тяжело дышат от жары. Скотина моего соседа Дамийо́наса вся, до единого животного, в путах. Даже у овец передняя правая нога связана веревочкой с левой задней. А две неспутанных натертых ноги отдыхают. Пока болячки на них подсохнут, глядишь, уже другие две ноги стерты до крови. Будут шерсть стричь, тогда и поменяют путы.
А Юлюс, Казбарасов пастух, кажется, сам навеки невидимыми путами опутан: шарк, шарк – ковыляет он вперевалку за своим стадом. У его коров путы на шее подвязаны. У одной бубенчик из гильзы болтается, у другой колокольчик от праздничной упряжи позвякивает, а третью узнаёшь по бряканью деревянной погремушки.
Частенько пригоняет в Гремучую пущу своих коз и дочка вдовца-портного Еру́те.
– Это чьи же такие козы, кожа да кости, и орут как оглашенные? – спрашивал какой-нибудь случайный прохожий.
– Мои! – с достоинством отвечала Еруте, не выпуская из рук вязанье. – А что, не нравятся?
Она была такая хорошенькая, кудрявая, с живыми синими глазами, что каждый встречный-поперечный не мог удержаться, чтобы не похвалить даже ее коз…
А наша троица делала вид, что не замечает, как хороша Еруте, мы даже не заводили разговор на эту тему. На самом же деле нам без Еруте – все равно что без солнца: слоняемся без толку, грыземся, подтруниваем друг над дружкой, а сами все поглядываем, не белеют ли вдалеке козы, все прислушиваемся, не раздастся ли их блеянье…
Как-то раз мы первые пригнали с Юлюсом своих коров, разожгли костер и стали ждать прихода Еруте и Дамийонаса. Юлюс скрючился под березой и примолк, о чем-то задумавшись. Он имел обыкновение усаживаться, поджав под себя здоровую ногу и вытянув вперед больную, короткую. Ему казалось, что тогда поджатая здоровая нога ужмется, зато другая, чего доброго, удлинится. Когда он так сидел, мы говорили: «Юлюс ногу лечит».
– Ты случайно не обратил внимания, – начал он разговор, – что каждый человек похож на какое-нибудь животное, птицу или жука?
– Правда? – удивился я. – Тогда скажи, на кого я смахиваю?
– Вот дядя Казбарас, – не спешил дать ответ Юлюс, – как наденет свои рыжие порты, так сразу ужасно на петуха делается похож. Петух, видно, тоже это замечает и злится на Казбараса. Так и наскакивает и все долбануть норовит.
– А я на кого же? Скажи, на кого я…
– Наш Дамийонас, этот – вылитый медведь, только голова у него беличья. Зубы верхние вперед торчат, никак их не спрячешь. Придется парню со временем усы отпустить.
Я вспыхнул заранее и снова к нему с вопросом:
– Ну, а про меня чего ж не отвечаешь? Я-то на кого похож?
– А ты, по-моему, ни то ни се… – ответил Юлюс. – Если по ногам судить – вроде аист, а голова – как у летучей мыши, лопоухий… Словом, что-то порхающее…
– Раз уж я порхающее, то кто же тогда ты? – немного обидевшись, спросил я.
– Я-то? Сам видишь… – потрогал он свою ногу. – Я как тот кузнечик без голенастой ножки…
– А на лицо ты совсем ничего, – утешал его я. – И голос у тебя вполне… Да, а Еруте, по-твоему, кто?
– О! Еруте! Она самая красивая, – огляделся по сторонам Юлюс, как бы подыскивая что-нибудь подходящее для сравнения. – Она как вон та елочка…
– Скажешь тоже… Ведь она – человек, а тут – дерево…
– Сам ты дерево! – вспылил Юлюс. – Еруте на касатку похожа, вот!
– Ну, на ласточку – это другое дело, – согласился я.
И тут Юлюс заметил, что его Пеструха забралась в овсы. Он вскочил и, размахивая руками, как птица-подранок, побежал туда. Вернулся разгоряченный, усталый и к тому же с охапкой валежника для костра.
– И чего носишься как угорелый, – сочувственно пожурил я его. – Возьми и свяжи ноги этим коровам. Вон Дамийонас и в ус не дует…
– По-твоему, скотине не больно! – запальчиво выкрикнул Юлюс. – А этот Дамийонас у меня еще будет знать… Так коров опутывает, что они, бедняги, еле ноги передвигают. Голяшки вон до кости стерты, мухи на кровь слетелись. А как разозлится, за хвост корову схватит – и давай хлестать кнутом до одури. Уж коли кто скотину этак губит, тому ничего не стоит и человека на тот свет отправить.
– Раз уж отец его осадить не может, ничего не попишешь.
– Отец, скорее всего, не видит… А я эти веревки обрежу, только ты мне помоги.
– Как?
– А мы Дамийонаса надуем. Помнишь ту бомбу, ну, которую мы еще трогать побоялись?
– Помню. Она и сейчас в ивняке валяется.
– Так вот, это не бомба вовсе, а пустой огнетушитель. Я нарочно не сказал, хотел потом Дамийонаса припугнуть. Мы сейчас костер разведем, огнетушитель туда швырнем, а дальше сам увидишь…
– А Еруте скажем?
– Еще чего! Пусть-ка они с Дамийонасом потрясутся…
До их прихода мы с Юлюсом притащили огнетушитель и развели большой костер. Еруте не очень-то в бомбах разбиралась, поэтому и не слишком испугалась. Дамийонас же от волнения не находил себе места и все бегал в кусты. Он у нас вел себя на овечий манер: затеваем ли мы пальбу или морковку воруем – Дамийонас то и дело под забор или за кусты бегает.
– Ребята, может, не стоит, а?.. – робко повторял он. – Шорох получится адский, вот увидите…
– Как хотите, – ответил Юлюс. – Можем и не взрывать. Что ты на это скажешь, Еруте?
– Раз уж принесли, давайте взорвем. Как ты, так и я…
– Я-то Юлюсу сразу так сказал, – похвастался я.
И Дамийонас сдался:
– Если Еруте, тогда и я…
Гремячая пуща вся была изрыта окопами, которые никто не торопился заровнять. В один из них мы и забрались – я, Еруте и Дамийонас. А Юлюс решил после того, как швырнет «бомбу», укрыться в первом попавшемся окопе. Я должен был следить за тем, чтобы Еруте и в особенности Дамийонас не высовывались и не видели, как Юлюс будет обрезать путы.
Мы прижались друг к дружке, точно кролики в клетке, и ждали, когда шарахнет.
– Уже! – крикнул Юлюс.
Это означало, что «бомба» уже в костре… Дамийонас приоткрыл рот, чтобы не оглохнуть от взрыва, я же крепко обхватил Еруте, и мне было так хорошо… Однако вскоре она оттолкнула меня:
– Ты чего?.. Пусти.
– Не бойся, – прошептал я. – Разве тебе не хорошо?
– Тебе, может, и хорошо, а у меня по ногам лягушки скачут…
В окопе и вправду прыгало несколько угодивших в неволю лягушат, которых Еруте принялась сейчас ловить и выбрасывать наружу.
– Что ты делаешь? – крикнул я. – А ну пригнись, вот-вот бомба раскалится!
– Да ну вас, трусы несчастные… Почему Юлюс не боится?
– Это кто трус? Я?! – такого оскорбления не спустил бы ни один пастух. – Да если хочешь, я могу встать и вообще вылезти…
И я бы, конечно, вылез, если бы вовремя не вспомнил наказ Юлюса «трястись или под кусты нестись» вместе с остальными. А пока что это делал один Дамийонас.
– Чего она не взрывается? – бормотал он. – Чего так долго раскаляется?
– Бомбы ведь всякие бывают, – принялся втолковывать ему я. – Может, эта – замедленного действия. Зато уж как шарахнет, так шарахнет… Такую ямищу сделает – с погреб величиной, сможем там картошку хранить.
– Как бы нас не пришлось хоронить…
– А вдруг огонь погас? – забеспокоилась и Еруте.
В кустах послышалось блеянье. Видно, Юлюс решил освободить и овец. Но тут Дамийонас заволновался еще больше.
– Эй, Юлюс! – закричал он из окопа. – Юлюс, ты где? А моих овец не заденет случайно?!
Высунув голову, он увидел, что Юлюс как раз возится около его стада.
– Что он там делает? – недоуменно спросил Дамийонас. – Моих овец ловит!
– Где? – высунула нос и смахивающая на ласточку Еруте. – Наверно, он хочет их от костра отогнать. Юлюс, берегись! – крикнула она. – Юлюс, ложись, не валяй дурака!
– Сядь… – дернул я ее за ногу. – Юлюс сам знает, что делает…
Она еще раз обозвала меня трусом, зато для Юлюса на похвалы не поскупилась. (Так вот почему он, чертяка, не сказал Еруте, что там огнетушитель, а не бомба! Ведь мы могли бы договориться, что он бросит «бомбу» в костер, а я ее потом оттуда вытащу. Как-никак мы с ним друзья, оба парни хоть куда…)
Наконец Юлюс появился – разгоряченный, повеселевший. Значит, все идет как задумано.
– Что делать будем, а? Не взрывается, зараза…
– Куда это ты моих овец отогнал? – поинтересовался Дамийонас.
– Твои-то овцы вон они, пасутся. А вот где мои коровы? Уж не в овсах ли?
– Юлюс, не ходи туда. А то вдруг еще взорвется? – встревожилась Еруте.
– Не-ет… – поспешил и я показать свое бесстрашие. – Иди-ка ты, Юлюс, к скотине, а я ее из огня вытащу!
– Я сам вытащу, – ответил приятель.
– Юлюс!.. – остановила его Еруте. – А что, если она взорвется?..
Меня-то небось и не подумала бы вот так удерживать…
Когда Юлюс еще раз крикнул: «Уже», мы подошли к костру, осмотрели раскаленный огнетушитель, поплевали на него и разошлись искать каждый свою скотину.
Ерутины козы преспокойно обгладывали ракиту, коровы Дамийонаса, освободившись от пут, разбрелись кто куда и весело пощипывали траву под кустами. Юлюсовы «звонарки» разлеглись рядышком неподалеку, а мои коровы где же? Хорошо еще, если они к речке отправились, на водопой…
– Вот видишь, как удачно все вышло, – шепнул мне Юлюс удовлетворенно. – Правда, одна овца так в руки и не далась.
– А моих коров случайно не видел?
– Нет, не видел.
Я помчался к речке – там их не было, облазил заросли, где они обычно прятались от оводов, – ни слуху ни духу. Как в воду канули, хоть плачь!.. «Вот другой раз, – в сердцах решил я, – подвешу и я своим коровам по какой-нибудь железяке – скажем, гусеницу от танка. Иначе их не найдешь».
Юлюс то и дело кричит: «Ну что, нашел?», а мне с досады и отвечать не хочется. И только когда я совсем потерял терпение и выбился из сил, мне удалось обнаружить своих коров: они чинно-важно, как две барыни, возвышались над овсами Казбараса, куда забрели по самое брюхо.
– Наше-е-ел! – заорал я. – Не ищи, эй, Юлюс!
– Казис! Казис! – услышал я крик Еруте. – Дамийонас Юлюса колотит!
Я растерялся, не зная, куда кинуться: с одной стороны, меня звала на помощь Еруте, а с другой – сердито размахивала руками какая-то тетка. Не сама ли это жена Казбараса? Видно, кричит, чтобы я выгнал из посевов своих коров. Мне удалось комьями земли выдворить их оттуда, и я тут же, не успев перевести дух, бросился к березе. Гляжу, Юлюс сидит на земле под кустом, уткнувшись лицом в ладони, и стонет сквозь зубы. Рядом заплаканная Еруте уговаривает его, гладя по плечу:
– Ты скинь рубашку, Юлюс. Я ее в речке намочу – вот увидишь, боль как рукой снимет. Ну сними же, Юлюс, не бойся.
– Там мои коровы в овсы забрели, Юлюс… – стал оправдываться я, подойдя ближе.
– «В овсы, в овсы»… – сердито передразнила Еруте. – Овсы ему дороже товарища.
Не выдержав ее осуждающего взгляда, я потупился и больше не оправдывался.
– Видал, чем его Дамийонас… – помолчав, показала Еруте на сломанный кнут. – Ты бы уже давно собачонкой скулил…
Оказывается, Дамийонас привязал к самой обыкновенной можжевеловой палке стальную проволоку.
– Куда этот забияка смылся? – разозлился я.
– Он там, – махнула Бруте рукой в сторону речки. – Всё, больше с ним водиться не будем. Ты тоже можешь убираться к своим коровам. Нам с Юлюсом и без вас хорошо.
– Думаешь, я с этим злыднем буду дружить?! – гневно воскликнул я. – Да я хоть сейчас пойду и накостыляю ему по шее!
Мне не терпелось отомстить Дамийонасу. Я схватил увесистую палку и побежал к речке разыскивать его. А тот, мучитель, оказывается, уже запасся колом побольше моей дубинки…
– Ты зачем, поганец, Юлюса избил? – спросил я не то чтобы зло, но не дружелюбно.
– А чего он у моих коров новые путы срезал?
– Откуда ты знаешь, что это его работа?
– Вот, полюбуйся, – протянул Дамийонас обгорелый кусок веревки. – Мы когда бомбу взрывали, Юлюс срезал и спалил.
– И правильно сделал! – выкрикнул я, отойдя подальше. – Не будешь больше скотину мучить!
– Но-но! – взвился он. – Получишь и ты у меня!..
– Катись ты, медведь с беличьей головой! – крикнул я на прощанье. – Сначала зубы спрячь, не то на старости лет и усы не помогут!
…А что мне оставалось делать? Ведь Дамийонас побольше меня, к тому же и палка у него увесистей моей…
Уж если между кем вспыхивают ссоры-раздоры и тут же гаснут, так это между подпасками-односельчанами, что каждый день пасут вместе.
Вот и у нас: покуда исполосованный Юлюс – ему первые два дня трудно было пошевелиться – хмуро отлеживался в холодке, мы с Бруте пасли его коров и на чем свет стоит ругали Дамийонаса, швырялись в него палками и шишками. Тот яростно отбивался. Он то и дело незаметно подкрадывался к нам с целой кучей шишек за пазухой, без зазрения совести обстреливал нас и убегал в другой конец леса.
Мы и не заметили, как наша вражда, наши стычки превратились в захватывающую игру. Дамийонас – страшный, неуловимый злодей, Юлюс – наш раненый командир, Еруте – сестра милосердия, а я воображал себя их отважным защитником. Один только Юлюс, покуда на его теле горели кровавые рубцы, хотел как следует отомстить Дамийонасу. Но, как и боль, понемногу проходила его злость. Кончилось дело тем, что он, присоединившись к нашей игре, велел мне перейти на сторону противника: дескать, недостойное это занятие сражаться троим против одного…
Ошарашенный столь обидным предложением, я сказал, что ни один уважающий себя воин не поднимет руку на раненого и тем более на бабу. Тут Еруте как набросится на меня:
– Сам ты баба! А ну убирайся к Дамийонасу! Я вот тебе так задам, гляди, штаны не потеряй.
– И вообще, Юлюс, – разочарованно сказал я ему, – больно ты эту касатку стал слушаться. Был друг, как и положено, а теперь… А ты, сорока, – поддел я и ее, – паси-ка лучше своих коз, а не нашего Юлюса!
– А мне Юлюс нравится, понятно? – зардевшись, как калина, прощебетала Еруте. – А тебе небось козы по душе? Паси на здоровье, мне не жалко.
Тут Юлюс как давай смеяться, как давай хохотать! А сам так и сияет от гордости… А мне все это – будто кнутом по сердцу. Елки-моталки! Ведь кому как не мне чаще всего доводилось за ее козами гоняться. Занесет их куда-нибудь нелегкая – стоит Еруте слово сказать, как я тут же за ними несусь.
– Заруби себе на носу, – пригрозил я, – больше я на твоих коз и не гляну!
Так и потащился я, точно меня клопомором посыпали, сражаться на стороне Дамийонаса. Да только ничего путного из нашей войны не получилось: драться Юлюсу было лень, а играть просто так у меня не было настроения. И разладилась у нас игра.
Слоняюсь туда-сюда, от скуки поганки ногой сшибаю, а сам голову ломаю, как бы это нам всем снова вместе собраться. Кто первый предложит помириться? Дамийонас тот рта не разинет – он сильнее всех с Юлюсом рассорился. А Юлюсу что?.. Ему и так хорошо. Неужели мне придется унижаться перед ними всеми? Дамийонаса и Юлюса я бы как-нибудь еще свел, а вот с Еруте и разговаривать не хочу. Сам не знаю почему, не хочу – и все.
Ладно еще, скотина наша в дружбе живет: жуют вместе, лежат тоже вместе – коровы и овцы – чуть не вповалку. А когда какая-нибудь чернуха или буренка, одурев от зноя и оводов, принимается носиться как ошалелая и, выражаясь по-нашему, «задирает кропило», – отмахиваясь хвостами, спасаются кто куда все остальные. Вслед за коровами живо вылазят из своих тенистых укрытий овцы и козы. Каждое стадо несется прямиком к своим хлевам, чтобы спрятаться там.
Так было и на этот раз. И хотя солнышко уже клонилось к закату и в остывшем воздухе, подобно пыли в молотьбу, клубилась мошкара, одна из моих буренок вдруг как шарахнется в кусты! От оводов и то так не бегала! Видно, оса или шмель ужалил. Ну, а за ней, известное дело, и другие коровы хвост трубой – и сломя голову в ольшаник кинулись.
– Штель! Стой, окаянная! – с криком помчался я следом.
Уж и не знаю, откуда в нашей деревне такая мода взялась: коров муштровали по-немецки, к лошадям же обращались по-русски: «назад», «дай ногу».
В лозняке все мы и встретились – раскрасневшиеся, разгоряченные, запыхавшиеся от бега.
– Ребята, – скомандовал Юлюс, ковыляя за своими «звонарками», – айда за валежником, надо костер развести, от комарья спасенья нет.
…Никогда не забыть мне этих вечеров у костра. Кажется, и сейчас чую я запах горелых шишек, ощущаю вкус печеной картошки… Кажется, и сейчас слышу песни, которые мы пели, взгромоздившись на высокие, похожие на столбики пеньки:
Лес зеленый, лес кудрявый,
Что так загрустил?
Или горе приключилось,
Или свет не мил?
Голос у Юлюса звучал ласково, задушевно, совсем как скрипка сельского музыканта Плата́киса. И хотя он не старался заглушить остальных, а все равно его пение можно было отличить издалека.
Первым голосом у нас обыкновенно пела Еруте. Казалось, по одной только ее песенке можно было угадать, что из себя представляет сама певунья. Нет, глаза у нее могут быть только темно-синие, и никакие другие, а кудри, конечно же, только вот такие – как выгоревшая на солнце пшеница. На ней должно быть только цветастое или в полоску платьице, а выцветшая косынка в горошек непременно повязана на шее, как пионерский галстук.
А услышав низкий, надтреснутый голос, доносящийся из Гремячей пущи, можно подумать, что нам вторит вполне взрослый детина, и к тому же навеселе. На самом же деле этот зычный мужской бас принадлежит Дамийонасу. Тяжко глядеть, как он, сердечный, надрывается: прижав подбородок к груди и набычившись, парень набирает полные легкие воздуху и ждет, когда, наконец, ему надо будет подтянуть.
Я тоже вкладываю в песню всю душу, только голоса моего почему-то не слышно. Правда, я и сам не хочу драть глотку – того и гляди, Ерутины козы откликнутся. Юлюс поет – молчат, Дамийонас – тоже молчат, а стоит мне чуть погромче затянуть, как тут же все разом блеют вовсю, не иначе, как волка почуяли. И тогда самая распрекрасная песня – насмарку. Вот почему, прежде чем запеть, я прогоняю коз куда-нибудь подальше или стараюсь петь потише.
Порой песни эти так разбередят мне душу, на сердце становится так легко, так хорошо, что, кажется, взял бы и расцеловал даже этих длиннобородых пересмешниц. А дал бы мне кто-нибудь такой голос, как у Юлюса, я бы даже согласился стать хромым, кривым или вообще страхолюдиной. Лишь бы мне такой голос…
Чем ниже спускается солнце, чем шире растекается по ракитнику наползающая из-за холмов дымка, плотно окутывая пеньки, тем звонче и дальше разносятся наши голоса. В лесу сейчас так хорошо – хоть возьми и паси всю ночь напролет, но тут над головой со звонким жужжанием принимаются летать навозные жуки. Значит, солнце уже спряталось за тучами. А уж если навозник с налету тукнул подпаску прямо в лоб – пора гнать скотину домой.
Вымя у коров за день разбухло – еле умещается между ногами, – и буренки с радостью бредут к дому. Их там уже ждут доярки, а нас – горячий ужин.
Так и проходили в Гремячей пуще дни за днями, принося нам свои радости и невзгоды. Домашние о них знать не знали, нам же, подпаскам, было меньше всего дела до забот взрослых. Знали мы только, что в школе устраивались нескончаемые собрания, крестьяне сетовали на слишком уж обременительные налоги. Новоселы, из тех, что недавно получили землю, обдирали броню с валявшихся повсюду орудий, перековывали ее на плуги, поднимали целину – торопились скорее встать на ноги. По слухам, в лесах появились вооруженные бандиты, которые убивали тех, кому по душе пришлась Советская власть. Только бы эти «лесные братья» у нас в Гремячем не объявились!..








