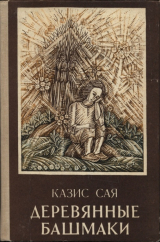
Текст книги "Деревянные башмаки"
Автор книги: Казис Сая
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 10 страниц)

СОБАЧИЙ УЗЕЛ
В замурованных морозом окнах только-только затеплились тусклые огоньки. Люди еще не стряхнули с себя остатки сна. Накинув тулупы и дрожа от холода, они расчищают заметенные за ночь тропинки, а я уже давно забыл про зевоту и еду на базар.
На рассвете мороз в самой силе. Вон как заиндевел ворот моего тулупчика! Я не прочь вылезти и пробежаться. И лошади полегче сани в гору тащить, да и мне не грех поразмяться. Протрусив до третьего телеграфного столба, я снова взгромождаюсь на облучок и понукаю лошаденку, чтобы та быстрее бежала под гору.
Цок-цок, цок-цок! – цокает Гнедая копытами по укатанному большаку. Сани мотает из стороны в сторону.
Зато в гору, покуда Гнедая вскарабкается, покуда втащит скрипучие сани, – охрипнешь от крика. А кнута дядя Игна́тас не дал, чтобы я не загнал лошадь. Думает, я совсем безмозглый. Не впервой ехать, базар для меня дело привычное. Только из-за бабки, этой старой ведьмы, дядя не пускал меня на базар почти три месяца.
Ну и история тогда вышла!.. Садитесь, подвезу. Покуда до города доберемся, все как есть выложу.
Одни меня называют подпаском башмачника, что клумпы деревянные делает, другие – приемышем дяди Игнатаса. Кому звать, тому и знать, кто я. Родителей-то у меня нет. Игнатас воспитывает, а я ему помогаю по мере сил: скотину пасу, сено сгребаю, картошку копаю, на базар езжу.
Когда поменьше был, а дядя помоложе и не такой плешивый, лежала на мне еще одна постылая обязанность. По воскресеньям, в предобеденную пору, прочитав молитву, дядя приказывал мне садиться на стол, а сам, оседлав «козла», на котором он выстругивал клумпы, клал мне на колени свою тяжелую как камень голову:
– Почеши-ка, авось какого-нибудь «зайца» и выудишь. За каждого – по пятаку!..
Отыскав гребень и ножик с заостренным концом, я расчесывал его жидкие волосы, делил их на прямой пробор и постепенно, прядь за прядью, прочесывал этот редеющий лес. «Зайцы» попадались редко, и зарабатывать бы мне всего нечего, если бы не наловчился я щелкать изредка ногтем по кончику ножа просто так.
– Целых четыре! – сообщал я после очередного щелчка.
– Двадцать копеек, – сонно подтверждал Игнатас.
Был я накормлен, одет, и поколачивали меня, можно сказать, от случая к случаю – все бы ничего, кабы не Игнатасова мать, «бабуня», которая отчего-то ужасно невзлюбила меня.
И хотя старуха разменяла семьдесят годков, однако прыти и зоркости в ней было хоть отбавляй. Глубоко посаженные злые, шмыгающие глазки, большой крючковатый нос, руки с огрубевшими пальцами – ни дать ни взять ведьма или мачеха из сказок.
Были у нее своя корова, овца, поросенок, две комнатушки, могла бы, кажется, спокойно доживать свой век, так нет: спозаранку к нам тащится, сядет, бывало, у печки – и давай всех поучать. Ну и, конечно, больше всех доставалось мне, как чужаку и малолетке.
Свое недовольство бабуня выражала не только на словах. Едва начав браниться, она тут же принималась кашлять и плеваться. Этот кашель для нее был все равно что для петуха кукареканье. Не хватит слова ругательного, не к чему будет прицепиться, она покашляет-покашляет, сплюнет в чугунок с золой – и давай зудить: мол, лодырь я, по утрам бока пролеживаю, а вечерами из-за своих книг даром керосин перевожу…
Порой дядя Игнатас или тетя пытались вступиться за меня, тогда она еще сильней распалялась – хоть из дому беги. «Пока этого паршивца не было, – кричит, – в доме было тихо-мирно. А нынче мне и места не осталось. Лопает, ненасытная утроба, а проку от его работы и на пять центов не наберется».
На смену центам пришли рубли, за ними марки, за марками червонцы, а я так и остаюсь «ненасытной утробой» и проку от меня и на пять центов не наберется.
H-но! Гнедая! Не спи!.. А вы слушайте дальше, до города еще не скоро.
Уж и не знаю, всегда ли старуха такой была или, может, своих детей тоже не любила; может, она уродилась такая или не от хорошей жизни озлилась. Вырастила она ни много ни мало пятерых сыновей и одну дочку. Четверо сыновей землепашцами были, до седьмого пота трудились, а пятый, самый младший, в господа выбился. Не могу сказать, как и за какие дела, а только слышал, что в войну оккупационные власти важным лицом его в Тельшя́й сделали.
H-но, Гнедая! Этак мы с тобой до обеда не доберемся.
Значит, так… В один прекрасный день начали драпать фрицы домой, на запад, а за ними следом – разные там прихвостни этих «квашистов». Тот барчук тоже струхнул. Навалил полную телегу всякой мебели, одежды, посуды, прикатил в деревню и рассовал все у братьев по заугольям, в сундуках, позарывал в землю. А сам подался куда-то – и по сей день о нем не слыхать.
Старуха же все ждет, ждет и добро его бережет пуще глаза. Известное дело, ребятишки братьев барчука кое-что потаскивают, да и старуха барахлишко продает, а на вырученные деньги закатывает мессу по пропавшему сыну. А сколько всякой одежды, ботинок, отрезов плесневеет без толку!..
Из-за этого, извините за выражение, шмотья столько я тогда натерпелся – до сих пор сердце щемит при одном воспоминании. Человек, видите ли, так уж устроен: его можно и без ножа зарезать, и без дубинки убить.
А началось все из-за этих вот орехов. Угощайтесь на здоровье, если зубы крепкие. Я их, куда бы ни ехал, всегда полный карман с собой беру.
Но-о, Гнедая, куда тебя понесло! Сколько на свете прожила, а все от машин шарахаешься.
Орехов прошлой осенью уродилось великое множество. Выбежишь, бывало, на часок, глядишь – полные карманы и набрал. А если они еще не вылущиваются, положишь их в теплое место подсохнуть, и тогда они запросто отстают от грозди.
Принес я как-то раз за пазухой кучу орехов, забрался на чердак и стал думать, где бы их получше спрятать. На проходе положишь – по горсточке растаскают, да и сам я могу не удержаться.
Был к дымоходу пристроен запечек из глины. Там обычно кот любил понежиться. Согнал я этого лежебоку и пошарил внутри – вдруг там можно орехи припрятать. Сунул руку – чую, узелок какой-то лежит. Вытаскиваю – торба. Мешок в клеточку, набит чем-то и бечевкой перевязан. Развязал я его, а там чего только не напихано: очки, мыльница, бритва, машинка для стрижки волос… Не старуха – кремень, подумал я. В доме машинка, а Игнатас меня ножницами корнает, как барана. И еще там были какие-то коробочки, флакончики, несколько колец, связанные в узел тряпочки…
Видно, все это барахло тому барчуку принадлежит, догадался я. Шут с ним, надо быстренько завязать все, как было, и положить на место. А орехи я высыпал в лукошко и подвесил повыше на стропилине, под самым коньком, чтобы и самому не так-то просто было дотянуться.
Осенью я хотел поехать учиться. Игнатас сам пообещал, а стоило мне напомнить, как он старую песенку заладил:
– Потерпи еще годик… Сам видишь – концы с концами еле сводим. Налоги, сборы всякие… А у нас один старый, другой малый, третий хворый…
Так и сижу я вот уже четвертую осень, четвертую зиму подряд дома. Игнатас клумпы строгает, я днем скотину кормлю-пою, дрова рублю, а вечером за книгу усаживаюсь. Хотите верьте, хотите нет, только я даже алгебру в одиночку осилил. Без школы, без никого. А сколько книг проглотил – Гнедой не дотащит.
Навыстругивает Игнатас этих «деревяшек», весь пол под кроватью ими уставит и посылает меня на базар. Вот и сейчас везу я полный мешок деревянных башмаков, полтора кило масла да три десятка яиц. Все это нужно продать, а потом прикупить кое-что. Но я не сетую – рука у меня легкая. А раз так, то и нравится мне это дело.
С вечера сани наладишь, овса коню на дорогу приготовишь, клумпы пересчитаешь, потом осторожненько в мешок их засунешь, чтобы носы не покорябать… Дядя сапоги свои одолжит, ты их смажешь, до блеска надраишь и дюймовочку не забудешь за голенище сунуть. Знаете, что такое дюймовка? Вот она – самая обыкновенная, аккуратно выструганная палочка. На ней дюймы размечены, а они еще раз пополам поделены, а те – на четвертушки, и хвостик оставлен, ведь держать дюймовку за что-то нужно. Такая вот математика.
Скажем, требуются вам клумпы размера девять или девять с половиной дюймов – это на случай зимы, чтобы с шерстяным носком носить. Взрослые мужики так те одиннадцатидюймовые носят, а уж двенадцать дюймов – настоящие корабли, тут нога величиной с валёк должна быть, не меньше.
Женские клумпы из осины делают. После просушки они становятся белые, как творог, легкие-легкие и совсем не скользят. Зато осиновые быстрее трескаются. Мужики охотнее берут розоватые, березовые. Ничего, что они потяжелей, зато и прочнее намного. Если камни стороной обходить, круглый год проносишь.
Чего ж еще, оденешься потеплее, тетя плотный обед с собой завернет – и кати на здоровье. Во всяком случае, на целый день от бабуни сбега́ешь. Дайте-ка сюда мою дюймовку, я ее за голенище суну. Вы берите еще орехи, берите…
Ссы́пал я их тогда в лукошко, а про клетчатую торбочку и думать давно забыл. Лето промелькнуло, осень прошла, а я все что ни вечер над алгеброй мозги сушу да каждую вторую пятницу на базар езжу.
Однажды ехал я утром и как раз на этом месте нагнал своего бывшего учителя – тот пешком в город брел.
– А! Старый знакомый, – обрадовался он.
Рядом со мной уселся и давай расспрашивать, как жизнь, почему в гимназию не хожу. А когда услышал, что я сам дома пытаюсь науки одолеть, говорит:
– Знаешь что, дружок, приходи-ка ты ко мне хотя бы раза два в неделю. Я тебе помогу. Подготовишься, а на будущий год, глядишь, в третий класс поступишь. Раз ты уже до уравнений добрался, значит, у тебя на плечах голова, а не кочан.
И так он меня подбодрил, так настроение поднял, что, видно, оттого у меня и на базаре все получилось в лучшем виде. Расхватали мои клумпы, набил я червонцами полные карманы, купил того-сего и домой отправился. Еду посвистываю и не догадываюсь, что беду на свою голову насвищу…
А как приятно вкатывать во двор с пустыми мешками в санях! Игнатас выходит навстречу, чтобы распрячь коня, справляется, как базар, что упало в цене, что подорожало…
– Базар как базар… Ничего особенного… – отвечаешь, не желая раньше времени хвастаться.
– Ну и сколько же примерно за одну пару отдают?
– Клумп этих там хоть пруд пруди, весь базар завален. Самая грязь уже позади, людям постолы подавай.
А уж когда тулуп скинешь да за стол сядешь и денежки выложишь, тогда нате вам – считайте и радуйтесь!
Раскладываем мы в кучки сотенные, подсчитываем десятки… А останется червонец-другой – дядя ко мне пододвигает:
– Это тебе за удачный торг.
За ужином я выкладываю все базарные новости – тут уж развешивает уши даже бабуня, и на этом моя поездка в Тельшяй заканчивается.
Однако в тот вечер дядя, выйдя мне навстречу, только глянул мельком на пустые сани – и хоть бы один всегдашний вопрос задал. Вхожу в дом – и там все словно воды в рот набрали. Выложил я деньги на стол, сказал, что за пару клумп выходит не два с половиной червонца, а поболее, на что дядя – ни слова доброго в ответ, ни рубля. Тетя молча принесла поесть, а старуха зыркнула исподлобья, точно от зависти, что не ей, а мне дали супу, и принялась отхаркиваться. Ох, не к добру все это… Я же хлебаю щи будто не ложкой, а черенком, а сам думаю: чего им от меня надо?
Игнатас дал мне согреться, заморить червячка и немного погодя спросил как бы между прочим:
– Намедни у тебя часы какие-то в руках видел. Откуда они?
– А-а, – отвечаю, – были у меня такие поломанные, старые уже. С Анцюсом Лакшту́тисом на противогаз сменялся.
– Змееныш! – не выдержав, прохрипела бабуня и закашлялась еще сильнее.
– А ну-ка покажи мне эти часы, – попросил Игнатас.
– Так ведь я их у Пра́наса Бумбли́са на батарейку выменял.
– Завтра утром сходишь и заберешь назад, – в голосе Игнатаса послышались суровые нотки.
– Не понимаю, зачем вам эти часы понадобились? – сказал я.
– Принесешь и положишь на место.
– На какое еще место?
– Только не ври! Только не ври! – вмешалась тетя. – Бог все видит.
– Еще раз повторяю, – постучал Игнатас костяшками пальцев о стол, – чтобы завтра же сходил и принес.
– Да как же я принесу, ведь Праню́кас за три червонца эти часы кому-то загнал.
– Вор! – выкрикнула вдруг бабуня. – А цепку от часов куда девал? Самописец куда дел? Пастухам сплавил?!
Вы, пожалуй, и не догадаетесь, о чем это она: цепкой она называла цепочку, а авторучку – самописцем.
– Да у меня в жизни не было никакой цепки и никакого самописца. И вообще, чего вы все на меня взъелись? Никаких часов я тоже у вас не брал.
– Ах, не брал!.. Еще отбрехивается, гаденыш!.. – от бешенства бабуня вся тряслась и в выражениях не стеснялась. – И в кого ты такой уродился, дармоед проклятый! В доме ничего положить нельзя. На́, подавись, только не смей больше воровать, слышишь! – и она швырнула в меня каким-то узелком.
По глинобитному полу рассыпались старинные серебряные монеты, флакончики, очки тут же разбились, а у машинки для волос отломалась ручка… Да, это был тот самый мешок, который я обнаружил, когда прятал орехи. Из выкриков старухи и допроса, который учинил мне Игнатас, стало ясно, что из злополучной торбы пропали карманные часы с цепочкой и авторучка, которых я в тот раз и в глаза не видел.
– Не крал я, не трогал! – кричал, божился, клялся я. – Да я же из выручки на базаре ни копейки не утаиваю, а вы!..
– Кто тебя знает, может, и утаиваешь, тьфу, тьфу…
– Не верится что-то, – попыталась вступиться за меня тетя. – Ведь раньше у нас безделицы малой не пропадало.
– Так то раньше, а нынче он вон какой растет, совсем от рук отбился! – заорала старуха. – Кому еще у нас красть? Чужому не с руки. Как сейчас помню: сложила я всё в кучку, завернула и двойным узлом завязала. Чтоб знак какой-то приметный был. А сегодня вынимаю – узлом собачьим стянуто. Я сразу смекнула: не иначе этот пакостник тут рыскал. Развязала – того нет, этого нет…
– Лучше по-хорошему признавайся: трогал мешок? – вперился в меня дядя и в ожидании ответа даже лампу слегка накренил.
– Да, трогал, – признался я, – только ничего оттуда не брал. Хоть режьте, не брал, и все тут.
А бабуне этого только и нужно было. Раз я мешок нашел, развязал, значит, нечего и сомневаться – украл.
– Только и знает, что над книгами корпеть, тьфу, тьфу, и докорпелся на нашу голову! Сколько я вам долбила: нечего пастуху волю давать… Нет, чтобы прислушаться к святым словам. А теперь извольте радоваться, тьфу, тьфу…
Старуха выдохлась, Игнатасу тоже надоело вести следствие, все мы устали, я расплакался, уткнувшись лицом в ладони, и тогда тетя, зевнув, дернула дядю за рукав:
– Хватит на сегодня. Давайте-ка помолимся. И ты молись, – обратилась она ко мне. Проси, чтобы всевышний осенил тебя своей благодатью.
Все смолкли и разбрелись вдоль стен, чтобы помолиться.
Только я продолжал всхлипывать в своем углу, потому что мне не верили. Как мне их убедить, ну как?..
А вон и Тельшяй виднеется. Кончилась дорога, подходит к концу и моя история.
Целую зиму бабуня меня поедом ела, как короед дерево. Бывало, заглянет кто-нибудь из соседей по делу, а старуха и заводит издалека:
– У вас еще ничего не пропало?
– Нет, а что?
– А у нас прямо беда, тьфу, тьфу… – косится старая на меня. – Двуногий хорек в доме объявился.
– Ну так хватайте – и в мешок его…
– Поймать-то поймали, да что с того, тьфу, тьфу… Смотрите, как бы у вас чего не спер…
Не выдержав, я выскакивал из дому и впрямь как хорек из огня… Забирался в сарай или хлев и, уткнувшись в стену, давал волю слезам. Теперь я боялся людям на глаза показаться. А дядя даже на базар перестал одного отпускать. Нехотя, с кряхтением отправлялся сам, а когда деньги подсчитывал, недоуменно покачивал головой: я-то ему частенько побольше привозил.
Но особенно больно мне было оттого, что я не решался пойти к своему учителю. Школьный сторож пришел к Игнатасу за клумпами, а старуха ему все и выложила.
Порой такая тоска наваливалась, что я подумал даже: вот возьму и в самом деле начну воровать! Все равно меня вором считают. Да, но что воровать? И куда потом деть украденное? Сейчас хоть совесть чиста. К тому же ведь должен когда-нибудь отыскаться настоящий воришка. Раз я не брал, а часы там были, значит, кто-то должен был их украсть. Но кто?
В прошлое воскресенье Игнатас и бабуня стали собираться с утра пораньше в костел. К исповеди, значит. Запряг я им лошадь, возвращаюсь и слышу: старуха зовет меня к себе в комнату.
– Нужно что-нибудь? – спросил я, войдя.
А старуха уже обмотаться успела, сверху большущий платок повязала, стоит и отчего-то беспокойно покашливает да плюется.
– Нашлись часы-то, – наконец нехотя заговорила она. – Пропажу в сундуке и нашла. Ты уж не серчай на меня. На вот тебе… тьфу, тьфу, тьфу, бери… – и она протянула мне кусочек мыла величиной со спичечный коробок.
– Не нужно, – отказался я, – не хочу, на что мне…
– Б-бери, раз дают… Положи, будет у тебя свое.
Ах ты, старая хрычовка, извиняюсь… Зря я ей тогда в глаза не сказал: да разве смогу я этим мыльцем отмыть всю грязь, которой ты меня облила? На всю деревню ославила… Теперь же, когда эти безделушки нашлись, прошипела из своего угла, что не я украл, и дело с концом. А ты скажи это всем: учителю, соседям, моим приятелям! Поймай воробья, которого выпустила, тогда не буду держать против тебя сердце.
Положил я это мыло на подоконник и вышел. А надо было бы сказать: засунь его в свой мешок да не забудь двойным узлом завязать. Я же по гроб жизни этого собачьего узла не забуду.
Вот и приехали. За веселой беседой и время быстрее бежит, и дорога короче кажется. Базар сегодня будет, судя по всему, немалый. Вон сколько саней понаехало, а сколько еще прибудет… Надо поскорее занять место в рядах, разложить клумпы и вытащить из-за голенища дюймовку.


ИВОЛГА
«Боже, дай пить! Боже, дай пить!» – звонко поет иволга, схоронившаяся от зноя в кустах.
Жил в нашей деревне человек – тоже Иволга, Игнас Иволга. Мужчины, знавшие его ближе, говорят, что он отменно трепал лен; женщины вспоминают, какие голубые, настоящая голубика, были глаза у Игнаса… Мы же, подростки, толкуем меж собой, как привязан был он к нам и как замечательно играл на губной гармошке!.. А куда он потом исчез – загадка. Люди разное толкуют. Тайну эту до сих пор знали только Вероника, Бро́нюс да я. А сейчас и вы узнаете.
На опушке Гремячей пущи стояла вековая полуразваленная лачуга с низкой крышей и перекошенными оконцами. Такими же жалкими были и другие строения хутора. Обомшелые яблони с кольями-подпорками, точно изгнанные нищенки, убегали вниз, под горку, прочь от этой избенки и от леса.
Жил в этом доме Ба́лкус, хозяин себе на уме. Чего у него только в хозяйстве не было! За сараем валялись и гнили без пользы бревна и доски, однако хуторянин новую избу строить не торопился и старую в порядок не приводил – ждал лучших времен. Лачуга принадлежала сестре Балкусовой жены Веру́те. Ей должны были отойти также кусок земли, скотина и утварь. Но покуда Веруте выросла, Балкус все прибрал к рукам. Забитая, нерасторопная девушка и пикнуть не смела, на тяжбу с ним не решалась и все ждала, может, найдется порядочный парень, и Веруте выйдет замуж, а он, ее муж, и наведет порядок в хозяйстве.
Обо всем этом я узнал от дяди Игнатаса и соседей. К Балкусу я редко заглядывал: боялся злого пса, которого обычно не привязывали, а еще больше – самого хозяина.
Однако это ничуть не мешало мне водить дружбу с Бронюсом, единственным сыном Балкуса. Мы познакомились с ним в школе. Я был во втором классе, он – в четвертом. Учил нас один учитель, и занятия проходили в том же классе. И если кому-нибудь из старших учеников хотелось натолкать мне за шиворот снегу, Бронюс неизменно вступался. Он был щуплый, но сильный и твердый, как из дерева. А еще этот его отцовский нос крючком и стальной взгляд серых глаз нагоняли страху даже на самих братьев Су́рвиласов, которые сидели по два года в каждом классе.
Однажды, возвращаясь с ярмарки, Балкус привез с собой незнакомого человека. На задке телеги погромыхивал коричневый баульчик. Видно, незнакомец прибыл надолго. Это был человек лет под тридцать, с большими загрубелыми руками и по-детски голубыми глазами.
Так в наших краях появился Игнас Иволга – отменный трепальщик льна, музыкант и друг подпасков. С ним всегда было интересно и приятно удить рыбу, ловить раков. Он научил Бронюса ходить на ходулях, сделал капканы для хорьков и даже поймал одного. А когда Игнас принимался играть на своем «органчике» – губной гармошке, можно было слушать его бесконечно…
Казалось, не было такого дела, которое бы не спорилось в руках Игнаса, – Иволга умел все, правда, читать-писать было не по его части. «Сызмалу в услуженье пошел, – говаривал он, – вот и остался слепой и глухой».
Была у Игнаса машинка для стрижки волос, и он иногда стриг дядю и меня. Сяду, бывало, посреди избы, на плечи тетин платок наброшу и отдаю себя в большие огрубелые руки Игнаса.
Закурив, Игнас осторожно наклонял мою голову и принимался стричь, окутывая меня дымом. Сидя с закрытыми глазами, я слышал стрекотание машинки, от которого холодок пробегал по телу, и вспоминал маму. Только она одна умела так нежно гладить меня по голове. По-моему, и ее одежда точно так же пахла льном.
– Не дерет?
– Не-а.
– Толковым мужиком вырастешь, – говорит Игнас, отгибая мое оттопыренное ухо, чтобы не задеть. – Дар божий тебе дан… С двумя макушками родился.
– А у Бронюса сколько?
– Одна, – уверяет Игнас. – Одна всего у Бронюса макушка.
Зато Бронюс и с одной макушкой вскоре уехал в город учиться, я же остался дома.
Однажды зимним вечером, когда мы, заперев двери на засов, собирались читать молитву, раздался стук в дверь. Это был Игнас – простоволосый, измученный, с кровоподтеком под глазом.
– Будь человеком, пусти переночевать, – попросил он Игнатаса.
– Что случилось? – спросил дядя. – Давай сюда, поближе к огню.
– Не нужно огня. Лучше погасите совсем.
Дядя протянул ему кисет. Игнас трясущимися руками никак не мог скрутить самокрутку, а закурив, задул лампу. Съежившись в углу, я следил за двумя вспыхивающими и гаснущими огоньками. Один на миг освещал небритое с воскресенья лицо дяди Игнатаса, другой блуждал пониже – Игнас сидел потупившись и жадно втягивал дым, цигарка ярко вспыхивала, высвечивая заплывший глаз и высокий лоб с прилипшей прядкой волос.
– Я сегодня в Тельшяй был, – поостыв, стал рассказывать Игнас. – Отвез Бронюсу картошку, муку, мясо. Ба́лкувене, не спросив разрешения мужа, сунула мне целый копченый окорок. А вечером пожаловали гости из леса – сами догадываетесь, какие… Балкус самогон выставил, стал окорок начатый искать, а окорока-то нет. Супруга его корову доила. Балкус прямиком в хлев и давай орать: «Ты куда окорок подевала?!» Женщина с перепугу возьми да и скажи: не знаю. А тут как раз я подъехал. Не успел из телеги вылезти, Балкус хвать меня за грудки: «Ты, гад, окорок взял?!» – «Дали, вот и взял, – говорю, – Бронюсу отвез». Тут жена его подбежала, объяснить все хотела, а Балкус ее – по физиономии. Я вступиться захотел, за руку его схватил и вот – сам схлопотал…
За окном раздался треск. Игнас смолк, прислушался.
– Деревья от мороза раскалываются, – успокоил его дядя.
– А кто тебя заставлял торчать у этого Балкуса? – подала голос от печки бабуня. – Ведь силком не держали.
– Веруте жалко, – ответил Игнас. – Жизнь у нее собачья.
– Невенчанный живешь, вот бог и покарал! – точно мокрой тряпкой огрела его старуха.
Поговаривали, что Иволга – соломенный вдовец. Жена сбежала с каким-то полицейским, а пока она жива, Веруте не может выйти за Игнаса замуж. Так они и мытарятся возле Балкуса – ни постояльцы, ни батраки.
Блуждающие огоньки понемногу исчезли. Дядя с шумом продул мундштук и засуетился, готовя постель для Игнаса. Стащил с чердака заиндевевший матрац, от которого в комнате сразу стало холоднее, а тетя с коптилкой в руке искала, чем бы застелить постель.
Уложили Игнаса в моей комнате. Было уже поздно, но сон не шел. Я слышал, как на дворе потрескивает забор и воет соседская собака. Игнасу тоже не спалось: то и дело шелестела солома в матраце. Я ждал, что он заговорит со мной первый и, не дождавшись, спросил вполголоса:
– Тебе не холодно?
– Согрелся уже, – ответил он.
– Скажи мне, Игнас, почему на этого Балкуса никто управы не найдет? Почему все молчат, пожаловаться боятся?
– В том-то и дело, что боятся… Сегодня пожалуешься, завтра тебя на тот свет отправят.
– Неужели Балкус так и будет бесчинствовать под крылышком бандитов?! – закипая от негодования, спросил я. – Подумаешь, царь и бог нашелся! Людей мордовать вздумал!..
– Тсс!.. – зашикал на меня Игнас. – Придет этому когда-нибудь конец…
«Когда-нибудь»… Я знал кое-что важное и думал: сказать ему или не сказать. Но раз начистоту, так начистоту…
– Игнас, ты не спишь? Я хотел тебе сказать, что они и у нас были… Знаешь, о ком я?
– Говори потише, – предупредил Игнас.
– На вторую рождественскую ночь слышим – стучат. Дядя встал и спрашивает: «Кто?» – «Милиция!» – отвечают за дверью. Дядя перекрестился и открыл. Два бородатых мужика с пистолетами в руках ввалились, а третий во дворе остался. А мы тулупы накинули, стоим у печки и дрожим. Они нас фонариками осветили и спрашивают: «Узнаете?» Игнатас наотрез отказался, я же сразу узнал братьев Сурвиласов и ляпнул сдуру: «Вы не милиция, вы Да́нис и Пра́нас – бандиты». За этих «бандитов» Данис снял с себя стальную пружину и как съездит меня по спине, даже тулуп кое-где лопнул. Братья велели дяде запрячь лошадь. Тетя расплакалась, стала говорить, что, мол, конь не подкован, что Игнатас нездоров. «Может, в другой раз, мужики?.. Ведь загубите и человека, и коня…» А Пранас бряк рукояткой маузера по столу: «Ни черта! Сказано запрягать – запрягай, в другой раз мы на машинах раскатывать будем!..»
Делать нечего – у дяди от страха язык заплетается, меня посылает: «Ступай, Казя́лис, запряги им». А тетя шапку мне сует, шарфом обматывает и шепчет: «Только, бога ради, без коня не возвращайся…»
А на улице холодина!.. И боязно к тому же… Покуда запряг, пальцы так окоченели – никак оглоблю не привяжу. «Быстрее, быстрее!» – шипят сквозь зубы те. И принесла же их нелегкая! «Проедем немного и прикончат», – подумал я. Братья и в школе-то меня терпеть не могли.
Доехали мы до того места, где танк перевернутый лежал. Там они и вытолкнули меня в сугроб – ступай куда хочешь. Пригрозили только, чтобы держал язык за зубами. Я в плач: «Лучше пристрелите, – говорю, – как мне теперь домой без коня возвращаться?» – «Не хнычь, прикончить тебя мы всегда успеем, – говорят. – Беги домой, конь сам придет».
Тем временем из-за елок трое дядек вылезли. Двоих из них я узнал – тебя и Ва́йткуса-Пропойцу… Пранас велел тебе сломать прут для коня, кнут-то я дома оставил. Потом все вы в сани повалились и под горку помчались.
Я замолчал, не проронил ни слова и Игнас. Мне показалось, что он под мой рассказ уснул. «Может, оно и к лучшему, – подумал я, – не нужно мне было все выкладывать».
– Да, верно, – неожиданно подал голос Игнас. – Я был там и под утро пригнал вам коня.
– Той ночью бандиты избили учителя…
– Да.
– Выходит, и ты с ними, Игнас? Чего молчишь? Отвечай!
– Игнатас лошадь дал, – вполголоса сказал Игнас, – почему же ты не говоришь, что и дядя с ними заодно?
– Да, но его заставили. Я же тебе рассказывал…
– Вот видишь, а Балкус и без принуждения дал бы. Но он хитрый – по всей деревне бандитов рассылает. Сначала Вайткус-Пропойца заявляется, вынюхивает, нет ли посторонних, а следом и они. Тут салом поживятся, там переночуют. Балкус хочет, чтобы все вокруг им помогали чем-нибудь, чтобы все потом в страхе жили и помалкивали. А я в его доме нахожусь, они меня боятся, вот и заставляют вместе накачиваться или за возницу побыть, как тогда…
Я припомнил, что в тот вечер к нам и вправду заходил в разведку Вайткус по прозвищу Пропойца. Обросший, нос в порах, как губка. Выклянчил у тети глоток домашней водки, на травах настоянной, и говорит:
– Так-то вот, тетя… Съедим, что на столе, выпьем, что в чарочке, а завтрашнего дня дождемся – в кучу соберемся… Ложку взять не забудем, из одного котла хлебать будем… Табак и тот вырастим, чтобы зараз все накурились. Трубку величиной с кадку смастерим, натолкаем туда вилами табака, как навозу, сами вокруг усядемся и будем себе покуривать да распевать: «Петушок да курица в колхозе окочурятся…»
Выходит, и Вайткус с Иволгой – одного поля ягоды? Нет, хоть я, кажется, и все понял, однако не мог найти оправдания Игнасу.
– А почему бы вам с Веруте не уехать, скажем, в Тельшяй или еще куда?
– Веруте не хочет, – ответил Игнас. – Землю свою стережет. Ничто так не привязывает к себе человека, как эта страдалица-землица. Вон крот – роет, покуда до тропы не дороется. Дальше-то ему не пробиться, выберется наверх, солнышко выглянет – крот и лапки кверху.
– Ты ведь человек, не крот.
– Я слеп как крот… – вздохнул Игнас. – Я, может, и поехал бы, а для Веруте пробыть в городе даже один базарный день и то невмоготу. Ничего, как-нибудь перебьемся. А ну как все в город подадутся, что тогда? Кто будет хлеб, картошку, свиней да коров растить?
Больше я ни о чем не расспрашивал, но Игнас все говорил, говорил, точно сам себе:
– Стоит Балкусу учуять, что я хочу съехать, живым меня не выпустит. Где там! Они все боятся, как бы я их логово не выдал. И ты, боже упаси, не проговорись, о чем мы с тобой тут толковали.
Я твердо пообещал молчать, и он успокоился. За стеной старинные часы с гирями пробили час. На дворе время от времени потрескивали от мороза заборы, деревья да жалобно продолжал выть на цепи соседский пес. Вздохнув, мы с Игнасом решили про себя – пора спать…
Летом, когда мы свезли в сарай сено, я устроил там себе постель: блохи не донимают, не слышно, как за стеной храпят дядя с тетей…
Как-то ночью слышу – вроде дверь скрипнула. Я превратился в слух. Внизу под чьими-то ногами зашуршала разбросанная солома… В сарае был человек! Кто это? Что ему нужно? И вот я уже слышу, как он, найдя на ощупь стремянку, карабкается ко мне наверх!
Я поспешно отполз под стреху и глубоко зарылся в сено. Затаил дыхание, чувствуя, как затрещала под чьей-то тяжестью лестница и просело у края сено. Тяжело дыша, человек перешагнул через перекладину и оттолкнул лестницу. Странно… Потом, видно, заметил белеющую в темноте постель, ощупал ее – еще теплая – и вполголоса спросил:
– Это ты, Казюкас? Ты тут спишь?
Игнас! Я обрадовался, узнав его по голосу, и выбрался из-под крыши.
– Как ты здесь очутился, Игнас?..
Игнас дрожал как осиновый лист и не хотел пускаться в объяснения.
– Залезай в сено, согреешься. Я чуть не умер со страху. Вон и сейчас трясусь! Полезай сюда…








