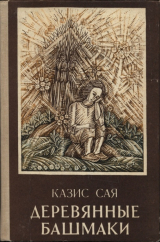
Текст книги "Деревянные башмаки"
Автор книги: Казис Сая
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 10 страниц)

КАЗИС САЯ
ДЕРЕВЯННЫЕ БАШМАКИ
РАССКАЗЫ О ДЕТСТВЕ


ОТ ПЕРЕВОДЧИКА
30—40-е годы… Разными были они для юных граждан Советской страны и литовских ребятишек, у многих из которых по существу не было детства. Ведь в Литве до 1940 года господствовал буржуазный строй, существовала эксплуатация и, чтобы свести концы с концами, бедняки должны были трудиться от зари до зари. А первые послевоенные годы фактически явились первыми годами становления молодой Советской власти в республике.
Рос в одной из бедных крестьянских семей мальчик по имени Кази́с. Беспросветная нужда и болезни унесли в могилу двух его старших братьев, рано умерли родители, и в шесть лет мальчонка остался круглой сиротой. Старшего брата Аполина́раса отдали в сиротский приют, а Казю́каса взяли на воспитание родственники матери, жившие далеко от родных мест. Эти добрые люди, сами добывавшие хлеб насущный тяжелым трудом, разумеется, видели в Казисе прежде всего помощника, будущую опору в хозяйстве. Поэтому и «университеты» свои он проходил на пастбище, в поле, на базаре, где продавал деревянные башмаки – клу́мпы.
Жизнь юного подпаска, его горести и незаслуженные обиды, маленькие радости и надежды, которым суждено было сбыться только при Советской власти, – об этом взволнованные новеллы автобиографической книги К. Саи «Деревянные башмаки».
Судьба героя неизменно продолжает волновать всё новые поколения литовских читателей. Не случайно книга пользуется в республике широкой популярностью. Когда в 1980 году вышло ее дополненное издание, оказалось, что «Деревянные башмаки» литовские школьники любят читать больше всех остальных книг, и автору был вручен приз Общества книголюбов за самую популярную книгу 1981 года для юного читателя. Некоторые рассказы из сборника включены в школьные хрестоматии, часто транслируются по радио.
Впервые сборник вышел в 1958 году, когда К. Сая заканчивал Вильнюсский государственный педагогический институт. Это – его первая прозаическая книга. (В то время в республике с успехом шли три комедии молодого драматурга.) Интересна история появления рассказов. На втором курсе студент К. Сая вручил декану заявление, в котором просил разрешения написать вместо курсовой работы о литературе для детей хотя бы небольшую книжку рассказов. Декан согласился, и Казис стал писать о своем детстве.
Со времени первой публикации сборника «Деревянные башмаки» автор неоднократно возвращался к нему. Дополненный и переработанный сборник издан на литовском языке в 1980 году. С этого издания осуществлен настоящий перевод на русский язык.
Нетрудно представить, прочитав первые рассказы книги, что ждало горемычного сироту-подпаска в жизни. Но в 1940 году на литовской земле по воле народа была восстановлена Советская власть. Любознательный, тянущийся к книгам подросток получил возможность учиться…
По счастливой случайности книга «Деревянные башмаки» попала в руки к старшему брату К. Саи, вывезенному в годы войны фашистами в Германию, который впоследствии жил в Америке. Таким образом братья находят друг друга. И во время встречи, описанной в книге, и в своих письмах рабочий сталелитейной мастерской Аполинарас, которому в капиталистической стране не удалось найти работу по душе и призванию, с горечью признается, что если бы он жил в свободной Советской Литве, то смог бы получить, как и Казис, образование, многого добиться…
Жизнь и судьба героя рассказов «Деревянные башмаки» типична для целого поколения. Думается, эта книга заинтересует и юных читателей нашей необъятной страны. Вместе с сиротой-пастушонком они будут грустить и радоваться, станут участниками приключений, которые не придуманы писателем, а взяты из самой жизни.
Казис Сая – старый, добрый друг детей. Оттого его книги – и реалистические, как предлагаемая сейчас читателю, и те, в которых сказку трудно отличить от были, – так популярны не только в Литве. Повесть-сказка «Эй, прячьтесь!», увидевшая на русском языке свет в издательстве «Детская литература», переведена на 15 языков, а ее автор удостоен премии Комсомола Литвы.

РАССКАЖУ И Я СКАЗКУ
(Вместо пролога)
Давным-давно, уж и не упомню, какими судьбами занесло к нам в дом человека, который сказал, что он-то и есть самый настоящий Дед Мороз. Поначалу я не поверил: не было у деда ни бороды, ни подарков, да и звали его просто Ми́колас.
Долгими осенними вечерами Миколас, склонившись над коптилкой, выстругивал из дерева разных человеков и зверушек. Все это время умелец не брился, не стригся, а в середине зимы, обзаведясь довольно солидной бородой, сложил свои поделки в мешок, взял посох и ушел. Я прямо онемел от удивления и досады – ну почему я не поверил, что он взаправдашний Дед Мороз!
На прощанье он протянул мне деревянного человека с вершок, не больше, и с улыбкой сказал:
– На вот, утри-ка слезы да погляди. Узнаёшь, кто это?
Человечек и впрямь на кого-то смахивал: взъерошенный, курносый, щербатый… Уж не я ли это?..
К счастью, через некоторое время таинственный дедушка вернулся. Отдохнув с дороги, он побрился и снова стал дядей Миколасом. Вытащил из котомки какое-то диковинное корневище, корявое, шишковатое, и говорит:
– Я тут ведарас[1]1
Ве́дарас – литовское национальное блюдо – колбаса, начиненная картофелем, крупой. По виду напоминает темный корень.
[Закрыть] принес. Хочешь попробовать?
Я повертел в руках, обнюхал странный корень – и в самом деле на колбасу похож.
– А что из него будет? – спросил я.
– Чем станет, тем и назовем, – ответил Миколас, и мне оставалось только ждать.
Три вечера подряд он скоблил-стругал этот корень и вот наконец я увидел, как в узловатых руках Миколаса, точно живой, заерзал маленький горбатый чертенок. Когда мастер стискивал его в ладони, тот, казалось, хватал ртом воздух, по-собачьи высунув язык, а когда Миколас трогал копытца, принимался хихикать и извиваться.
Пора было окрестить бесенка-невеличку, и Миколас, поразмыслив, дал ему имя – Нечистик.
– А откуда ты знаешь, дядя Миколас, что черт именно такой? – спросил я.
– Знаю, потому как своими глазами видел.
– Живого?
– Живого…
– Самого настоящего? Своими глазами видел?
– И видел, и говорил…
Поди знай – шутит он или правду говорит.
– А он тебе, дядя дедушка, ничего не сделал? – помолчав, спросил я и пристально уставился на него. А вдруг подловлю… Но тот, как нарочно, еще сильнее запыхтел трубкой, и глаза его скрылись в облачке дыма.
– Да разве ж такой утерпит… – ответил Миколас, надраивая наждаком чертика. – Отец-то мой кузнецом был… Кончился у нас однажды уголь, вот и послал меня батя к лесничему – хоть полмешка, говорит, принеси.
– А зачем же к лесничему?
– Видишь ли, для доброго угля дерево доброе требуется. А неподалеку от лесничего, на болоте, росла огромная береза – трем мужчинам ее разве что обхватить. Когда бы мимо ни прошел, все вздыхает дерево, все скрипит, а по ночам – сам видел – огоньки зеленые блуждают. Сказывали старики, сундук с деньгами под той березой зарыт. Давным-давно, почитай лет двести – триста тому назад, жил в этих местах некий Заяц-Капустинский. Злющий был барин и страшно богатый. А уж скареда – палкой у него из рук копейку не вышибешь. Говорят, закопал он на старости лет все свое золотишко под березой, заговорил его, а сам на ветке и повесился.
Ковырялись тут потом люди, искали. Я и сам пробовал покопать, да только не так-то просто заколдованный клад из земли вызволить. Говорят, сам нечистый на той березе поселился и те деньги стерег. Однако ж всему на свете бывает конец: как-то летом налетела гроза, водой корни подмыло, молния трах и свалила березу, как гриб. Лесничий ее там же порубил и на уголь пустил.
Отмерил он мне тогда добрых полмешка того угля березового, взвалил я его на спину и иду, посвистываю. А на дворе осень, вечереет, и до дому путь неблизкий. Пойду-ка я, думаю, прямиком через болото – а вдруг и стемнеть не успеет, покуда доберусь.
Иду я, иду, знай мягкий мох приминаю, будто перину, а похоже, все на месте топчусь. И вот чудеса: ноги заплетаться стали, подламываются, как у пьяного. И мешок мой вроде потяжелел… А вокруг все темней и темней, сам не разберу, где дом, где тропинка. Где-то собаки брешут, вроде бы утки закрякали. Дикие? Домашние? Ничего не пойму. Потом разглядел с трудом в тумане крохотный огонек. Сверкает-мерцает в темноте, что глаз волчий. Ну, я и свернул в ту сторону. Авось, думаю, на людей выйду, дорогу поспрошаю. Недолго я туда по болоту чавкал – огонек вспыхнул и вдруг погас… Еще несколько шагов шагнул, кажется, вот он, огонек, а тот снова появляется, только уже не там! Уже где-то в стороне… Тогда-то я и сообразил, дружок, что это сам сатана меня с пути сбивает. Ну, говорю, погоди, такой-сякой разнечистый. Не поддамся я тебе: вот скину мешок, усядусь тут и буду сидеть. И хоть ты мне что… Уже кочку посуше присматриваю, как вдруг почуял я, дружок: зашевелился у меня в мешке кто-то… Ворочается и похрюкивает, ровно поросенок во сне. Батюшки-светы! Я ноги в руки – и чесать. По болоту, через пни, по кустам, сквозь чащобу – будто вихрь перед грозой… Из сил выбился, пот ручьем… Однако стоит мне передышку сделать, как тот в мешке снова хрю да хрю и рогом меня в спину тычет.
Миколас снова набивает трубку, затягивается, а я тем временем поглядываю исподтишка в полутемный угол, где висит, странно скособочившись, тулуп мастера. В какой-то миг мне почудилось, будто кто-то черный шмыгнул в рукав и теперь оттуда высовывается что-то – то ли шерсти клочок, то ли кончик хвоста. Ни слова не говоря, я выбираюсь из-за стола и прижимаюсь к облепленному стружкой рукаву Миколаса. Когда страх понемногу отпускает меня, я снова вполголоса задаю вопрос:
– А зачем ты тащил его в том мешке? Я бы его бросил и убежал…
– Как же, бросишь тут, коли пальцы от страха судорогой свело… Не разжать мне их, и все тут. А мешок еще тяжелее стал. Совсем я запарился, в три погибели согнулся, нога за ногу заплетается, иду, а сам думаю: хрюкай себе на здоровье, пинайся сколько влезет. А когда пальцы чуток разжались, я на землю тот мешок шлеп, и вдруг снова-здорово! Яснее ясного услышал, как что-то зазвенело!.. Что за наваждение! Развязал я трясущимися руками мешок, распутал – вот это да!.. Золото! Вот такая куча золотых… А на верхушке торчит совсем как этот, – и мастер показал на Нечистика, – бурый, косматый, горбатый… Зенками зырк-зырк, хвостом круть-верть, слез с кучи и говорит: «Спасибо, что добраться помог. Ни разу еще, – говорит, – так здорово не катался…» Когтем мешок ткнул – тащи, мол, коли взвалишь… Расхохотался, плюх в омут и топором на дно. Я его еще перекрестил, затем поплевал на ладони – хвать тот мешок, а он ни с места. Зато я до самых подмышек в трясине увяз. Выбраться хочу – не могу. Вязну, как муха в меду, и мешок мой, гляжу, в тину погружается. Однако ж держу я его, не выпускаю. Хоть карман, думаю, золотишком этим набью, хоть горстку урву… А как поглубже засосало, – мне бы хоть монетку одну, говорю, хоть за уголь рассчитаться, хоть отцу показать… Ведь иначе домашние не поверят, а соседи так те плеваться начнут, мол, вру я все. Да и ты небось сейчас не веришь…
– Я то верю… – прошептал я.
– Ну, ладно… И что бы ты на моем месте? Плюнул бы на эти чертовы деньги и глядел, как бы самому не увязнуть. Вот и я: как только почуял, что нечистый меня за ноги вниз тащит, отпустил мешок и ухватился за какое-то корневище. Кое-как выкарабкался, глаза от тины протер, а тут и луна из-за туч выглянула – гляжу, до дому-то рукой подать. Так и вернулся – без денег и без мешка…

Оба мы глубоко вздохнули. Чертенок стоял передо мной, съежившись, будто опасаясь, как бы я не свернул ему шею, а Миколас, затянувшись, пыхнул на него целым клубом дыма.
И все-таки я чуточку не верил. А вдруг все это сказка? Но едва я сказал спокойной ночи, шагнул за дверь, как все мои сомнения рассеялись. В сумраке сени кишмя кишели чертями и привидениями. Они прятались кто под метелкой из еловых лап, кто под лестницей и наверняка притаились за бочкой с капустой. Мне же нужно было отыскать в этой жуткой темнотище дверь и в два счета прошмыгнуть в освещенную комнату.
Потихонечку, шаг за шагом, пробирался я вперед, как вдруг трах – хрустнуло что-то на полу! Под стеной сверкнули и вмиг исчезли чьи-то глаза… Я обмер и лишь немного погодя сообразил, что, наверное, наступил на щетку, а этими страшными глазищами, чего доброго, сверкнул наш кот Ри́цкус, который охотился за мышью.
Я ступил еще шажок, прислушался – ступил другой… И вдруг, хотите верьте, хотите нет, какой-то невидимка хвать меня ледяными пальцами за нос и не отпускает. Снова стою ни жив ни мертв, боюсь перевести дыхание. Сердце, как моторчик, – тук-тук-тук… Я бы и крикнул, да боязно пока. Ладно еще, хоть не щиплют меня или за нос не тянут. Держат за кончик да помалкивают, и больше ничего. Я же терплю и жду, что дальше будет. Вдруг кто-нибудь из домашних выйдет на сон грядущий звездами полюбоваться и выручит меня. Чудно́, почему это нынче вечером дом как вымер… А что, если это страшилище продержит меня за нос, покуда я не окоченею в сенях, на холоде? Нужно что-то делать. Или закричать, или спросить тихонько, чего от меня хотят…
Расхрабрившись понемногу, я осторожненько поднимаю руку, чтобы дотронуться до этих ледяных, безжизненных пальцев. Уже нащупал – да это же… стена, а носом я прижался… к дверной ручке…
– Тьфу! Тьфу! Тьфу! – трижды сплевываю я и смущенно вхожу в комнату.
Тетя спрашивает, где это я задержался – все уже спать собираются, – а мне стыдно признаться. Быстренько раздевшись, ныряю под одеяло, сворачиваюсь калачиком и принимаюсь думать, мечтать о том, как я вырасту и стану мастером. Выстругаю такого же чертенка и буду рассказывать, как он меня за нос водил. Напридумываю всяких страхов. И будет моя сказка длинная-длинная, на целый вечер. Все будут слушать ее разинув рты и голову ломать – было это или не было. Скорее всего, поверят, что было…


ПЕРВОЕ СТАДО
Ой-ой-ой, что же теперь будет? Вдруг я умру, и никто не узнает, отчего я умер, такой маленький. Доктор утешал маму, что я скоро поправлюсь и буду носиться по-прежнему, а нынче мамочка из больницы вернется, Апалю́кас из школы придет, но меня уже в живых не застанут, это точно…
– Тетя-я! Пятру́у-те! – кричу я на всю горницу.
Мне откликается со двора петух, липа в ответ царапает ветками о стену, а тетя не слышит. Тишина. Только старинные ходики уныло отсчитывают последние часы моей жизни: тик-так, тик-так…
Вот ужас-то. Видно, именно тогда, когда тебя никто не слышит, когда никого нет рядом, и приходит страшила смерть. И чем громче я буду орать, тем скорее она меня отыщет и доконает.
В спину точно шилом колют – это кусается блоха, но я лежу неподвижно, боясь даже почесаться.
Уехала мамочка в больницу, вот и развелись у нас блохи. Никто рубаху не постирает, никто блинов гороховых не нажарит. Тетю Пятруте же, хоть и перебралась сюда за нами приглядывать, обычно не докличешься. А если и дозовусь, скажу, что умираю, она все равно лишь головой покачает. Тетя даже когда молится, так делает, словно говорит всем буззвучно – нет, нет, нет…
А была бы сейчас дома наша мама, обнял бы я ее, расцеловал и рассказал, что цыплёнок в тот раз не просто так издох и что не Апа́лис его из рогатки подстрелил, а я нечаянно дверью прищемил. А еще я хотел подарить свое стадо – всех овечек и коровок – и ящичек впридачу своему закадычному другу Йо́насу. И хорошо, если бы Апалис, придя из школы, выучил наизусть стишок, что я сам сочинил:
Прощай, дорогой мой Йоня́лис,
В песке мы с тобой наигрались,
Навек откупались в речушке
И накуковались кукушкой…
Тебе двадцать две коровки оставляю
И двадцать семь белых овечек завещаю.
Случайно одну я овцу проглотил,
Оттого я умер и на небо угодил…
И снова ветки по стене – царап-царап, а ставни отвечают им глухо – бум-бум-бум. С просевшего потолка сыплется костра. То ли ветер шумит, то ли бродит кто на чердаке? Вдруг какое-нибудь страшилище пыталось протиснуться в щель да и застряло. А теперь скулит собачонкой… Вон уж и свистеть принялось, чтобы кто-нибудь на выручку пришел…
Хорошо еще, что у меня под кроватью спит моя скотинка. Белые фасолинки – овцы, а огромные пятнистые фасолины – коровы. Все они лежат в старом выдвижном ящике от стола. Стосковавшись по ним, я усаживаюсь в постели, кладу на колени ящик и прутиком пасу свое стадо: подгоняю, выстраиваю рядами, понукаю или ласково беседую со скотиной.
Нынче поутру один бычок, пузатый такой, забодал овцу. Я положил бедняжку в рот и по забывчивости проглотил. А что если фасолина внутри пустит побег?! Ведь она меня насквозь прорастет. Апалис прочитал в какой-то из своих книжек, как у одного старика фасоль пробила потолок, крышу и выросла аж до самого неба. А у меня уже живот режет! И с каждым разом все сильнее. А тут еще тетя дала на завтрак картошки с селедкой. И так мне сейчас пить хочется, так давно хочется, только боюсь, как бы от воды фасолинка в рост не пошла. Нет рядом мамушки, не с кем посоветоваться…
За стеной слышится позвякивание ведра, и я обрадованно закатываю рев:
– Те-е-тя-я! Те-е-течка! Иди сюда!..
Наконец дверь со скрипом отворяется и в горницу входит пропахшая дымом тетя Пятруте. Голова у нее трясется, будто тетя говорит: можешь ничего не просить – не выпросишь.
– Тетечка, – все же решаюсь я, – а я фасолину проглотил.
– Чего-о? – недослышав, спрашивает тетя.
– Фасолинку проглотил, фасоль!.. – кричу я в ее пропыленное ухо.
– Ну, проглотил, так чего тебе еще? Чего орешь-то?
– А я не умру?
– Чего-о?
– Если она прорастет, – говорю, – я не умру?
– Коли и умрешь, к боженьке угодишь… Лучше молись за мамашино здоровье.
– Принеси мне попить, – прошу я, потеряв надежду найти у нее утешение.
– То ему поесть, то попить… Сам не знаешь, чего хочешь.
Ворча, тетя уходит и немного погодя приносит в трясущейся руке глиняную кружку. Я колеблюсь – пить, не пить, но побаиваюсь тети и жадно выпиваю всю воду, в которой плавает костра. Будь что будет… Умер папа, умерли двое братишек, умру и я. Я ложусь на спину, складываю руки на груди и закрываю глаза.
– Ага, полежи-ка теперь, помучайся, раз маму не слушаешься… – нудит тетя. – Отца нет, от ремня отвыкли, вот с жиру и беситесь с Апалисом. И дернула вас тогда нелегкая на тот мост тащиться!.. Вам бы только набедокурить, поесть да одежду изодрать…
А на самом деле все вот как было.
Пошла как-то раз мама к Гасю́насам на толо́ку[2]2
Толо́ка (по́мочь) – работа миром, выполняемая безвозмездно, взаимопомощь.
[Закрыть] лен убирать, обещалась в обед вернуться, нас покормить, а только нет ее и нет. Мы с Апалисом проголодались как волки, Буренка недоенная размычалась, мне отчего-то плакать захотелось, а брат утешает:
– Придет она, не хлюпай, чего испугался. Вот вылезет солнце из-за этой тучки, она и придет.
Я слезы вытер, на небо гляжу, а оно точно перинами обложено. Только солнышко высунуться захочет, уже и краешек его сияет, как на него наползает другая туча, побольше прежней.
– Обещал я тебе, что научу грибы собирать, – снова говорит мне Апалис, – но раз уж ты любитель ворон считать…
– Больше не буду, – пообещал я. – Только научи.
Брат мигом очутился на заборе, с забора дотянулся до дубовой ветки и, вскарабкавшись на дерево, нарвал зеленых желудей. Из них Апалис вырезал с десяток крохотных боровичков и, велев мне зажмуриться, рассовал их там и сям в траве.
– Ну, а теперь собирай, – сказал он, – а я погляжу, все ли найдешь.
Я всё собирал и собирал эти боровички, разгребал, словно чужими пальцами, траву, потому что меня снова охватила тревога. Под конец я опустил руки и принялся плакать, зовя маму.
– Если ты перестанешь реветь и побудешь тут, я схожу к Гасюнасам, – сказал Апалис. – Может, мама тащит что-нибудь тяжелое или где-нибудь на малинник по дороге набрела…
Я кивнул – ступай, дескать, ступай… Но едва брат ушел, мне сделалось так тоскливо и беспокойно, как ни разу в жизни. Подождал-подождал немного и отправился следом за братом искать маму. Знакомой тропой, где я частенько разбивал в кровь ноги об извивающиеся по земле корневища, добрался до реки. Через нее был переброшен мосток из гибких жердин. В одиночку мне еще не доводилось переходить по нему. Обычно мама переносила меня на руках. Я крепко обнимал ее за шею и со страхом глядел, как раскачивается мостик, бурлит внизу вода, видел белеющие на дне камни. Порой мне казалось, что вода стоит на месте, а сам мостик плывет куда-то, несет нас – голова кругом. Но на этот раз я бесстрашно вцепился в перила, до которых с трудом мог дотянуться, и боком, боком стал пробираться по скрипучим жердинам к середине.
За речкой и соснячком должна была виднеться среди деревьев жестяная крыша Гасюнасовой избы. Мне бы только благополучно перебраться, а там я во весь дух помчусь…
За рекой в кустах послышались голоса. Один вроде бы знакомый. Мама! Мамочка возвращается! Но что с ней! Почему Йонукасова мама с Апалисом поддерживают ее под руки?
– Мама! – крикнул я, позабыв про мост. – Мамочка!
Я хотел поскорее броситься ей на шею, но потерял равновесие и упал в воду. Потом все было точно во сне: я снова очутился под дубом и все искал в траве боровички. И будто кто-то сказал мне: если все не соберу, никогда больше не увижу маму. Руками и даже зубами разрывал я траву, ворошил крапивник, но никак не мог отыскать эти боровички.
Спустя некоторое время я открыл глаза и подумал, что стою на мостике, схватился за перила, но нащупал теплую мамину руку. Мама целовала меня, ласкала и все повторяла сквозь слезы:
– Сыночек мой… Мой Кази́тис…
Только сейчас я почувствовал, что лежу в постели, что голова моя обвязана платком, а обмотанная нога прямо огнем горит.
– Мамочка, я, наверное, упал?
– Упал, детка. Мог о камни разбиться, как лягушонок.
– Мамочка, а почему ты так долго не приходила?
– Захворала я… Тебе очень больно? Погляди, каких я тебе фасолек принесла…
Она сняла с гвоздя волглую сермягу и вытряхнула из кармана на постель белых «овечек» и пестрых «коровок».
Я стал поправляться, а мамочке становилось все хуже и хуже. Приехал доктор из Па́свалиса. Он осмотрел мою ногу, дал лекарства и сказал, что выздоровею и дома. А маме велел как можно скорее ехать в больницу.
Апалис рассказал мне, что, когда я упал в речку, мама, даром что сама едва на ногах держалась, бросилась в воду и вытащила меня. Я был в крови и как неживой. Оттого она сейчас совсем расхворалась, и доктор сказал, что у нее рак… Я не сомневался, что этот мерзкий рак прицепился к ней там, в речке, и поэтому чувствовал за собой вину, все время плакал и по совету тети Пятруте молился за мамочку.

А та проглоченная фасолинка, видно, оказалась на здоровье, потому что через несколько дней я уже мог понемногу ковылять по двору. Правда, я так исхудал и ослаб, меня до того заели блохи, что, казалось, и петух запросто опрокинет. Огородишко наш зарос травой, а на яблоне не осталось ни одного сладкого яблока. Все посбивали и пообрывали пастухи, ведь Апалис пошел в школу и некому было за ней приглядывать.
А живот так подвело, сил нет! Особенно когда вспоминаю мамины блины и картофельные клецки с молоком. Никто мне теперь ничего вкусненького не готовит. Голодный встаю, на голодный желудок спать отправляюсь. А во сне все ем, ем… И пахучие ведарай, и сладкий кисель. Даже язык прокусил, когда во сне что-то вкусное жевал.
Однажды ночью мне приснилась мама. Привела она меня на кладбище, а папина могилка вся в красивых цветах. Белые, красные, синие и так пахнут! Постояли мы с ней, как обычно, травинку-другую выдернули и к речке отправились. Подняла она меня на руки и несет по мостику, а тот раскачивается. Мне так жутко сделалось, я к ней покрепче прижался, а мама мне и говорит: «Ох, и тяжелый же ты стал. Такой большой вымахал…» Умаявшись, посадила она меня на перила, а я снова кувырк через голову и лечу, покуда не просыпаюсь на лету.
Было уже утро, и я сразу подумал о еде. За стеной тетя звякала конфорками и с кем-то громко разговаривала. Сглатывая слюну, я вскочил и побежал умываться. Пятруте помешивала что-то на огне, рядом стояла мама Йонукаса и уголком платка утирала слезящиеся, видно от дыма, глаза.
Умывшись, я вытерся рукавами своей рубашки, потому что полотенце пахло тряпкой, и сел за стол. Тетя положила передо мной горбушку хлеба и поставила миску похлебки. Я тут же схватился за ложку, но вовремя вспомнил, как впопыхах не раз обжигал горло. Поэтому степенно перекрестился и только тогда пододвинул к себе похлебку. Но не успел я подуть на нее, как увидел такое! В супе были сварены мои коровки и овечки!
Я вскочил и, ни слова не говоря, помчался взглянуть, не ошибка ли это. Под кроватью стоял пустой ящик… Эта ведьма, эта злыдня Пятруте, и сварила все мое стадо. С ящиком в руках я вернулся назад, лепеча сквозь слезы:
– Я… я… все рас… расскажу маме!
Осмелившись лишь на такую угрозу, я кинулся в угол и уткнулся в мамину сермягу – чтобы заглушить прорвавшиеся рыдания.
Ко мне подошла Йонукасова мама, погладила по голове и сказала:
– Не плачь, детка, не плачь по пустякам – будь мужчиной. На что они тебе, эти фасолины? Теперь-то уж напасешься вдоволь. – И, помолчав, добавила: – Нынче ночью, Казюкас, умерла твоя мама…









