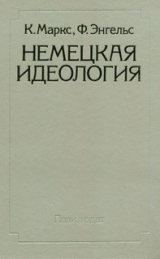
Текст книги "Немецкая идеология"
Автор книги: Карл Генрих Маркс
Соавторы: Фридрих Энгельс
сообщить о нарушении
Текущая страница: 23 (всего у книги 52 страниц)
Из только что сказанного уже ясно, что прежним эгоистам стóит только изменить свое сознание, чтобы сделаться эгоистами в необыкновенном смысле, что, стало быть, согласный с собой эгоист отличается от прежних только сознанием, т.е. только как обладающий знанием, как философ. Из всего исторического воззрения святого Макса следует далее, что раз над всеми прежними эгоистами господствовало только «Святое», то истинный эгоист только против «Святого» и должен бороться. «Единственная» история показала нам, как святой Макс превратил исторические отношения в идеи, а затем эгоиста – в грешника перед этими идеями; как всякое эгоистическое самоутверждение было им превращено в грех перед этими идеями – как, например, власть привилегированных была превращена в грех перед идеей равенства, в грех деспотизма. По поводу идеи свободы конкуренции можем мы поэтому прочесть в «Книге», что частная собственность рассматривается автором (стр. 155) как «личное»… великого… самоотверженного эгоиста… необходимо и непреодолимо… может побороть, только превратив их в нечто святое и уверяя затем, что он упраздняет в них святость, т.е. свое святое представление о них, – упраздняет их, поскольку они существуют только в нем как в святом [237]237
Данное место рукописи сохранилось только частично. Ред.
[Закрыть].
Стр. 50 [238]238
Пометка Маркса в начале страницы: «II (Творец и творение)». Ред.
[Закрыть]: «Таким, каким Ты существуешь в каждое мгновение,Ты и являешься Своим творением, и вот в этом-то творенииТы не должен утратить Себя, творца. Ты – сам по сравнению с Собой являешься более высоким существом, т.е. Ты являешься не просто творением, но равным образом и Творцом; и это-то Ты и упускаешь из виду в качестве недобровольного эгоиста и поэтому это более высокое существо чуждо Тебе».
В несколько иной вариации та же премудрость изложена на стр. 239 «Книги»:
«Род – Ничто» (в дальнейшем он превращается в разнообразнейшие вещи, смотри «Самонаслаждение»), «и когда отдельный человек поднимается над ограниченностью своей индивидуальности, то именно здесь выступает Он сам как отдельная личность; он существует лишь постольку, поскольку он поднимается все выше, поскольку он не остается тем, что он есть, иначе он был бы застывшим, мертвым».
По отношению к этим положениям, к этому своему «творению», Штирнер тотчас же начинает вести себя как «творец», «отнюдь не утрачивая себя в них»:
«Лишь в мгновенииТы обладаешь бытием, лишь как мгновенный Ты действительно существуешь. В каждый данный момент Я есть целиком то, что Я есть… То, что оторвано от Тебя как мгновенного», есть нечто «абсолютно высшее»… (Виганд, стр. 170); а на стр. 171 (там же) «Твое существо» определяется как «Твое мгновенное существо».
Тогда как в «Книге» святой Макс говорит, что помимо мгновенного существа, он является еще другим, более высоким существом, в «Апологетическом комментарии» «мгновенное существо» его индивида отождествляется с его «совершенно целостным существом», и каждое существо как «мгновенное» превращается в «абсолютно высшее существо». Стало быть, в «Книге» он в каждое мгновение есть более высокое существо по сравнению с тем, что он есть в это мгновение, а в «Комментарии» все то, чем он в данное мгновение не является непосредственно, есть «абсолютно высшее существо», святое существо. – И после всего этого раздвоения мы читаем на стр. 200 «Книги»:
«Я ничего не знаю о раздвоении на „ несовершенное“» и «„ совершенное“ Я».
«Согласный с собой эгоист» теперь уже не должен приносить себя в жертву ничему высшему, ибо он сам для себя и есть это высшее, и это раздвоение между «высшим» и «низшим» он переносит в самого себя. Так в самом деле (святой Санчо contra [239]239
– против. Ред.
[Закрыть]Фейербах, «Книга», стр. 243) «высшее существо претерпело не более чем метаморфозу». Истинный эгоизм святого Макса заключается в эгоистическом отношении к действительному эгоизму, к самому себе, каков он есть «в каждое данное мгновение». Это эгоистическое отношение к эгоизму есть самоотверженность. Святой Макс как творение является с этой стороны эгоистом в обыкновенном смысле, а как творец – он самоотверженный эгоист. Мы познакомимся и с противоположной стороной, ибо обе эти стороны узаконяются как настоящие рефлективные определения, поскольку они проделывают абсолютную диалектику, в которой каждая из них есть в себе своя собственная противоположность.
Прежде чем вникнуть глубже в эту мистерию в ее эзотерическом виде, необходимо рассмотреть ее в ее отдельных тяжких жизненных битвах.
[Наиболее общего качества – эгоиста, приведенного как творца в согласие с самим собой, с точки зрения мира духа – Штирнер достигает на стр. 82, 83.
«Христианство ставило себе целью освободить Нас от природного определения (определения через природу), от влечений как движущей силы; оно стремилось, таким образом, к тому, чтобы человек не подчинялся своим влечениям. Это не значит, что онне должен иметьвлечений, а лишь то, что влечения не должны властвовать над ним, что они не должны стать закостеневшими, непреодолимыми, неразрушимыми. Этипроиски христианства против влечений не могли ли бы мыприменить и к его собственному предписанию, чтобы мы определялись духом…? …Тогда этосвелось бы к разложению духа, к разложению всех мыслей. Как там следовало сказать… так теперь мы сказали бы: Мы должны, правда, владеть духом, но дух не должен владеть Нами».]
«Но те, которые присоединились к Христу, распяли плоть вместе со страстями и похотями» (Послание к галатам, 5, 24), – выходит, что, по Штирнеру, они поступают со своими распятыми страстями и похотями как истинные собственники. Он берет подряд на распространение христианства, но не хочет удовлетвориться одной лишь распятой плотью, а желает распять и дух, т.е. «целостного субъекта».
Христианство только потому хотело освободить нас от господства плоти и «влечений как движущей силы», что смотрело на нашу плоть, на наши влечения, как на нечто чуждое нам; оно только потому хотело устранить нашу обусловленность природой, что нашу собственную природу оно считало не принадлежащей нам. В самом деле, раз я сам не являюсь природой, раз мои природные влечения, вся моя природная организация не принадлежат мне самому, – а таково учение христианства, – то всякая обусловленность природой – будет ли эта обусловленность вызвана моей собственной природной организацией или так называемой внешней природой – покажется мне обусловленностью, чем-то чуждым, покажется оковами, насилием надо мной, гетерономией, в противоположность автономии духа. Эту христианскую диалектику Штирнер принимает не задумываясь и затем применяет ее к нашему духу. Впрочем, христианство так и не достигло того, чтобы освободить нас от власти влечений, хотя бы в том мещански-ограниченном смысле, который святой Макс подсунул христианству, – оно не идет дальше пустой, практически безрезультатной моральной заповеди. Штирнер принимает моральную заповедь за реальное действие и восполняет ее дальнейшим категорическим императивом: «Мы должны, правда, владеть духом, но дух не должен владеть Нами», – и поэтому весь его согласный с собой эгоизм сводится «при ближайшем рассмотрении», как сказал бы Гегель, к столь же забавной, сколь назидательной и созерцательной моральной философии.
Становится ли влечение закостеневшим или нет, т.е. приобретает ли оно над нами исключительную власть, – чтó, впрочем, не исключает дальнейшего развития, – это зависит от того, дозволяют ли материальные обстоятельства, «дурные» житейские условия нормально удовлетворять это влечение и, с другой стороны, развивать целую совокупность влечений. А это последнее зависит, в свою очередь, от того, живем ли мы в таких обстоятельствах, которые допускают всестороннюю деятельность и тем самым полное развитие всех наших задатков. От уклада действительных отношений и от обусловленной этими отношениями возможности развития у каждого индивида зависит и то, становятся ли мысли закостеневшими или нет, – так, например, навязчивые идеи немецких философов, этих «жертв общества» qui nous font pitié [240]240
– внушающих нам жалость. Ред.
[Закрыть], неразрывно связаны с немецкими условиями. Впрочем, у Штирнера власть влечений есть пустая фраза, возводящая его в достоинство абсолютного святого. Так, возвращаясь к «трогательному примеру» корыстолюбца, мы читаем:
«Корыстолюбец – не собственник, а раб, и он ничего не может сделать для себя, не делая этого вместе с тем для своего господина» (стр. 400).
Никто не может сделать что-нибудь, не делая этого вместе с тем ради какой-либо из своих потребностей и ради органа этой потребности, – это для Штирнера означает, что данная потребность и ее орган приобретают господство над ним, подобно тому как он уже раньше провозгласил средстводля удовлетворения потребности (ср. разделы о политическом либерализме и коммунизме) господином над собой. Штирнер не может принимать пищу, не принимая ее вместе с тем ради своего желудка. Если житейские отношения мешают ему удовлетворить свой желудок, то этот его желудок становится господином над ним, стремление к еде становится навязчивым стремлением, а мысль о еде – навязчивой идеей, – чтó заодно дает ему пример влияния житейских условий на процесс закостенения его желаний и идей. «Бунт» Санчо против закостенения желаний и мыслей сводится, таким образом, к бессильной моральной заповеди самообладания и еще раз доказывает, что он лишь придает идеологически-высокопарное выражение тривиальнейшему умонастроению мелких буржуа [241]241
Далее в рукописи перечеркнуто: «Коммунисты, поскольку они нападают на материальный базис, на котором покоится неизбежное до сих пор затвердевание желаний или мыслей, являются единственными, благодаря историческому действию которых расплавление затвердевающих желаний и мыслей действительно осуществляется и перестает быть, как у всех моралистов до сих пор „вплоть до“ Штирнера, бессильной моральной заповедью. Коммунистическая организация действует двояким образом на желания, вызываемые в индивиде нынешними отношениями: часть этих желаний, а именно те, которые существуют при всяких отношениях и лишь по своей форме и направлению изменяются различными общественными отношениями, подвергаются и при этой общественной форме изменению, поскольку им доставляются средства для нормального развития; другая же часть, а именно те желания, которые обязаны своим происхождением лишь определенной общественной форме, определенным условиям производства и общения, совершенно лишаются необходимых для них условий жизни. Какие именно влечения при коммунистической организации подвергаются лишь изменению, а какие упраздняются, – можно решить только практическим путем, посредством изменения действительных, практических влечений, а не посредством сравнений с прежними историческими отношениями.
Оба выражения: „твердые“ и „желания“, только что употребленные нами с целью разбить Штирнера на этом „единственном“ факте, конечно, совершенно неподходящи. Тот факт, что в нынешнем обществе одна потребность индивида может удовлетворяться за счет всех других и что существует моральное требование, согласно которому этого „не должно быть“, что так именно дело обстоит plus ou moins [более или менее] у всех индивидов нынешнего мира и что тем самым делается невозможным свободное развитие целостного индивида, – этот факт Штирнер, который ничего не знает относительно эмпирической связи данного факта с существующим общественным строем, формулирует в том смысле, что у несогласных с собою эгоистов „желания затвердевают“. Желание, уже в силу одного своего существования, есть нечто „твердое“, и только святому Максу и его братии может прийти в голову мысль не дать, например, своему половому влечению сделаться „твердым“, каким оно является уже от природы и каким перестало бы быть только вследствие кастрации или импотенции. Всякая потребность, лежащая в основе того или другого „желания“, есть тоже нечто „твердое“, и святой Макс никакими усилиями не добьется уничтожения этой „твердости“ и такого, например, состояния, при котором ему не приходилось бы принимать пищу через „твердые“ промежутки времени. Коммунисты и не помышляют об уничтожении этой твердости своих желаний и потребностей, как Штирнер в своих фантазиях навязывает это им и всем остальным людям; они стремятся только к такой организации производства и общения, которая сделала бы для них возможным нормальное, т.е. ограниченное лишь самими потребностями, удовлетворение всех потребностей». Ред.
[Закрыть].
Итак, в этом первом примере он борется, с одной стороны, со своими плотскими желаниями, а с другой – со своими духовными мыслями; с одной стороны – со своей плотью, с другой – со своим духом, когда они, его творения, хотят приобрести самостоятельность по отношению к нему, своему творцу. Как наш святой ведет эту борьбу, каково его отношение как творца к своим творениям, – это мы сейчас увидим.
У христианина «в обыкновенном смысле», у chrétien «simple» [242]242
– у «простого» христианина. Ред.
[Закрыть], говоря словами Фурье, « духвластвует безраздельно, и никакие уговоры „ плоти“ не принимаются им во внимание. Однако сломить тиранию духаЯ могу не иначе, как „ плотью“, ибо только человек, уразумевший также и голос своей плоти, уразумел себя всецело, и только уразумев себя всецело, он становится разумеющим или разумным… Но как только плотьзаговорит, и притом, – что и не может быть иначе, – страстным тоном… тогда ему» (нашему chrétien simple) «чудятся бесовские голоса, голоса против духа… и ему приходится ополчиться против них. Он не был бы христианином, если бы стал их терпеть» (стр. 83).
Итак, когда его дух хочет приобрести самостоятельность по отношению к нему, святой Макс призывает на помощь свою плоть, а когда взбунтуется его плоть, он вспоминает, что он ведь также и дух. То, что христианин делает в одном направлении, – святой Макс делает сразу в обоих. Он – «сложный» христианин (chrétien «composé»), он еще раз показывает себя совершенным христианином.
Здесь, в этом примере, святой Макс в качестве духа не выступает как творец своей плоти, и наоборот; он находит в готовом виде свою плоть и свой дух, и лишь тогда, когда взбунтуется одна из сторон, он вспоминает, что у него есть и другая, и выдвигает эту другую сторону, как свое истинное Я, против первой. Святой Макс является здесь, стало быть, творцом лишь постольку, поскольку он « имеет еще и другое определение», поскольку он обладает еще и другим качеством помимо того, которое ему угодно подвести в данный момент под категорию «творения». Вся его творческая деятельность заключается здесь в благом намерении уразуметь себя, и притом уразуметь себя всецелоили быть разумным [243]243
Здесь, следовательно, святой Макс вполне оправдывает «трогательный пример» Фейербаха о гетере и возлюбленной. В первой человек «уразумел» только голос своей плоти, или только ее плоти, во второй же он уразумел себя всецело, или ее всецело. Смотри Виганд, стр. 170, 171.
[Закрыть], уразуметь себя как «совершенно целостное существо», как существо, отличное от «его мгновенного существа» и даже прямо противоположное тому, каково его существо в данное «мгновение».
[Обратимся теперь к одной из «тяжких жизненных битв» нашего святого:
Стр. 80, 81: «Мое рвение может не уступать самому фанатичному, но я в то же время отношусь к нему с ледяной холодностью, недоверчивостью и как его непримиримейший враг; Я остаюсь его судьей, ибо Я его собственник».
Если это высказывание святого Санчо о самом себе имеет смысл,] то его творческая деятельность ограничивается здесь тем, что в своем рвении он сохраняет сознание об этом рвении, что он размышляет над ним, что он относится как мыслящее Я к себе как действительному Я. Сознание – вот что он произвольно наделяет именем «творца». Он «творец» лишь постольку, поскольку он обладает сознанием.
«Благодаря этому Ты забываешь самого Себя в сладостном самозабвении… Но разве Ты существуешь лишь, пока Ты мыслишь о Себе, и исчезаешь, когда забываешь Себя? Кто не забывает себя каждое мгновение, кто не теряет себя из виду тысячу раз в час?» (Виганд, стр. 157, 158).
Этого, разумеется, Санчо не может забыть своему «самозабвению», и поэтому он «относится» к нему «в то же время как его непримиримейший враг».
Святой Макс как творение пылает необычайным рвением в тот самый момент, когда святой Макс как творец уже возвысился посредством размышления над этим своим рвением; или: действительный святой Макс пылает рвением, а рефлектирующий святой Макс воображает, что возвысился над этим рвением. Это возвышение в рефлексии над тем, что он есть в действительности, занятно и увлекательно в беллетристической форме, описывается затем как такое состояние, в котором он сохраняет свое рвение; это значит, что его вражду к своему рвению не следует принимать всерьез, хотя святой Макс и ведет себя по отношению к нему «с ледяной холодностью», «с недоверчивостью» и как «непримиримейший враг». – Поскольку святой Макс испытывает рвение, т.е. поскольку рвение есть его действительное свойство, постольку он относится к нему не как творец; поскольку же он относится к нему как творец, постольку он не испытывает действительного рвения, – рвение чуждо ему, не свойственно ему. До тех пор пока он испытывает рвение, он не собственник рвения, а как только он становится его собственником, он перестает испытывать рвение. Он, являясь целостным комплексом, есть в каждое мгновение, в качестве творца и собственника, совокупность всех своих свойств за вычетом одного, которое он противопоставляет себе как творение и собственность, противопоставляет совокупности всех остальных свойств, – так что ему всегда чуждоименно тосвойство, которое он особенно подчеркивает как свое.
Как ни фантастично звучит истинная история святого Макса о его геройских подвигах, разыгрывающихся в нем самом, в его собственном сознании, все же несомненным остается тот факт, что существуют рефлектирующие индивиды, полагающие, что в рефлексии и посредством нее они возвысились надо всем [244]244
Далее в рукописи перечеркнуто: «В действительности все это – лишь высокопарное изображение буржуа, который контролирует каждое свое душевное движение, чтобы не потерпеть убытка, но в то же время кичится всевозможными своими свойствами, например филантропическим пылом, к которому ему следовало бы относиться „с ледяной холодностью, недоверием и непримиримейшей враждой“, чтобы не потерять себя при этом как собственника, а остаться собственником филантропии. Но святой Макс жертвует свойством, к которому он относится как „непримиримейший враг“, ради своего рефлектирующего Я, ради своей рефлексии, между тем как буржуа жертвует своими склонностями и желаниями всегда ради определенного действительногоинтереса». Ред.
[Закрыть], тогда как в действительности они никогда не возвышаются над рефлексией.
Эту уловку – утверждать себя против какого-либо определенного свойства в качестве лица, имеющего также и другие определения, в данном примере в качестве обладателя рефлексии, устремленной на противоположное, – этот прием можно снова применить с необходимыми вариациями к какому угодно свойству. Например, мое равнодушие может не уступать равнодушию самого пресыщенного человека; но в то же время я отношусь к этому своему равнодушию с крайней горячностью, недоверчивостью и как его непримиримейший враг и т.д.
[Не следует забывать, что тот целостный комплекс всех его свойств, тот собственник, в качестве которого святой Санчо, рефлектируя, выступает против одного определенного свойства, – есть в данном случае не что иное, как простая рефлексия Санчо над этим одним свойством. Это свойство он превратил в свое Я, выдвигая, вместо целостного комплекса, одно качество – чисто рефлективное – и выставляя против каждого из своих свойств, как и против всех их в совокупности, лишь одно качество рефлексии, некое Я,] и притом выдвигая себя как представляемое Я.
Это враждебное отношение к самому себе, эта выспренняя пародия бентамовской бухгалтерии своих собственных интересов и свойств {208}высказывается теперь им самим.
Стр. 188: «Тот или иной интерес, на что бы он ни был направлен, добыл в моем лице себе раба, если Я не могу от него избавиться; уже не он – Моя собственность, а Я – Его собственность. Откликнемся же на предписание критики – чувствовать себя привольно только в разрушении».
«Мы»! – Кто это «Мы»? «Нам» и в голову не приходит «откликаться» на «предписание критики». – Таким образом, святой Макс, находящийся в данный момент под полицейским надзором «критики», требует здесь – «одинакового благоденствия всех», «равного благоденствия всех в одном и том же отношении», «прямого тиранического господства религии».
Его заинтересованность в необыкновенном смысле обнаруживается здесь как небесная незаинтересованность.
Впрочем, нам здесь уже нечего распространяться о том, что в существующем обществе от святого Санчо отнюдь не зависит, «добывает ли какой-нибудь интерес в его лице себе раба» и «сможет ли он от этого интереса избавиться». Затвердение интересов благодаря разделению труда и классовым отношениям еще гораздо очевиднее, чем затвердение «влечений» и «мыслей».
Чтобы перещеголять критическую критику, наш святой должен был бы дойти, по крайней мере, до разрушения разрушения, ибо иначе разрушение остается интересом, от которого он не может избавиться, который в его лице добыл себе раба. Разрушение уже не есть больше его собственность, а он – собственность разрушения. [Если бы в только что приведенном примере он хотел быть последователен, он должен был бы трактовать свое рвение против своего «рвения» как «интерес» и отнестись к нему «как непримиримый враг». Но он должен был бы принять во внимание также свою «ледяную» незаинтересованность по отношению к своему «ледяному» рвению и точно так же сделаться совершенно «ледяным», – чем он, разумеется, избавил бы свой первоначальный «интерес», а тем самым и себя, от «соблазна» вертеться кругом на спекулятивном каблуке.] – Вместо этого он преспокойно продолжает (там же):
«Я буду заботиться лишь об обеспечении за Собой Моей собственности» (т.е. об обеспечении Себя от Моей собственности) «и, чтобы обеспечить ее, Я ежечасно вбираю ее обратно в Себя, уничтожаю в ней малейший порыв к самостоятельности и проглатываю ее, прежде чем она успеет затвердеть и сделаться навязчивой идеей или манией».
Как это только Штирнер умудряется «проглатывать» тех лиц, которые составляют его собственность!
Штирнер только что позволил «критике» навязать ему некое «призвание». Он утверждает, что это «призвание» тотчас же снова им проглатывается, – он говорит на стр. 189:
«Я делаю это, однако, не ради моего человеческого призвания, а потому, что Я сам призываю Себя к этому».
Когда я не призываю себя к этому, я, как мы только что слышали, являюсь рабом, а не собственником, не истинным эгоистом, я отношусь тогда к себе не как творец, как это следовало бы делать мне как истинному эгоисту; и, стало быть, поскольку кто-нибудь хочет быть истинным эгоистом, он должен призвать себя к этому предписанному «критикой» призванию. Таким образом, это – всеобщее призвание, призвание для всех, не только егопризвание, но и его призвание. – С другой стороны, истинный эгоист выступает здесь как недосягаемый для большинства индивидов идеал, ибо (стр. 434) «ограниченные от природы головы бесспорно составляют самый многочисленный класс людей», – а как могли бы эти «ограниченные головы» проникнуть в таинство неограниченного поглощения самого себя и всего мира. – Впрочем, все эти страшные выражения – уничтожать, проглатывать и т.д. – представляют собой лишь новую вариацию вышеприведенной «ледяной холодности непримиримейшего врага».
Теперь, наконец, мы в состоянии как следует понять штирнеровские возражения против коммунизма. Они были не чем иным, как предварительным, скрытым узаконением его согласного с собой эгоизма, в котором эти возражения воскресают во плоти. [« Равное благоденствие всех в одном и том же отношении» воскресает в виде требования, чтобы « Мывсе чувствовали себя привольно в разрушении». « Забота» воскресает и в виде единственной «заботы» об обеспечении за собой своего Я как собственности; но «с течением времени» снова возникает «забота о том, как» прийти к единству, – к единству творца и творения. И, наконец, опять появляется гуманизм, который в виде истинного эгоиста предстает перед эмпирическими индивидами как недосягаемый идеал.] Следовательно, фразу на стр. 117 «Книги» следует читать так: Согласный с собой эгоизм стремится по-настоящему превратить каждого человека в «тайное полицейское государство». Шпионка и ищейка «рефлексия» следит за каждым движением духа и тела, и всякая деятельность и мысль, всякое проявление жизни есть для нее дело рефлексии, т.е. дело полиции. В этой разорванности человека, в его распаде на «природное влечение» и «рефлексию» (плебейство внутри нас, творение и внутренняя полиция, творец) и заключается согласный с собой эгоист [245]245
Далее в рукописи перечеркнуто: «Если, впрочем, у святого Макса „один высокопоставленный прусский офицер“ говорит: „Каждый пруссак носит в груди своего жандарма“, – то он, очевидно, хотел сказать: королевского жандарма; только „согласный с собой эгоист“ носит в груди своего собственногожандарма». Ред.
[Закрыть].
Гесс («Последние философы», стр. 26) упрекнул нашего святого в том, что
«он постоянно находится под тайным полицейским надзором своей критической совести… Он не забыл „предписание критики… чувствовать себя привольно только в разрушении“… Эгоист, – напоминает ему все время его критическая совесть, – ничем не должен интересоваться настолько, чтобы целиком отдаться своему предмету» и т.п.
Святой Макс «уполномочивает себя» возразить на это так:
Если «Гесс говорит о Штирнере, будто он постоянно находится и т.д., то это значит только, что, когда он критикует, он хочет критиковать не как попало» (т.е., заметим в скобках, не единственным способом), «не болтать вздор, а именно по-настоящему» (т.е. по-человечески) «критиковать».
«Что означало», когда Гесс говорил о тайной полиции и т.д., настолько ясно из приведенных слов Гесса, что даже «единственное» понимание этих слов святым Максом может быть объяснено только как умышленное непонимание. Его «виртуозность мышления» превращается здесь в виртуозность во лжи, – виртуозность, которую мы, конечно, не поставим ему в упрек, так как она была здесь для него единственным выходом, но которая очень плохо гармонирует с весьма утонченными, скрупулезными различениями в вопросе о праве лгать, приводимыми им в другом месте «Книги». Впрочем, мы уже доказали Санчо, – более пространно, чем он того заслуживает, – что «когда он критикует», то отнюдь не «критикует действительно», а «критикует как попало» и «болтает вздор».
Итак, отношение истинного эгоиста, как творца, к себе, как к творению, было сперва определено в том смысле, что против определения, в котором он фиксировал себя как творение, – например, против себя как мыслящего, как духа, – он утверждает себя в качестве существа еще и иначе определенного, в качестве плоти. В дальнейшем он утверждал себя уже не как действительноеще и иначе определенное существо, а как простое представление о наличии еще и иной определенностивообще, – значит, в нашем примере, как существо также и немыслящее, лишенное мыслей или безразличное к мышлению; однако и это представление он снова отбрасывает, как только обнаруживается его бессмысленность. Смотри выше о верчении на спекулятивном каблуке [246]246
См. с. 235. Ред.
[Закрыть]. Стало быть, творческая деятельность заключалась здесь в рефлексии, что такое-то определение, в данном случае мышление, может быть и безразличным для него, т.е. она заключалась в рефлектировании вообще; в результате он и создает, конечно, только рефлективные определения, если вообще что-нибудь создает (например, представление о противоположности, нехитрая суть которого прикрывается всевозможными огнедышащими арабесками).
Что же касается содержанияего как творения, то мы видели, что он нигде не создает это содержание, эти определенные свойства, например свое мышление, свое рвение и т.д., а дает лишь рефлективное определение этого содержания как творения, только представление о том, что эти определенные свойства суть его творения. Все его свойства заранее присущи ему, а откуда они происходят, для него безразлично. Значит, ему нет надобности развивать их – например, учиться танцевать, чтобы стать господином над своими ногами, или упражнять свою мысль на материале, имеющемся не у всякого и не для всякого доступном, чтобы стать собственником своего мышления; ему нет также надобности думать об общественных отношениях, от которых в действительности зависит, насколько индивид может развиваться.
Штирнер в действительности только избавляется от одного свойства посредством другого (т.е. избавляется от подавления своих прочих свойств этим «другим»). Но, как мы уже показали, на деле он избавляется от него лишь постольку, поскольку это свойство не только достигло свободного развития и не осталось простым задатком, [но и поскольку общественные отношения позволили ему равномерно развить целую совокупностьсвойств, а именно благодаря разделению труда [247]247
См. с. 231. Ред.
[Закрыть], и поскольку они, в силу этого, позволили ему преимущественно осуществлять одну-единственную страсть, например, страсть писать книги. Вообще бессмысленно предполагать, как это делает святой Макс, что можно удовлетворить одну какую-нибудь страсть, оторванную от всех остальных, что можно удовлетворить ее], не удовлетворив вместе с тем себя, целостного живого индивида. Если эта страсть принимает абстрактный, обособленный характер, если она противостоит мне как некая чуждая сила, если, таким образом, удовлетворение индивида оказывается односторонним удовлетворением одной-единственной страсти, – то зависит это отнюдь не от сознания или «доброй воли» и уж тем более не от недостатка рефлексии над понятием свойства, как это представляет себе святой Макс.
Это зависит не от сознания, а от бытия; не от мышления, а от жизни; это зависит от эмпирического развития и проявления жизни индивида, зависящих, в свою очередь, от общественных отношений. Если обстоятельства, в которых живет этот индивид, делают для него возможным лишь одностороннее развитие одного какого-либо свойства за счет всех остальных, если они дают ему материал и время для развития одного только этого свойства, то этот индивид и не может пойти дальше одностороннего, уродливого развития. Никакая моральная проповедь тут не поможет. И тот способ, каким будет развиваться это одно, особенно культивируемое свойство, зависит опять-таки, с одной стороны, от материала, предоставляемого для его развития, а с другой – от степени и характера подавленности остальных свойств. Именно потому, что мышление, например, есть мышление данного определенного индивида, оно остается егомышлением, определяемым его индивидуальностью и теми отношениями, в рамках которых он живет; значит, мыслящему индивиду вовсе нет надобности прибегать к длительной рефлексии над мышлением как таковым, чтобы объявить свое мышление своим собственным мышлением, своей собственностью, – оно с самого начала есть его собственное, своеобразно определенное мышление, и как раз это его своеобразие [оказалось у святого Санчо «противоположностью» этого свойства, оказалось своеобразием, которое существует только « в себе»]. У индивида, например, жизнь которого охватывает обширный круг разнообразной деятельности и различных видов практического отношения к миру и является, таким образом, многосторонней жизнью, – у такого индивида мышление носит такой же характер универсальности, как и всякое другое проявление его жизни. Оно не затвердевает поэтому в виде абстрактного мышления и не нуждается в сложных фокусах рефлексии, когда индивид переходит от мышления к какому-либо другому проявлению жизни. Оно с самого начала является моментом в целостной жизни индивида – моментом, который, смотря по надобности, то исчезает, то воспроизводится.
Иначе дело обстоит у ограниченного тесными рамками берлинского школьного наставника или у писателя, деятельность которого ограничивается тяжкой работой, с одной стороны, и наслаждением мыслью – с другой, мир которого простирается от Моабита до Кёпеника и наглухо заколочен за Гамбургскими воротами {209}, отношения которого к этому миру сведены до минимума его жалким положением в жизни. У такого индивида, когда он испытывает потребность в мысли, мышление неизбежно становится столь же абстрактным, как сам этот индивид и его жизнь, и противостоит ему, лишенному всякой сопротивляемости, в виде косной силы, деятельность которой дает индивиду возможность спастись на мгновение из его «дурного мира», дает возможность минутного наслаждения. У такого индивида немногие оставшиеся влечения, возникающие не столько из общения с внешним миром, сколько из устройства человеческого тела, проявляются лишь отраженными толчками, т.е. они принимают в рамках своего ограниченного развития тот же односторонний и грубый характер, как и его мышление, появляются лишь через большие промежутки времени и под давлением непомерно разросшегося преобладающего влечения [подкрепляемые непосредственными физическими причинами, (например спазмами в животе) и проявляются бурно и насильственно, грубо вытесняя обыкновенное, естественное влечение, что приводит к дальнейшему усилению их власти над мышлением. Само собой разумеется, что школьно-наставническая мысль рефлектирует и изощряется в умствованиях над этим эмпирическим фактом по-школьно-наставнически. Но простое заявление, что Штирнер вообще «создает» свои свойства, не объясняет даже их развития в определенном направлении]. Развиваются ли эти свойства в универсальном или в местном масштабе, поднимаются ли они над местной ограниченностью или остаются в плену у нее, это зависит не от Штирнера, а от развития мировых сношений и от того участия, которое он и местность, где он живет, принимают в них. При благоприятных обстоятельствах отдельным лицам позволяет избавиться от их местной ограниченности отнюдь не то, что индивиды в своей рефлексии воображают, будто они уничтожили или собираются уничтожить свою местную ограниченность, а лишь тот факт, что они в своей эмпирической действительности и в силу эмпирических потребностей дошли до установления мировых сношений [248]248
Далее в рукописи перечеркнуто: «Это специфически революционное отношение коммунистов к существовавшим до сих пор условиям жизни индивидов было изображено уже выше. Святой Макс признает в одном позднейшем, мирском месте, что Я получает от мира (фихтевский) „толчок“. Что коммунисты намерены взять под свой контроль этот „толчок“, который (если не ограничиться пустой фразой) становится, правда, крайне сложным и многообразно определенным „толчком“, – это, конечно, для святого Макса слишком дерзновенная мысль, чтобы он мог остановиться на ней». Ред.
[Закрыть].
Единственно, чего достигает наш святой с помощью своего мучительного рефлектирования над своими свойствами и страстями, это то, что этим непрестанным крючкотворством и возней с ними он отравляет себе наслаждение ими и их удовлетворением.
Святой Макс творит, как уже было сказано, лишь себя как творение, т.е. он ограничивается тем, что подводит себя под эту категорию творения. [Деятельность его как творца заключается в том, что он рассматривает себя как творение, причем он даже не заботится о том, чтобы опять уничтожить это раздвоение себя на творца и творение, – раздвоение, которое является его собственным продуктом. Раздвоение на «связанное с сущностью» и «не связанное с сущностью» становится у него перманентным жизненным процессом, становится, стало быть, пустой видимостью, т.е. его собственная жизнь существует только в «чистой» рефлексии, не становясь даже действительным бытием; и так как это последнее находится все время вне его и его рефлексии, то он тщетно старается представить рефлексию как нечто связанное с сущностью.








