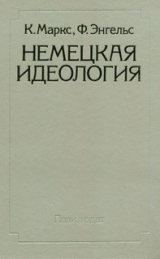
Текст книги "Немецкая идеология"
Автор книги: Карл Генрих Маркс
Соавторы: Фридрих Энгельс
сообщить о нарушении
Текущая страница: 32 (всего у книги 52 страниц)
Впрочем, это «если бы» является только отзвуком вышеприведенной фразы Санчо; ибо «если бы» Санчо сделал все это, то он, разумеется, не мог бы написать своей книги.
Так как святой Санчо принимает на веру иллюзию политиков, юристов и прочих идеологов, которые ставят на голову все эмпирические отношения, и к тому же прибавляет на немецкий манер еще кое-что от себя, – то частная собственность превращаетсяу него в государственную собственность, resp. [338]338
– respective – соответственно. Ред.
[Закрыть]– в правовую собственность, над которой он может теперь проделать эксперимент для оправдания своих вышеприведенных уравнений. Присмотримся прежде всего к превращению частной собственности в государственную собственность.
«Вопрос о собственности решается только властью» (напротив, вопрос о власти решается пока что собственностью), «и так как государство одно только является властью – будет ли это государство бюргеров или государство босяков» (штирнеровский «Союз»), «или же просто человеческое государство, – то оно одно и является собственником» (стр. 333).
Рядом с фактом немецкого «государства бюргеров» здесь снова фигурируют одинаково сконструированные фантазии Санчо и Бауэра, между тем как нигде нельзя найти упоминания об исторически важных государственных образованиях. Сперва он превращает государство в некое лицо, в «Обладателя власти». Тот факт, что господствующий класс организует свое совместное господство в публичную власть, в государство, Санчо толкует, – извращая этот факт на немецкий мелкобуржуазный манер, – так, будто «государство» конституируется, в качестве третьей силы, против этого господствующего класса и поглощает в себе, в противовес ему, всю власть. А вслед за тем он начинает подтверждать эту свою веру целым рядом примеров.
Поскольку собственность при господстве буржуазии, как и во все другие эпохи, связана с известными условиями, прежде всего экономическими, зависящими от степени развития производительных сил и общения, – условиями, которые неизбежно получают политическое и юридическое выражение, – то святой Санчо простодушно полагает, будто
« государствосвязывает владение собственностью» (саr tel est son bon plaisir [339]339
– ибо так ему заблагорассудилось. Перефразирована заключительная формула французских королевских эдиктов. Ред.
[Закрыть]) «с некоторыми условиями, подобно тому как оно связывает с известными условиями все вообще, например брак» (стр. 335).
Так как буржуа не позволяют государству вмешиваться в их частные интересы и дают ему лишь столько власти, сколько необходимо для того, чтобы обеспечить их собственную безопасность и сохранить конкуренцию; так как буржуа вообще выступают в качестве граждан государства лишь постольку, поскольку этого требуют их частные интересы, – то Jacques le bonhomme полагает, будто они «ничто» пред лицом государства.
«Государство заинтересовано лишь в одном: самому быть богатым; государству нет дела до того, богат ли Михель и беден ли Петер… оба они – ничто перед ним» (стр. 334).
Ту же мудрость черпает он на стр. 345 из того факта, что государство относится терпимо к конкуренции.
Если правление железной дороги интересуется своими акционерами лишь постольку, поскольку они уплачивают взносы и получают дивиденды, то берлинский школьный наставник в своем простодушии умозаключает отсюда, что акционеры – «ничто пред лицом правления, как все мы грешники – пред лицом бога». Из того обстоятельства, что государство бессильно перед частными собственниками, Санчо делает тот вывод, что собственники бессильны перед государством и что сам он бессилен перед обоими.
Далее. Так как буржуа организовали защиту своей собственности в государстве и так как «Я» не может поэтому просто отнять «у такого-то фабриканта» его фабрику, а может это сделать лишь в рамках буржуазных условий, т.е. в рамках условий конкуренции, то Jacques le bonhomme полагает, что
«государство имеет фабрику на правах собственности, фабрикант же – только на правах лена, владения» (стр. 347).
Таким же точно образом собака, охраняющая мой дом, «имеет» этот дом «на правах собственности», а я получаю этот дом от собаки только на правах «лена, владения».
Так как скрытые материальные условия частной собственности часто должны вступать в противоречие с юридической иллюзиейнасчет частной собственности – как это обнаруживается, например, в случае экспроприации, – то Jacques le bonhomme заключает отсюда, что
«здесь прямо бросается в глаза скрытый в других случаях принцип, согласно которому только государство есть собственник, а отдельное лицо – ленник» (стр. 335).
«Здесь прямо бросается в глаза» только то, что от глаз нашего достопочтенного бюргера остались скрытыми за завесой «Святого» мирские отношения собственности и что он все еще должен раздобыть себе в Китае «небесную лестницу», чтобы «взобраться» на ту «ступень культуры», на которой в цивилизованных странах находятся даже школьные наставники. Санчо превращает здесь связанные с существованиемчастной собственности противоречия в отрицаниечастной собственности, – то же он делал, как мы видели выше, и с противоречиями внутри буржуазной семьи [340]340
См. с. 158 – 159. Ред.
[Закрыть].
Если буржуа, вообще все члены буржуазного общества, вынуждены конституироваться в качестве «Мы», в качестве юридического лица, в качестве государства, чтобы обеспечить свои общие интересы и вручить – уже в силу разделения труда – свою, полученную таким образом, коллективную власть немногим лицам, то Jacques le bonhomme воображает, будто
«каждый лишь постольку пользуется собственностью, поскольку он носит в себе Ягосударства или является лояльным членом общества… Кто является государственным Я, т.е. добрым бюргером или подданным, тот, в качестве такогоЯ, – а не в качестве собственного Я, – спокойно пользуется леном» (стр. 334, 335).
С этой точки зрения каждый лишь постольку владеет железнодорожной акцией, поскольку он «носит в себе» «Я» правления, – значит, железнодорожной акцией он может владеть только в качестве святого.
Уяснив себе таким образом тождество частной и государственной собственности, святой Санчо может продолжать:
«Если государство не отнимает произвольно у отдельного индивида то, что он получил от государства, то это означает только, что государство не обирает самого себя» (стр. 334, 335).
Если святой Санчо не похищает по своему произволу собственности других, то это означает только, что святой Санчо не обирает самого себя, ибо он ведь « рассматривает» всякую собственность как свое достояние.
От нас не потребуют разбора остальных фантазий святого Санчо насчет государства и собственности, например его утверждения, что государство «приманивает» и «награждает» отдельных индивидов при помощи собственности, что оно из особого коварства установило высокие гербовые сборы, чтобы разорять граждан, когда они нелояльны, и т.д. и т.д. Мы не будем вообще останавливаться на том мелкобуржуазно-немецкомпредставлении о всемогуществегосударства, на представлении, которое встречается уже у старых немецких юристов, а здесь преподносится нам в форме торжественных и пышных заверений. – Свое пространное доказательство тождества государственной и частной собственности святой Санчо пытается под конец подтвердить еще и путем этимологической синонимики, но при этом, однако, он бьет свою ученость en ambas posaderas [341]341
– по ягодицам. Ред.
[Закрыть].
«Моя частная собственность [Privateigentum], это – лишь то, что государство предоставляет мне из своего достояния, отнимая(priviert) тем самым у других членов государства: она – государственная собственность» (стр. 339).
Случайно оказывается, однако, что дело обстоит как раз наоборот. Частная собственность в Риме, к которой только и может относиться эта этимологическая уловка, находилась в самом прямом противоречии с государственной собственностью. Правда, государство предоставляло плебеям частную собственность, но при этом оно не отнимало у «других» их частную собственность, а отнимало у самих этих плебеев их государственную собственность (ager publicus) и их политические права, и поэтому именно ониназывались privati, ограбленные, а не те фантастические «другие члены государства», о которых грезит святой Санчо. Jacques le bonhomme покрывает себя позором во всех странах, на всех языках и во все эпохи, едва только начинает говорить о положительных фактах, относительно которых «Святое» не может обладать априорным знанием.
Отчаяние по поводу того, что государство поглощает всю собственность, гонит Санчо обратно в его сокровеннейшее «возмущенное» самосознание, где его ошеломляет открытие, что он – литератор. Свое изумление он выражает в следующих достопримечательных словах:
«В противоположность государству Я все отчетливее чувствую, что у Меня еще остается одна великая власть, именно – власть над самим Собой».
В дальнейшем это развивается следующим образом:
«В Моих мыслях Я имею действительную собственность, которою Я могу торговать» (стр. 339).
Итак, «босяк» Штирнер, «человек лишь идеального богатства», приходит к отчаянному решению начать торговать свернувшимся, скисшим молоком своих мыслей {267}. Но на какую же хитрость пустится он, если государство объявит его мысли контрабандой? Послушайте только:
«Я отказываюсь от них» (чтó несомненно очень мудро) «и обмениваю их на другие» (при том, разумеется, условии, если кто-либо окажется настолько плохим дельцом, чтобы согласиться на подобный обмен [342]342
В оригинале игра слов: «Wechsel» означает и «обмен», и «вексель». Ред.
[Закрыть]мыслями), «которые и становятся Моей новой, купленной собственностью» (стр. 339).
Наш честный бюргер не успокаивается до тех пор, пока не будет написано черным по белому, что он честно купил свою собственность. – Вот оно – утешение берлинского бюргера при всех его государственных бедствиях и полицейских напастях: «Мысли не подлежат пошлине!» {268}
Превращение частной собственности в государственную сводится, в конце концов, к представлению, будто буржуа владеет только в качестве экземпляра, принадлежащего к роду буржуа, – роду, который в своей совокупности называется-де государством и наделяет собственностью отдельных индивидов на правах лена. Здесь опять все поставлено на голову. В буржуазном классе, как и во всяком другом, совместными и всеобщими условиями становятся только развившиеся личные условия, при которых владеет и живет каждый отдельный член класса. Если прежде подобные философские иллюзии могли еще иметь хождение в Германии, то теперь, когда мировая торговля достаточно ясно показала, что буржуазная нажива нисколько не зависит от политики, но зато политика всецело зависит от буржуазной наживы, – теперь подобные иллюзии стали совершенно смехотворны. Уже в XVIII веке политика настолько зависела от торговли, что когда, например, французское государство захотело заключить заем, то ручательство за него голландцам должно было дать частное лицо.
Что «обесценение Меня» или «пауперизм» есть «реализация ценности» или «существование» «государства» (стр. 336), это – одно из 1001 штирнеровских уравнений, о котором мы упоминаем здесь лишь потому, что в связи с ним мы узнаем кое-что новое о пауперизме.
«Пауперизм, это – обесценение Меня, он проявляется в том, что Я не могу реализовать Себя как ценность. Поэтому государство и пауперизм – одно и то же… Государство всегда старается извлечь пользуиз Меня, т.е. эксплуатировать Меня, утилизировать, использовать, хотя бы это использование состояло только в том, что я забочусь о proles [343]343
– потомстве. Ред.
[Закрыть](пролетариате). Оно хочет, чтобы я был его креатурой» (стр. 336).
Не говоря уже о том, что здесь обнаруживается, как мало от него зависит реализовать свою ценность, хотя он всюду и везде может сохранить свою особенность; не говоря о том, что здесь опять-таки, в противоположность прежним утверждениям, совершенно обособлены друг от друга сущность и явление, – тут снова повторяется приведенное выше мелкобуржуазное мнение нашего простака, будто «государство» хочет эксплуатировать его. Интересно также, что древнеримское этимологическое происхождение слова «пролетариат» наивно протаскивается здесь в современное государство. Неужели святой Санчо действительно не знает, что повсюду, где развилось современное государство, «забота о proles» является для государства, т.е. для официальных буржуа, самой неприятной формой деятельности пролетариата? Не посоветовать ли ему перевести для собственного поучения на немецкий язык Мальтуса и министра Дюшателя? {269}Святой Санчо, как немецкий мелкий буржуа, «чувствовал» «все отчетливее», что «в противовес государству у него еще оставалась великая сила», именно – сила создавать себе мысли назло государству. Если бы он был английским пролетарием, он почувствовал бы, что у него «оставалась сила» производить назло государству детей.
И снова иеремиады против государства! И снова теория пауперизма! В качестве «Я» он «создает» сперва «мукý, полотно или железо и уголь», тем самым уничтожая, одним махом, разделение труда. Затем он начинает «пространно» «жаловаться» на то, что его труд не оплачивается по своей стоимости, и прежде всего вступает в конфликт с теми, кто оплачивает труд. Затем на сцену появляется государство в роли «умиротворителя».
«Если Я не довольствуюсь ценой, которую оно» (т.е. государство) «устанавливает на мой товар и труд, если Я сам стремлюсь установить цену Своего товара, стремлюсь сам к тому, чтобы эта цена была Мне выплачена, то Я вступаю в конфликт прежде всего» (великое «Прежде всего»! – не с государством, а только) «с покупателями товара» (стр. 337).
А когда он хочет войти в «прямые сношения» с этими покупателями, т.е. «схватить их за глотку», государство тотчас же «вмешивается», «отрывая человека от человека» (хотя дело шло не о «человеке вообще», а о рабочем и работодателе или же – чтó он постоянно смешивает – о покупателе и продавце товаров); и притом государство делает это с коварным умыслом – «встать посредине в качестве духа» (разумеется, святого духа).
«С рабочими, желающими получить бóльшую плату, обращаются, как с преступниками, лишь только они пожелают вырватьее» (стр. 337).
Здесь перед нами снова целый букет бессмыслиц. Господин Сениор мог бы не писать своих писем о заработной плате {270}, если бы он предварительно завязал «прямые сношения» со Штирнером, тем более, что в этом случае государство, конечно, не «оторвало бы человека от человека». Санчо заставляет здесь государство выступать трижды – сперва в роли «умиротворителя», затем в качестве фактора, определяющего цену, наконец в виде «духа», в виде Святого. То, что святой Санчо после достославного отождествления частной и государственной собственности заставляет государство определять также и заработную плату, – это свидетельствует столько же о его замечательной последовательности, сколько о полном незнакомстве с делами мира сего. То, что «с рабочими, которые хотят вырвать более высокую заработную плату», в Англии, Америке и Бельгии вовсе не обращаются непременно как с «преступниками» и что, наоборот, они довольно часто этой более высокой платы добиваются на деле, – это опять-таки не известный нашему святому факт, благодаря чему вся его легенда о заработной плате идет насмарку. То, что рабочие, даже если бы государство не «встало посредине», ничего бы не добились, «схватив за глотку» своих работодателей, во всяком случае добились бы гораздо меньшего, чем путем ассоциаций и забастовок, – разумеется, пока они остаются рабочими, а их противники капиталистами, – это тоже факт, который можно было наблюдать даже в Берлине. Точно так же не нуждается в доказательстве и то, что основанное на конкуренции буржуазное общество и его буржуазное государство в силу всей своей материальной основы не могут допустить между гражданами никакой иной борьбы кроме конкуренции, а как только люди начинают «хватать друг друга за глотку», общество и государство выступают не в виде «духа», а вооруженные штыками.
Впрочем, домысел Штирнера, что обогащение индивидов на основе буржуазной частной собственности означает только обогащение государства или что до сих пор всякая частная собственность была государственной собственностью, – этот домысел опять-таки ставит исторические отношения на голову. С развитием и накоплением буржуазной собственности, т.е. с развитием торговли и промышленности, отдельные лица все более богатели, государство же все более впадало в задолженность. Этот факт обнаружился уже в первых итальянских торговых республиках, затем проявился наиболее ярко, начиная с прошлого столетия, в Голландии, где биржевой спекулянт Пинто обратил внимание на данное явление еще в 1750 г. {271}, а теперь этот факт снова наблюдается в Англии. Поэтому-то мы и видим, что как только буржуазия накопит денег, – государство оказывается вынужденным выклянчивать их у буржуазии, а под конец оно и просто покупается ею. И это происходит в тот период, когда буржуазии противостоит еще другой класс, и государство может, следовательно, сохранить видимость некоторой самостоятельности по отношению к каждому из них. Даже продавшись, государство все еще нуждается в деньгах и поэтому продолжает зависеть от буржуа, но зато оно может, когда этого требуют интересы буржуазии, получить в свое распоряжение бóльшие средства, чем другие, менее развитые и поэтому менее обремененные долгами государства. Однако даже самые неразвитые государства Европы, члены Священного союза, неотвратимо идут навстречу этой судьбе и будут скуплены буржуазией с аукциона; и тогда Штирнер сможет их утешить ссылкой на тождество частной и государственной собственности; особенно он сможет утешить этим своего собственного суверена, который тщетно пытается отодвинуть час продажи государственной власти в такой мере «испортившимся» «бюргерам».
Теперь мы переходим к вопросу об отношении между частной собственностью и правом, где нам опять преподносится в другой форме та же самая дребедень. Тождество государственной и частной собственности получает здесь как будто новый оборот. Политическое признаниечастной собственности в законодательстве рассматривается как основачастной собственности.
«Частная собственность живет милостью права. Только в праве она имеет свою гарантию, – ведь владение не есть еще собственность; оно становится Моим только с согласия права; это – не факт, а фикция, мысль. Это – собственность в силу права, правовая собственность, гарантированнаясобственность; она – Моя не благодаря Мне, а благодаря – праву» (стр. 332).
В этой фразе приведенная уже выше бессмыслица о государственной собственности достигает еще большей высоты комизма. Перейдем поэтому сразу к тому, как Санчо эксплуатирует фиктивное jus utendi et abutendi [344]344
– право употребления и злоупотребления, т.е. право распоряжаться вещью по своему произволу. Ред.
[Закрыть].
На стр. 332 мы узнаем, кроме вышеприведенной прекрасной сентенции, что собственность «есть неограниченная власть над каким-либо объектом, которым Я могу располагать, как мне заблагорассудится». Но «власть» не есть «нечто существующее само по себе, а существует она только во властном Я, во Мне, наделенном властью» (стр. 366). Поэтому собственность не есть «вещь», не есть «это дерево; Моя власть над ним, Мое распоряжение им – это и есть Мое» (стр. 366). Он знает только «вещи» и «Я». «Отделенная от Я», получившая самостоятельное существование, превращенная в «призрак» «власть есть право». «Эта увековеченная власть» (рассуждение о наследственном праве) «не угасает даже с Моей смертью, но, передается или наследуется. Вещи в действительности принадлежат не Мне, а праву. С другой стороны, это не больше, чем простой мираж, ибо власть отдельного индивида становится постоянной, становится правом лишь потому, что другие индивиды соединяют свою власть с его властью. Иллюзия заключается в том, что они полагают, будто не могут взять обратно свою власть» (стр. 366, 367). «Собака видит кость во власти другой собаки и просто отступает, если чувствует себя слишком слабой. Человек же уважает праводругого человека на его кость… И как здесь, так и вообще „ человеческим“ называют такое отношение к вещам, когда во всем видят нечто духовное, в данном случае – право, т.е. когда все превращают в призрак и относятся к нему как к призраку… Человеку свойственно рассматривать единичное не как единичное, а как всеобщее» (стр. 368, 369).
Таким образом, все злоключения проистекают опять-таки из веры индивидов в понятие права, которое они должнывыбить из своей головы. Святой Санчо знает лишь «вещи» и «Я», обо всем же, что не подходит под эти рубрики, обо всех отношениях, он имеет лишь абстрактные понятия, которые поэтому тоже превращаются для него в «призраки». «С другой стороны», он, правда, смутно чувствует подчас, что все это – «простой мираж» и что «власть отдельного индивида» весьма зависит от того, соединяют ли с ней свою власть другие люди. Но в последнем счете все сводится все-таки к «иллюзии», которую питают отдельные индивиды, « полагая, будто они не могут взять обратно свою власть». «В действительности», значит, железная дорога принадлежит не акционерам, а уставу. Санчо тут же приводит в качестве разительного примера наследственное право. Санчо объясняет его не из необходимости накопления и существующей до всякого права семьи, а из юридической фикции о продлении власти, о сохранении ее и после смерти [345]345
Далее в рукописи перечеркнуто: «Из более развитых правовых норм, которые являются самым точным выражением современных отношений собственности, например из Code civil, он мог бы убедиться в том, как… В Code civil „увековеченная власть“, которая „не кончается даже с Моей смертью“, сведена к минимуму, а в обязательных частях, причитающихся детям, признана материальная основа права, а именно права при господстве буржуазии». Ред.
[Закрыть]. Однако по мере перехода феодального общества в буржуазное все законодательства все более и более отказываются от этой юридической фикции. (Ср., например, кодекс Наполеона.) Здесь нет надобности разъяснять, что абсолютная отцовская власть и майорат – как естественно возникший ленный майорат, так и позднейшей формы – основывались на весьма определенных материальных отношениях. То же самое имеет место у древних народов в эпоху разложения общности[ Gemeinwesen] вследствие развития частнойжизни (лучшее тому доказательство – история римского наследственного права). Вообще Санчо не мог выбрать более неудачный пример, чем наследственное право, которое яснее всего показывает зависимость права от производственных отношений. Ср., например, римское и германское наследственное право. Разумеется, никогда еще ни одна собака не превратила кость в фосфор, в костяную муку или известь и точно так же ей никогда еще «ничего не приходило в голову» насчет ее «права» на кость; точно так же святому Санчо никогда не «приходило в голову», что следовало бы подумать о том, не связано ли право на кость, которое приобретают люди, а не собаки, с тем, что люди обращают эту кость определенным образом в предмет производства, а собаки на это неспособны. Вообще в одном этом примере перед нами весь метод критики Санчо и его непоколебимой веры в ходячие иллюзии. Существовавшие до сих пор производственные отношения индивидов должны выражаться также в качестве правовых и политических отношений. (Смотри выше [346]346
См. с. 19. Ред.
[Закрыть].) В рамках разделения труда эти отношения должны приобрести самостоятельное существование по отношению к индивидам. Все отношения могут быть выражены в языке только в виде понятий. Уверенность, что эти общие представления и понятия существуют в качестве таинственных сил, есть необходимый результат того, что реальные отношения, выражением которых они являются, получили самостоятельное существование. Эти общие представления, кроме их отмеченного значения в обыденном сознании, приобретают еще особое значение и развитие у политиков и юристов, которых разделение труда толкает к возведению этих понятий в культ и которые видят в них, а не в производственных отношениях, истинную основу всех реальных отношений собственности. Святой Санчо, не задумываясь, перенимает эту иллюзию и на этом основании объявляет правовую собственность основой частной собственности, а правовое понятие – основой правовой собственности, после чего он может ограничить всю свою критику тем, что объявляет понятие права понятием, призраком. Этим для святого Санчо все исчерпано. Для его успокоения можно ему еще напомнить, что во всех ранних законодательствах поведение двух собак, нашедших кость, рассматривается как право; vim vi repellere licere [347]347
– силу можно отразить силой. Ред.
[Закрыть]– говорят Пандекты {272}; idque jus natura comparatur [348]348
– это право дается природой. Ред.
[Закрыть], причем под правом понимается jus quod natura omnia animalia docuit [349]349
– право, которому природа обучила всех животных. Ред.
[Закрыть](людей и собак); впоследствии же организованное отражение силы силой «как раз» и становится правом.
Святой Санчо, сев на своего конька, обнаруживает свою ученость в области истории права тем, что начинает спорить с Прудоном из-за «кости». Прудон, – говорит он, –
«пытается уверить нас, что общество есть первоначальный владелец и единственный собственник права, не подлежащего давности; что по отношению к обществу так называемый собственник стал вором; что поэтому, если оно отнимает у какого-нибудь нынешнего собственника его собственность, то оно не похищает у него ничего, так как оно лишь реализует свое не подлежащее давности право. Вот куда может завести призрак общества как юридического лица» (стр. 330, 331).
В противоположность этому Штирнер старается «уверить» нас (стр. 340, 367, 420 и др.), что мы, т.е. неимущие, подарили собственникам их собственность из неведения, трусости или же по доброте сердечной и т.д., и призывает нас к тому, чтобы мы взяли назад свой подарок. Между обоими «уверениями» разница та, что Прудон основывается на историческом факте, а святой Санчо только «вбил себе нечто в голову», чтобы придать делу «новый оборот». В действительности же новейшие исследования по истории права установили, что как в Риме, так и у германских, кельтских и славянских народов развитие собственности имело исходным пунктом общинную или племенную собственность и что настоящая частная собственность повсюду возникла путем узурпации; этого святой Санчо, разумеется, не мог извлечь из осенившей его глубокой мысли, что понятие права есть понятие. По отношению к юристам-догматикам Прудон был вполне прав, подчеркивая этот факт и вообще борясь с ними при помощи их же собственных предпосылок. «Вот куда может завести призрак» понятия права как понятия. Прудону по поводу его вышеприведенного положения можно было бы возражать лишь в том случае, если бы он защищал более раннюю и грубую форму собственности против частной собственности, развившейся из этой первобытной общности [Gemeinwesen]. Санчо резюмирует свою критику Прудона в форме высокомерного вопроса:
«К чему так сентиментально взывать, подобно ограбленному бедняку, к чувству сострадания?» (стр. 420).
Очевидно, сентиментальность, – которой, впрочем, вовсе нет у Прудона, – дозволена только по отношению к Мариторнес. Санчо действительно воображает, что он – «целостный человек» по сравнению с таким верующим в привидения субъектом, как Прудон. Он считает революционным свой напыщенный канцелярский стиль, которого устыдился бы даже Фридрих-Вильгельм IV. «Блаженны верующие!» {273}
На стр. 340 мы узнаем, что
«все попытки создать разумные законы касательно собственности изливались из лона любвив пустынное море определений».
Сюда же относится не менее забавная фраза:
«Существовавшее до сих пор общение основывалось на любви, на взаимной внимательности, на заботе друг о друге» (стр. 385).
Святой Санчо поражает здесь самого себя удивительным парадоксом насчет права и общения. Но если мы вспомним, что под «любовью» он понимает любовь к «Человеку», вообще к чему-то, существующему в себе и для себя, ко Всеобщему, что он понимает под ней отношение к индивиду или вещи как к сущности, к Святому, – то эта блестящая видимость развеется в прах. Вышеприведенные изречения оракула сведутся тогда к старым, изрядно наскучившим нам на протяжении всей «Книги» тривиальностям, к тому, что две вещи, о которых Санчо ничего не знает, – а именно существовавшее до сих пор право и существовавшее до сих пор общение, – являются воплощениями «Святого» и что вообще до сих пор только «понятия господствовали над миром». Отношение к Святому, обычно называемое «уважением», можно иногда величать также и «любовью». (Смотри «Логику».)
Приведем только один пример того, как святой Санчо превращает законодательство в любовную связь, а торговые дела – в любовную интригу:
«В одном регистрационном билле относительно Ирландии правительство внесло предложение предоставить избирательное право только тем, кто платит пять фунтов стерлингов налога в пользу бедных. Следовательно тот, кто подает милостыню, приобретает политические права или же становится в некоторых странах рыцарем ордена лебедя» (стр. 344).
Заметим здесь прежде всего, что этот «регистрационный билль», дающий «политические права», был муниципальным или корпоративным биллем или же, выражаясь более понятным для Санчо языком, «городовым положением», которое могло давать не «политические права», а лишь городские права, избирательные права для выбора местных должностных лиц. Во-вторых, Санчо, занимающийся переводом Мак-Куллоха, должен был бы все-таки знать, что значит to be assessed to the poor-rates at five pounds {274}. Это вовсе не значит «платить пять фунтов налога в пользу бедных», а значит быть внесенным в списки плательщиков этого налога в качестве жильца дома, наем которого обходится ежегодно в пять фунтов. Наш берлинский простак не знает, что налог в пользу бедных в Англии и Ирландии есть местныйналог, имеющий различныеразмеры в разных городах и в разные годы, так что просто невозможно было бы связать какое-нибудь право с уплатой этого налога в определенном размере. Наконец, Санчо думает, будто английский и ирландский налог в пользу бедных, это – « милостыня»; в действительности же эти деньги служат средством для прямой и открытой наступательной войны, которую господствующая буржуазия ведет против пролетариата. Из них покрываются расходы на содержание работных домов, которые, как известно, являются мальтузианским средством для отпугивания от пауперизма. Мы видим, как Санчо «переносится из лона любви в пустынное море определений».
Заметим мимоходом, что немецкая философия, вследствие того, что единственной исходной точкой она считала сознание, неизбежно должна была завершиться моральной философией, где различные герои ломают копья из-за истинной морали. Фейербах любит человека во имя человека, святой Бруно любит его потому, что он этого «заслуживает» (Виганд, стр. 137 {275}), а святой Санчо, проникнутый сознанием своего эгоизма, любит «каждого», ибо так ему угодно («Книга», стр. 387).
Мы уже видели выше – в первом рассуждении, – как мелкие земельные собственники, исполненные уважения, выключили себя из крупной земельной собственности. Это самоисключение из чужой собственности, из-за почтения к ней, изображается вообще как характерная особенность буржуазной собственности. Из этой особенности Штирнер умудряется объяснить себе, почему
«внутри буржуазного строя, несмотря на то, что согласно его принципу каждый должен быть собственником, большинство не имеет ровным счетом ничего» (стр. 348). Это «происходит оттого, что большинство радуется уже одной возможности быть вообще владельцами, хотя бы только какой-нибудь пары тряпок» (стр. 349).
Что «большинство людей» обладает лишь «какой-нибудь парой тряпок», Шелига считает вполне естественным последствием их любви к тряпкам.








