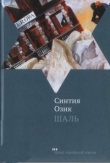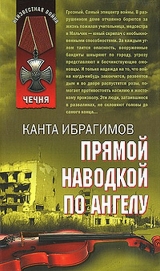
Текст книги "Прямой наводкой по ангелу"
Автор книги: Канта Ибрагимов
Жанр:
Военная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 18 (всего у книги 19 страниц)
Не первый день, тем более час, она в заточении проводит. Однако, таких томительно-тягостных кошмарных минут она еще не переживала. Словно секундная стрелка, время неумолимо бьет в висках, и ей хочется не то чтобы остановить, а как-то избавиться от этого учащенного барабана, но сердце, хоть и зажато до невыносимой боли в тиски, все еще живет, бьется, рвется наружу, как молот, стучит по раскаленной наковальне ее черепа, выпираясь страданием в глазах и ушах так, что хочется орать, визжать, бежать… на помощь Мальчику-сироте… Но, увы!
– Тик-так! Тик-так! – вновь пробили часы.
В оцепенении она прислушалась: тишина. А сердце, как и время неугомонно – стучит бешено в висках. И в таких невыносимых мучениях она еще два, может даже еще три раза слышала бой часов, и представляется ей, что уже и вторые петухи по окраине Грозного заголосили. И сама она не заметила, как забылась в глубоком сне, повалившись на отсыревшее одеяло: яростный взрыв и подземный толчок поставили ее на ноги. Ничего не соображая, крича, она бросилась наугад, до искр в глазах ударилась о бетон стены, повалилась, а в ушах стучит, и не как прежде, а еще быстрей, так, что простое человеческое сердце не может. И лишь маленько отлежавшись, после второго мощного взрыва, она, еще не веря в это, но все же поняла, что стреляют автоматы и пулеметы, и не здесь, а далеко, видать, в самом центре Грозного.
– Мальчик! Бабушка! – простонала она.
А стрельба все усиливается, все ближе, и со всех сторон. И как бы подбадривая ее, началась канонада. И она уже отчетливо слышит, как прямо над их домом летят ракеты: это по прямой из военной базы аэропорта бьют по центру Грозного, чтобы не воссоздать «Детский мир». А потом залетали самолеты и вертолеты – и началось во всю мощь и ненависть горнил.
И теперь не только центр, а весь город сотрясается. А Роза по подвалу мечется, не знает, в каком углу безопаснее: то там шарахнет, то здесь, и весь дом ходуном пошел, скрипит, стекла уже отзвенели, черепица стонет, балки трещат.
– «Всю жизнь Гута прав» – пронеслась черная мысль в сознании Розы.
– «Видать, здесь и вправду околею».
Так она и лежала, свернувшись в клубочек, ощущая, что с каждым взрывом оседает на нее новый слой пыли и ожидая вот-вот рухнет на нее весь дом, как явственно услышала человеческий стон, крик и даже имя свое. Она вскочила, сама заорала.
– Роза, Роза, – теперь отчетлив голос Тугана, сквозь щели зарится фонарь.
– Помоги, я ранен, кровь, помоги.
Они бессвязно, сквозь канонаду, стали друг другу кричать, что-то советовать. Туган очень долго не мог открыть люк, но до боли знакомый запах крови и смерти уже щедро орошал ее лицо.
– Лестницы нет, лестница сломалась! – пыталась она до него докричаться.
Он уже ослаб, плакал, из последних сил столкнул в подвал стул, потом второй, а руку помощи уже подать не смог. Роза несколько раз громоздила какие-то сооружения, голову высовывала, толкалась, но конструкция не выдерживала; она опрокидывалась, и сама о разбитую банку уже поранилась, но сдаваться нельзя: это и ее единственный путь спасения.
После многих попыток она все же выбралась: бросилась к однокласснику, хоть и темень, сразу же поняла – поздно! – задета главная артерия бедра, большая потеря крови, уже холодеют конечности.
– Потерпи, потерпи, сейчас, – она первым делом его же ремнем изо всех сил перевязала бедро выше раны.
– Машина есть?
– Есть, – еле прохрипел одноклассник.
– А водитель? Я не умею водить! – закричала на него она, будто он в этом виноват. – Спаси, спаси, – все шептал он, и вдруг полез в карман брюк, очень долго возился, и, наконец, достал две окровавленные пачки долларов.
– «Деньги Гуты», – пронеслось в ее голове. И себя, конечно же, она видеть не могла, но по молчаливой реакции Тугана поняла, что ее лицо – искаженный, быть может, злорадный оскал, и она на миг почему-то вспомнила Багу.
– Прошу, спаси, – Туган бессильно уронил пачки, и в ту же сторону упала его большая голова.
– Спасу, спасу, – заторопилась она.
– Потерпи, я в больницу, пришлю скорую.
Только на улице она поняла, что творится. Прямо над головой блестят траектории ракет, все гремит, всюду стреляют, землю трясет. И не будь она с этим уже знакома – повалилась бы под ближайший куст сирени и рыдала бы до конца. А ныне нельзя – Мальчик ждет, бабушка – калека.
Абсолютно не хоронясь, лишь поближе прижимаясь к теням заборов и зданий, она побежала в сторону центра. А летняя ночь, как никогда прекрасна! Нет духоты, свежо, пахнет перезревшей вишней и абрикосами. Мир полон звезд, ни облачка, и полная, сочная луна нависла над городом, словно освещает ей путь.
Добежав до Первомайской, она остановилась, и не для того, чтобы отдохнуть, а думая: в центре – дом – «Детский мир»; направо – больница. Нет, о Тугане она совсем не думает, о нем есть кому позаботиться – Туаевых не счесть. А вот Мальчик, где же он? По последней информации ранен, в больнице. И она побежала в сторону «Северного» базарчика. А потом, не доходя до развилки «Дома печати», где особенно сильно стреляли, вновь свернула направо, бежала средь маленьких домов частного сектора и уже почти что вышла к родной больнице, уже под ноги не смотрела, а зрела на фоне неба темное, большое здание, как ей подножку подставили, на всем ходу она повалилась, очень больно ударилась, взвыла, и не одна пара цепких рук ее схватили, оттащили в сторону, во двор разбитого дома.
– Ба, так это же баба, – совсем молодой голос на чеченском.
– Отпустите меня, пожалуйста, отпустите, – она порывается бежать.
– Да ты присядь, – силой дернули они ее вниз, сами сели на корточки рядом.
– Ты куда несешься сломя голову, жить надоело.
– Мальчик мой в больнице, раненый. Я сама там работаю медсестрой.
– Что не слышишь, сдурела, кругом бойня, в больнице засел ОМОН… И как ты досюда добралась?
– Пустите, пустите, мой Мальчик там, раненый, – одно и то же повторяла она.
Ее долго отговаривали, обещали, что к утру штурмом больницу возьмут, иль ОМОН сам сдастся.
– Пустите, пустите, – все твердила она.
– Ладно, – сдались боевики, – что предписано – не миновать. Только дай нам хоть как-то помочь. Они по рации связались со своими – попросили прекратить огонь.
Потом стали кричать по-русски:
– К вам идет женщина, медработник. Не стреляйте!
Они достали из аптечки бинты и, мотая через локоть, изготовили что-то вроде белого флажка.
Ничего не боясь, Роза стремглав ринулась к больнице и не околицей, как советовали, а напрямую – к центральному входу. Как ни стучала – не открыли, даже голоса не подали. Тогда, зная все досконально, она бросилась в сторону приемного отделения, там окна пониже к земле.
Сходу увидела разбитое окно, кулаком добила стекло, полезла, и только просунула голову, как сильные руки обхватили ее и потащили в глубь здания. Допрос был недолгий:
– Тьфу, ты откуда взялась? Да от нее могилой воняет.
– Я здесь работаю, я медсестра! – чуть ли не кричит она от радости, и ОМОНУ рада, она теперь в больнице.
Держа за локоть, ее вывели в темный, длинный коридор. Военные не ориентируются, ступают неуверенно.
– Куда нам? – стал резвым голос Розы.
– В сестринскую.
– Понятно, там темная комната. Пошли, – как опытный поводырь она быстро доставила конвоиров до охраняемой двери. В глаза вдарил свет керосинки и свечей:
– Роза! – закричали разом врачи, ее втолкнули.
В сестринской битком людей, даже сесть невозможно.
– Мальчик, где мой Мальчик? – с ходу выпалила Роза о своем.
– Мальчик? Какой мальчик? … А-а, Мальчик. Так он уже несколько дней как сам убежал, на рассвете, не уследили.
– О-о! – схватилась Роза за грудь.
– Прости, прости. Здесь такое творилось. Не верили, хоть и знали о предстоящем, всех выписывали, столько тяжелых, сами попали. В чем наша вина? Ведь война!
А на рассвете их поодиночке стали выводить в коридор. Мужчин сцепляли наручниками, женщин хирургическими жгутами и так обвязали всех в цепочку.
– У меня Мальчик раненый, отпустите меня, – настойчиво повторяла Роза.
Военные даже не среагировали. А коллеги все вывернули в ее сторону головы: у всех мальчики и девочки. Никто не орал, не плакался, не дергался.
Их вывели из больницы кружком, сами военные в центре попрятались. И пошел гуськом этот живой круг по широкой улице, почти что тем же маршрутом, что ночью Роза бежала. Никто в них не стрелял, и из круга не стреляли.
Солнце уже было высоко, когда добрались до той же развилки у Первомайской. Направо – центр, «Детский мир». Налево – аэропорт, военная база. Как и ожидалось, направились налево.
Тут единственная из всех – Роза не выдержала, упала, закатила истерику.
– Отпустите ее, пожалуйста, – вступился главврач.
– У нее особый случай, особый Мальчик.
– Молчать! У всех дома мальчики. Не встанешь – всех расстреляем, – к голове Розы приставили автомат.
Коллеги ее подняли, умоляли взять себя в руки. Больше она не пикнула, все шла, вывернув голову назад, и слезы, как и пот, текли с нее безудержно.
Без никаких ЧП они к обеду достигли базы. Всех медработников завели в здание типа каземата, заперли.
– Отпустите меня, отпустите меня в город, – билась в дверь Роза.
А в ответ:
– Вот дура, их спасли, а она в город, где убивают, еще рвется.
После этого трое суток с ними никто не общался, было не до них, шла спецоперация, Грозный – выводили («красное» сторно [26]26
«Красное» сторно – бухгалтерская запись красными чернилами
[Закрыть]); прием – передачи; с баланса – на балласт…
Глава тринадцатая
К большому огорчению, случилось то, чего Мальчик в последнее время уж очень боялся, даже будучи дома, а тут в казенном доме, ну и что, что в больнице и он ранен, весь перебинтован, ведь он уже большой, а описался, какой стыд!
Накануне, после операции, когда его только привезли из перевязочной, ему было очень больно, и он не мог не плакать, хотя возле него возилось много врачей и все говорили «Мальчик Розы – будьте внимательны», – а ему уже тогда хотелось домой, и он жалобно скулил, отвернувшись к стене, и, наверное, не только с его палаты, и даже с этажа, а пожалуй, из всей больницы к нему пришли и врачи и даже пациенты, и все со сладостями, с любовью, а ему от этого еще тягостней, привык он к уединению, к своей бабушке, к скрипке. И, может быть, к ночи ему стало бы еще невыносимее, но ему сделали укол, дали таблетки и он забылся во сне, а сон – это его радость, это время приятных грез, когда перед глазами не руины истребленного города, не разбитые проемы витрин «Детского мира», не оголенный балкон без перил, а иной мир, его и не передать словами, только музыкой, и там есть все, в первую очередь – папа и мама…
Но сегодня был не сон, а кошмар, по нему со всех сторон стреляли, давили, и кровь, всюду кровь, и он в ней лежит, ею дышит, ее, задыхаясь, пьет… и как много ее оказалось в небольшом Баге, что еще долго ее смывали и до, и во время, и после операции. И эта кровь Баги оказалась такой же, как и его кровь, он тоже истекал, да врачи спасли. И кажется Мальчику, что от переживаний последнего дня он явно стал взрослей, и тому знак, теперь он озабочен одиночеством бабушки… и описался.
Он сел на кровати, боли почти нет, лишь чувствует тугую перевязку на ноге. За большими раскрытыми окнами уже светло, оттуда веет свежестью и прохладой. А в палате тесно поставлены кровати, запах лекарств, пота, подпорченной еды и прочего. Кто-то храпит, кто-то сопит, кто-то стонет.
Осмотрелся Мальчик; его сорочка и шортики выстираны, чуть еще влажные, висят у изголовья, а под кроватью сандалии. Когда он стал одеваться, появилась боль в раненой ноге, он невольно крикнул.
– Ты что, Мальчик? – открыл глаза рядом лежащий тяжелый больной.
– В туалет хочу.
– Под кроватью утка и горшок.
– А где туалет?
– Туалет на улице, во дворе, за корпусом. В здании-то нет воды, и канализации во всем городе нет.
Почувствовав, что смущает Мальчика, мужчина, тяжело сопя, перевернулся на другой бок. Стоять, а тем более ходить, было Мальчику нелегко, рана чуть выше колена. Но он бодро доковылял до двери, и для себя бы никогда не вернулся, да дома его ждет голодная бабушка – ныне он единственный кормилец. Пришлось вернуться к своей тумбочке, заваленной приподнесенной ему едой. Выбирая, он набрал почти что полный пакет провизии, отчужденно еще раз оглядел палату и почему-то вспомнил не детский дом, а первый свой казенный дом – лазарет в Моздоке – и красивую медсестру.
Осторожно ступая, он вышел в коридор. Здесь – по обеим сторонам в ряд кровати с пациентами, больные лежат даже на полу. Он пошел по коридору, в углублении за столом спит медсестра, на шорох подняла голову:
– Ты куда, Мальчик?
– Во двор, в туалет.
– А пакет зачем?
– Еда,… собачкам.
В этой больнице вместе с Розой Мальчик бывал не раз, поэтому дорогу домой он хорошо знал. Вначале идти было тяжело, нога ныла. Потом бинт обагрился, потекла капелькой кровь, но немного, у щиколотки застыла. Но это все не сказывалось на его настроении – он шел домой, там скрипка, бабушка и, может быть, Роза.
Город еще не ожил; стайкой пробежались собаки, увидев его застыли; сытые – убежали. Так это на земле, еще господствует ночь, а в небе уже стайками носятся голуби, всюду неугомонно чирикают воробьи, где-то каркает ворона, а когда он подходил к дому и солнце над Сунжей взошло, и даже родные ласточки прилетели его встречать, прямо закружились в танцах над его головой.
Не желая вспоминать предыдущее, он живо заскочил в подъезд, и первая тревога – дверь не заперта; боясь вздохнуть, он боязно вступил в коридор, и тут – радость всей земли:
– Мальчик, это ты?
– Бабушка! – он бросился к ней, впился в грудь, опрокидывая ее к подушке, и окунулся в этот несказанный, любящий его запах, и ее костлявая рука, пройдясь по кудряшкам из последних сил, прижала его голову к себе.
– Бабушка, бабушка, ты знаешь, что вчера случилось? – он пытался сдержать слезы, но они у обоих щедро текли.
– Знаю, кое-что знаю, кое о чем догадываюсь, – рукой она отстранила от себя Мальчика и вглядывалась в него. – Почему ты теперь прячешь свой взгляд? Ты ведь всегда смотрел людям открыто в глаза.
– Бабушка, мне страшно, я людей боюсь, они друг друга убивают.
– Не бойся, Мальчик. Человек – божья тварь. И от степени бытия злобен или добр. Но ты всегда верь людям, и будь всегда добр. Тебе Бог дал волшебный дар – это дар музыки. А музыка – это всегда добро; ты будешь славен, но нам надо учиться и работать, несмотря ни на что, и тогда будет жизнь, счастье, искусство.
– Вы так говорите, а плачете.
– Я плачу от счастья.
– В чем же сейчас ваше счастье?
– Мой золотой Мальчик, знаешь, я прожила долгую, совсем не радостную жизнь. Моя мать была женщиной своенравной, чересчур набожной, она буквально силой пыталась заставить меня верить в Бога. Я верила и не верила. Потому что жила и выросла при коммунизме, при атеистах и язычниках. К тому же я ведь была ученой, а как ученой не верить в теорию Дарвина, и не считать, что некоторые люди действительно произошли от обезьяны, тем более видя злобу войны… Вот двоякость – веры и не веры, наверное, определила мою судьбу. И лишь с годами, изрядно одряхлев, постарев, обессилев и воочию подойдя ко грани смерти, которую я сейчас не боюсь, лишь бы появилась Роза, я окончательно определилась в вере, и, надеюсь, под конец жизни Бог за это благосклонен стал ко мне, ибо послал он мне напоследок огромное счастье – это ты, мой золотой Мальчик.
– Не говорите так, бабушка, мы еще будет жить.
– Конечно, будем, – она беззубо улыбнулась.
– Я так счастлива! Я всю ночь молилась – и на рассвете появился ты, – она вновь жалостно заныла.
– Знаешь, я готова была прожить еще десять таких безрадостных жизней – ради этой одной минуты новой встречи с тобой. Я так боялась больше тебя не увидеть, так боялась уйти без тебя.
– Не говорите так, бабушка, не говорите!
– Больше не скажу, – ее большая блеклая костлявая рука с выпуклыми прожилками прошлась сверху вниз по морщинистому, уже посеревшему нездоровому лицу, словно сменяя маску, она попыталась вновь стать строгим педагогом, воспитателем. – Будем жить, – твердо сказала она, и чуть погодя, потише, – хотя бы пока Роза не придет, а она не сегодня-завтра точно объявится, я в это верю, буду молиться. А теперь жить, работать, учиться.
Как и ранее, Мальчик с утра ходил на речку за водой. Бабушка уже не поднималась, левая рука совсем неподвижна, но она изо всех сил пытается выглядеть бодро, даже шутит и ласкает Мальчика, пока он умывает ее – утренний туалет. А потом завтрак – бабушка не ест, и как она его когда-то упрашивала, теперь так же и он ее уговаривает. А далее все по порядку: репетиция, новые этюды, повторения, и бабушка как всегда требовательна и строга:
– Пойми, мы с трудом избавили твой голос от картавости; так же надо и в музыке – никаких вольностей, строго по нотам.
– Но это импровизация.
– Никаких импровизаций. Импровизации хороши на концертах, и когда станешь виртуозом, лет в пятьдесят. А сейчас – четко и правильно; ты исполняешь произведение великих композиторов. Самовольство в учении – тягость в жизни. Повторим, все сначала. Не ленись.
Так они прожили еще три дня. Каждый вечер бабушка совсем ослабевала, сникала, украдкой плакала. Не зная, как ее еще поддержать, Мальчик тогда предлагал:
– Давайте я что-нибудь веселое сыграю.
– Сыграй, сыграй, золотой, лезгинку, да так, как только ты умеешь, быть может, Роза услышит, вернется,… как я тебя одного брошу?
Мальчик снова брал в руки скрипку – по жизни единственно радостную игрушку, а теперь и вовсе отдушину, но лезгинка не шла, не получалось, и импровизация не помогала, что-то грустно, печально, не идет, и бабушка все хиреет и хиреет, и сам он скрывает, а раненая нога еще больше болит, гноится, а еще хуже – голоден он, и нечем кормить бабушку, и что бы бабушка ни говорила, как ни уговаривала и ни страшила, завтра утром он пойдет вначале в больницу, на перевязку, заодно возьмет лекарства для бабушки, а потом на базар – там его уже все знают, многие помогают, тоже сыном и внуком зовут.
Но это будет только утром, а сейчас надвигается ночь. И что за жизнь в последнее время наступает; раньше он ночи любил, даже ждал, а теперь тоска, уныние, боль и страх. Как и раньше, нырнул он в постель бабушки, под здоровую правую руку прилег. А бабушка, как и раньше, сказку ему стала рассказывать, о добре и зле, о людях и зверях, и все, как в сказке, хорошо заканчивается.
– А почему в жизни не так, мало что добром заканчивается? – обиженно прошептал Мальчик.
– Почему не так? Я тебя встретила – разве не добро?
– А вот куда шарик улетел, я так и не понял.
– Хе-хе, – странно усмехнулась бабушка.
– А что это ты вдруг снова о шарике вспомнил?
– Мне кажется, он меня манит, зовет… Так куда ж он улетел?
– Если по науке, как говорят материалисты-атеисты, то где-то в верхних слоях атмосферы охладился, там вечный холод, наверняка разорвался, и лохмотью где-то на землю обратно упал, ибо, как ученые утверждают, земля – наша колыбель, в нее мы прахом и возвращаемся.
– Красивый шарик лохмотью стал, прахом возвратился? – еще более удивлен Мальчик. – Так это безбожие. А я верю в иное… Не только дела, а главное – мысли постоянно излучает каждый человек. И если эти мысли, и, конечно же, дела злобные, противные Божьей воле и человечеству, словом – не гуманные, то они оседают в нашу грешную землю, где в центре, неведомо нам, все горит, там раскаленная магма, жар в которой поддерживают наши пороки, там ад и туда попадают грешники, и порой, когда их уж больно много собирается, землю начинает распирать – оттого землетрясения, смерчи, вулканы.
– А война – это тоже ад? – испуган Мальчик.
– Война – это взаимное непонимание, когда люди начинают говорить на разных языках, не слушают друг друга, и каждый считает себя важнее, честнее, правее… А в жизни, у сильного всегда бессильный виноват.
– Бабушка, как же мы слабы и несчастны!
– Дорогой, ты не совсем прав. Мы с тобой учимся, трудимся, значит, сеем только добро, – она тяжело вздохнула.
– А счастье твое еще далеко впереди. А я, повторяю, очень счастлива. И если бы объявилась наша Роза, другого конца я бы и не хотела.
Они умолкли, в унисон дышали; наверное, каждый думал о своем, Мальчик о том же: – Бабушка, а если бы мой шарик, как Вы говорите, превратился в «лохмоть» и упал, то я бы его нашел бы где-то рядом.
– По науке это легко объяснить. Это физика, незыблемые законы природы, которые люди пытаются понять, и, постигая их, строят на земле цивилизацию.
– Ничего не строят, обещали скоро «Детский мир» – где? – возмущен Мальчик.
– И красивый шарик не мог вернуться сюда; здесь стреляют, убивают, врут!… Теперь и я не хочу здесь быть, здесь зло, война. А я играю лишь тоску, печаль, а на веселое – вы сами видите даже смычок не идет, а принуждаю – фальшь, вы сами это видите.
– Успокойся, успокойся, золотой. Видишь, ты сердишься. А это нельзя. Давай, я лучше тебе про шарик расскажу.
– Опять сказку?
– Ну, сказку не сказку, а я в это верю, и в последнее время этим живу. Ведь сердиться, думать плохо, а тем более поступать плохо – грех. Надо всегда иметь хорошее настроение, искать повод веселиться, и думать, и делать только добро. Ибо добрые мысли со скоростью большей, чем скорость света, улетают в бесконечную Вселенную, и в зависимости от исходных характеристик попадают на ту или иную звезду, что мы видим на небе: там есть рай. Потому мы, люди, любим бесконечно долго любоваться звездным небом, выискивая свою звезду, где мы определяем свое будущее, в зависимости от творений на земле.
– А при чем тут мой шарик?
– А твой шарик полетел как раз к той звезде, где твои папа и мама, чтобы передать от тебя привет.
– А помните, а помните, – голос Мальчика стал более живым, – по телевизору показывали огромный надувной шар. Вот бы нам такой.
– А это зачем?
– И мы бы полетели к папе и маме.
– Ну-ну, давай спать, поздно уже, – как бы убаюкивая, она похлопала его здоровой рукой по спине, и то ли всхлипнув, то ли еще как, издав протяжный свист.
– Я бревно, хуже бревна. Все! А ты завтра с утра возьмешь скрипку, свою справку – и в больницу, прямо к главврачу, он хороший человек, позаботится о тебе.
– В больницу пойду, уже решил. А насчет «бревна» – вы зря, – совсем не детским баском твердо выдал Мальчик.
– Не по годам повзрослел, – совсем ослаб голос бабушки.
– Спи, все будет хорошо.
Мальчик повозился, поворочался, долго не мог найти места для своей больной ноги; уже мерно дыша, засыпая, как и прежде беззаботно, закинул ее на неподвижные бабушкины ноги, засопел, изредка стеная. А бабушка совсем не спала, не плакала, и не молилась, как прежние ночи. Она встревожено чего-то ожидала, и не своей смерти, о которой она совсем не думала. А думала совсем о другом: о тихой летней ночи, о звездах, о незавешенном балконе, чего она теперь никак сделать не сможет, и о взошедшей полной луне, ядовито-яркий свет которой уже прибился к противоположной стене, уже сполз на пол, и прямо, явно, осязаемо ползет прямо к их кровати. И вот, лишь краешек, лишь радужная черта, лишь чуточку коснулась головки Мальчика, а он, доселе почти что стонущий во сне, вдруг улыбнулся, потянулся, и как залился задорным, веселым смехом. Зная к чему это может привести, бабушка изо всех сил схватила единственной рукой Мальчика, прижала к себе, прилипла:
– Боженька, спаси, помилуй, не забирай, – холодный пот и слезы щедро источались из ее тощего, жалкого тела.
– Прошу, прошу! – взмолилась она, видя как все смеясь, Мальчик дернулся, и, свободно убрав ее хилую руку, стал вставать.
– Прошу, умоляю! Не раньше меня! – срывая голос, завизжала она, и тут раздался бешеный взрыв.
Мальчик уже стоял, он вскрикнул, вздернул руки и упал.
– Иди ко мне, ко мне, – пыталась кричать бабушка, протягивая ему руку, но это был жалкий стон, который померк в истерике начавшейся канонады. А следом автоматные и пулеметные очереди, и бой совсем близко, даже слышно, как раненые на блок-посту орут.
Здесь бой был недолгий; ослабевая, он куда-то удалился, растворился по городу, и казалось, что всюду стреляют, весь город бомбят. А потом над городом закружилась авиация, и это самое страшное, затряслась кровать. Бабушка и Мальчик обнялись, слились воедино, словно напоследок. И прямо возле их дома упала бомба, был сокрушительный удар, просто чудом они удержались на кровати. А потом, уже под самое утро, то ли подустали, то ли отвоевались, и все вроде улеглось, так, кое-где еще изредка стреляли автоматы. А когда солнце взошло, наступила совсем странная, обманчивая тишина, и лишь писк, уж больно жалобный писк со стороны балкона.
Бабушка спала, сопя открытым ртом. Мальчик встал, осторожно подошел к открытому проему. Над городом черные клубы, горят остатки домов; и так город был в руинах, а теперь почти что сровняли. Не желая на это смотреть, он опустил взгляд: под ногами разбитое ласточкино гнездо, мелкий пушок, который почему-то не снесло, и маленький птенчик; такой жалкий, красивый, слабый; на весь город кричит, зовет улетевших в страхе родителей.
– Ну, ты мой маленький, несчастный, – Мальчик было потянулся к птенцу, а тот испугался, защебетал, прыгнул к краешку, а там неумело полетел, плюхнулся прямо под изуродованную крону каштана.
Побаиваясь открыто выйти на балкон, Мальчик украдкой наблюдал, как жалок на земле птенец, и почему-то его судьба ему показалась сходной со своей. Больше не думая, он побежал к выходу, и, видимо, открывая дверь, разбудил бабушку.
– Ты куда? – еле слышно прошептала она.
Прихрамывая, он уже выбежал из подъезда, и преодолел половину полумрака арки, как удивленно встал; прислонившись к стене, сидит на корточках совсем молодой парнишка, лишь взрослит его борода, меж колен автомат; вроде дремлет. Поглядел на него Мальчик, побежал к цели, даже не думая о войне. И уже успел взять птенца, как застрочил откуда-то автомат, кругом свист, он спрятался за ствол, закричал с испугу.
И в это время из-под арки встречный огонь. Мальчик даже не понял, как его оторвали от земли, и вновь он оказался под аркой.
– Ты что, сдурел? Под пули лезешь! – грубо тряхнул его обросший парнишка.
– Птенца спасал, – представил Мальчик руку, виновато улыбнулся.
– Хм, придурок. Вот так на днях мой друг здесь пацана спасал – в засаде убили.
– Это Бага меня спасал, – чуть погодя вяло произнес Мальчик.
– Тебя? Так это ты музыкант? – в полумраке блеснули его глаза.
– С русской бабкой живешь? То-то от тебя лишь беды. Знал бы, не спасал бы.
– А я не просил, – одернул его руку Мальчик, заковылял домой.
– Стой! – крикнул бородатый. Мальчик даже не обернулся.
– Стой, я тебе говорю, – в два прыжка он его догнал.
– У тебя ведь кровь из-под бинта сочится…А ну, пошли, – более мягок его тон.
– Со стороны двора поспокойнее, здесь я хозяин, город взяли.
Они забежали в соседний подъезд, где в подвале прятался Бага. Раньше не было, а теперь, еще не повесили, а прислонили вывеску – «администрация дуки-юрт».
– А в слове «администрация», – не удержался Мальчик, – ошибка. И почему – юрт, село, это ведь город.
– Ты шибко грамотен, закрой рот.
В самом подвале было темно, и они вернулись в подъезд.
– О-о! Ну, ты даешь! – заботился бородатый. – Так можно ногу потерять.
– Главное, не руку, – попытался пошутить Мальчик, – я музыкантом хочу стать.
– Чего? Ты брось это безбожное дело неверных. Настоящий мужчина должен уметь держать автомат и регулярно молиться. Понял?
– Ага, – кивнул Мальчик, и вновь не удержался. – А хлебушек у тебя есть? Мы уже два дня голодаем.
– Хлеба нет, – бородач полез в карман. – А вот, лишь шоколадка. Хе-хе, только сейчас съешь, а христианка обойдется.
– Тогда сам ешь, – кинул на ступеньки Мальчик шоколад.
– Ну, ладно, ладно, пошутил. Возьми… Пошли, – заслоняя собой, бородач проводил его до подъезда, и прощаясь:
– Смотри, день-два не высовывайся и на балалайке не бренчи – позор, нам не к лицу.
Последнее Мальчик уже не слышал, он бежал домой.
65– Бабушка, бабушка, я вернулся, ласточку спас.
Крупными бороздами слезы текли из ее глаз, она чуть-чуть подняла руку, и уже с превеликим трудом, еле различимо:
– Стреляли… Ты опять доставил мне счастье, вернулся, – она одним ртом улыбнулась. – Больше не уходи… Умоляю… Я скоро, потерпи.
– Бабушка, ты опять за свое, – артистизм и наигранность демонстрирует Мальчик.
– Ты омрачаешь радость нашей встречи, – как только он умел, глянул он в ее глаза, в них еще жизнь, хоть и поблекли, но блестят, лишь по краям белков густая желчь приливает.
– А у нас шоколадка, – изо всех сил не унывает он.
– Сейчас птенчика на балконе определим, к нему ласточки вернутся, и мы потрапезничаем. Ведь война кончилась, тишина, а если честно, нам не привыкать, и я очень верю, что сегодня вернется Роза.
И действительно, утро этого дня было, как ни странно, тихое, теплое, солнечное; и если бы не дым и пожары над городом, то можно было считать: ничего не случилось, постреляли – дело обычное…
А они поделили шоколадку пополам, посмаковали, чавкая. И бабушка не сдается:
– Давай, что время терять, продолжим занятие.
Но игра не ладилась, и отчего-то именно сегодня захотелось ему опять лезгинку сыграть, и словно этого только ждали, с первыми звуками, как по призыву, началась канонада, и город затрясся похлещи, чем ночью. А он почему-то не вздрогнул, не перестал, наоборот, на балкон вышел, и злость и решимость появились в движениях его рук, и по мере игры, совсем взрослая нервная гримаса исказила лицо, как никогда, до пота и боли играл. Обессилев, упал на колени… не смог, не смог он бомбежку переиграть, никто не хочет его слушать, в Грозном нет людей, есть враждующие стороны, и средь них слабый стон:
– Вернись, Мальчик, вернись. Хоть напоследок не мучь меня.
А утренняя канонада оказалась лишь слабой прелюдией. Позже такое началось, что дом затрясло, стены заходили, бабушка стала выть, и сам Мальчик в ужасе; бросился он к бабушке, укрыл ее собой, сам ревет, дрожит. И в это время что-то страшное, тяжелое, мощное угодило прямо в крышу их дома, там обломились верхние балконы, ударились об их балкон, и такой скрежет, хруст, пыль, гарь, что ничего не видно, дышать нечем.
Так в обнимку, обмочив слезами подушку, дыша ноздря в ноздрю, они пролежали очень долго, пока не закончилась канонада, а потом над городом авиация, еще страшней, и только к вечеру стало чуть тише, только кое-где еще слышны автоматные очереди.
– Бабушка, не уходи, – чистил тряпочкой он ее лицо.
Она уже не говорила, только медленно, как рыба на песке, еле-еле открывала рот, чуточку двигала пальцами, и лишь глаза, эти вконец поблекшие глаза, еще жили, еще искали его.
– Тебе больно? – как тосклив голос Мальчика.