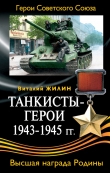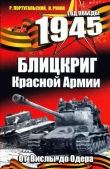Текст книги "Оружие особого рода"
Автор книги: К. Крайнюков
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 36 (всего у книги 45 страниц)
Командование 6-й гвардейской дивизии (начальник политотдела подполковник Савинич) посылало на родину награжденных поздравительные письма, предварительно зачитывая их перед строем подразделений. Такое письмо, например, отправили матери сержанта Николая Андрюшок в село Песчаное Старобельского района Ворошиловградской области. Поздравив Лукерью Романовну с присвоением ее сыну высокого звания Героя Советского Союза, командование сердечно поблагодарило славную труженицу за воспитание храброго патриота, пожелало ей успехов в колхозном труде, доброго здоровья и многих лет жизни.
Чем же знаменит сын Лукерьи Романовны, за что удостоился он такой высокой чести? Во время зимнего наступления, когда наши подвижные войска прорвались глубоко в тыл врага, превосходящие силы гитлеровцев контратаковали подразделение, в котором нес службу Николай Андрюшок. Из зенитного орудия он вел огонь по фашистским танкам и заставил их повернуть назад. Но пехота противника лезла со всех сторон, намереваясь захватить нашу пушку и открыть дорогу своим танкам. Сержант Н. В. Андрюшок гранатами отбивался от гитлеровцев, просочившихся на огневую позицию, стрелял по ним из зенитного орудия. Проявив отвагу и презрение к смерти, комсомолец Николай Андрюшок не только отстоял свое орудие, но и надежно прикрыл всю зенитную батарею. Так он стал Героем Советского Союза.
Политорганы выпускали листовки и плакаты о передовых людях фронта, которых Отчизна отметила Золотыми Звездами. В 4-й гвардейской танковой армии оперативно напечатали листовку о подвигах коммуниста Героя Советского Союза капитана Ф. И. Дозорцева, вступившего в Великую Отечественную войну 22 июня 1941 года. В ней было написано: "Воины-гвардейцы с восхищением говорили о своем любимом командире: "После боев на Висле и Одере каждый из нас до глубины души был благодарен командиру батальона Герою Советского Союза Ф. И. Дозорцеву, который в дни подготовки к наступлению непрерывно учил и тренировал нас, показывал, как форсировать водные преграды – и вброд, и вплавь, и на плотах, и на других подручных средствах. Наука пошла нам впрок, мы с ходу преодолевали любые водные рубежи".
При форсировании Одера гвардии капитан Федор Иванович Дозорцев проявил военную хитрость, организовав строительство ложной переправы. У реки тарахтели тягачи, кричали люди, звенели топоры, а тем временем на другом участке под покровом темноты переправлялись основные силы батальона. Поскольку лед был ненадежный, автоматчики набросали на него тонкие доски, жерди и ползком пробирались вперед.
Скрытно переправившись на противоположный берег, гвардейцы-мотострелки во главе с коммунистом капитаном Ф. И. Дозорцевым захватили плацдарм, прочно закрепились на нем и в течение нескольких суток отражали натиск превосходящих сил врага.
Листовка, выпущенная политотделом армии, заканчивалась словами: "Смелым и умелым реки не преграда. Гвардейцы Героя Советского Союза капитана Ф. И. Дозорцева идут вперед, продвигаясь к Берлину, приближая час желанной победы"{116}.
Подобные листовки издавались во всех армиях фронта. Печатались и фотоплакаты о героях зимнего наступления. С большим размахом и планомерно на протяжении всей войны, а в дни завершающих сражений особенно пропагандой героизма занимались фронтовая, армейские и дивизионные газеты, а также боевые листки. Публикуя фотографии, очерки и корреспонденции о лучших людях фронта, они настойчиво призывали: "Возьми себе за образец героя, следуй ему!" Номера многотиражных изданий, так же как и письма командования, посылались на родину отличившихся воинов, на предприятия, где они раньше работали, или в учебные заведения, где до войны учились. А иногда – невестам отважных фронтовиков. Это стало своеобразной формой поощрения героев. В ответ шли письма от тружеников тыла, которые также печатались на страницах красноармейских газет и способствовали патриотическому воспитанию воинов.
Постановление Центрального Комитета ВКП(б) от 24 мая 1943 года с новой силой напомнило политорганам непреложную истину: у ленинской партии нет более мощного, более действенного идейного оружия, чем большевистская печать. И это грозное оружие особого рода необходимо умело использовать в борьбе с фашизмом.
Газеты, как глашатаи великих идей партии, пламенные пропагандисты, агитаторы и организаторы масс, оперативно откликались на все важнейшие события, происходившие на фронте и в тылу. Они проникали всюду, где сражался солдат. В минуты затишья, в перерывах между боями агитаторы с волнением читали воинам родную ленинскую "Правду" и другие газеты – центральные и армейские. Через печать Коммунистическая партия говорила с миллионами солдат, сержантов и офицеров, мобилизуя их на победоносную борьбу с гитлеровскими захватчиками, вдохновляя на героические подвиги. "Газета на войне теперь необходима, как автомат, как граната, – отмечал писатель П. Павленко, – она тот обязательный паек духовной пищи, тот неприкосновенный запас бодрости, без которого советский солдат не обходился в самые безрадостные часы тяжелых боевых испытаний"{117}.
На завершающем этапе Великой Отечественной войны, пожалуй, все центральные газеты имели своих представителей на 1-м Украинском фронте. Кроме упоминавшихся ранее Бориса Полевого и Сергея Борзенко в газете "Правда" постоянно освещали боевую деятельность наших войск, печатали интересные очерки и рассказы писатели Вадим Кожевников, Леонид Первомайский, Яков Макаренко, Михаил Брагин. В 1945 году от "Красной звезды" у нас работали подполковник И. Гаглов, майоры А. Мандругин и Ф. Бубеннов. От Вислы до победных рубежей прошел с нашими войсками фотокорреспондент "Фронтовой иллюстрации" майор А. Егоров. В "Комсомольской правде" много и плодотворно печатался Сергей Крушинский. Совинформбюро на нашем фронте было представлено майорами А. Навозовым и А. Шибановым, а ТАСС – корреспондентом А. Марковским и другими.
Штаб и политуправление фронта постоянно проводили для представителей печати своеобразные пресс-конференции, на которых корреспонденты получали оперативное ориентирование и последние данные о боевых действиях войск фронта, об отличившихся частях и соединениях, о взятых населенных пунктах, захваченных трофеях и показаниях военнопленных.
На этих пресс-конференциях неоднократно выступали начальник штаба генерал армии В. Д. Соколовский, члены Военного совета фронта, начальник политуправления генерал-майор Ф. В. Яшечкин, начальник оперативного управления генерал-майор В. И. Костылев, начальник разведотдела генерал-майор И. Т. Ленчик, а иногда и командующий войсками Маршал Советского Союза И. С. Конев.
Я, признаться, с уважением и искренней симпатией относился к военным корреспондентам, которые с кипучей энергией и творческим энтузиазмом самоотверженно выполняли на фронте свои нелегкие обязанности. Далеко не у всех из них имелся транспорт, и им часто приходилось, как говорится, голосовать на перекрестках или ждать попутных машин возле регулировочных постов. Немало встречалось им и других трудностей.
Перед Берлинской операцией в войсках фронта был установлен жесткий лимит на автобензин, чтобы быстрее накопить необходимые запасы горючего. В связи с этим несколько представителей центральных газет пожаловались мне, что учреждения ГСМ, отказав в выдаче горючего, "посадили их на якорь". Пришлось для корреспондентов сделать некоторые исключения, поскольку центральные газеты ждали оперативных материалов о боевых действиях войск фронта.
Решив с представителями печати и радио деловые вопросы, мы разговорились потом о житье-бытье, о различных новостях. Кто-то вполголоса запел шуточную песню о веселом репортере, сложенную К. Симоновым и А. Сурковым во время их совместной поездки на фронт:
В блокноте есть три факта,
Что потрясут весь свет,
Но у "Бодо" контакта
Всю ночь с Москвою нет.
В песне далее рассказывалось о находчивости напористого корреспондента, добивавшегося установления связи со столицей и редакцией.
Но вышли без задержки
Наутро, как всегда,
"Известия", и "Правда", и "Красная звезда".
Оказалось, что песенка была спета не без умысла. Корреспонденты пожаловались, что телеграф иногда задерживает передачу их материалов. Но я вынужден был огорчить представителей прессы и предупредить, что дальше со связью станет еще сложнее. Телеграфная линия, обслуживающая штаб фронта, будет переключена на круглосуточную работу со Ставкой и Генштабом, с нашими армиями и соседями. Пришлось порекомендовать корреспондентам чаще пользоваться полевой почтой и транспортными самолетами, летающими в Москву. Однако в заключение я подбодрил своих собеседников, заверил их, что информация о штурме Берлина и взятии столицы Германии, а также другие срочные и важные материалы будут переданы в Москву по любым каналам вне всякой очереди.
Когда мы с генералом Ф. В. Яшечкиным предложили редактору фронтовой газеты "За честь Родины" полковнику С. И. Жукову командировать на берлинское направление наиболее опытных и смелых газетчиков, он в числе первых назвал майора С. М. Борзунова, отличившегося оперативностью и мужеством сначала на Днепре, а затем на Висле и Одере.
Редактор направил в войска ударной группировки фронта бригады журналистов. Их возглавили подполковники В. М. Гунин, В. В. Ермилов, Ф. Н. Орешкин и майор А. П. Верхолетов. Боевые задания получили писатели Андрей Малышко, Любомир Дмитерко, Илья Френкель, Александр Шаров, Виктор Стариков, Петр Дорошко, Леонид Речмедин, корреспонденты Н. Наумов, В. Кудрявцев, В. Ходаков, М. Тихомиров, фоторепортеры О. Игнатович, В. Юдин, М. Мельник и другие.
Военные корреспонденты – это солдаты переднего края, сражавшиеся большевистским словом, пером, приравненным к штыку. Но если требовала обстановка, они брались и за автомат, вступая в бой с ненавистными захватчиками. Погиб в Бреслау от пули вражеского снайпера фотокорреспондент газеты "За честь Родины" Николай Ксенофонтов, снимавший героев во время уличного боя. Сотрудники той же газеты капитан И. Станевский и старший лейтенант Н. Скоробогатов, вылетевшие на самолете По-2 по оперативному заданию, были сбиты гитлеровцами. Погиб на боевом посту майор С. Вовк. На берлинском направлении получили осколочные ранения заместитель редактора фронтовой газеты по татарскому изданию майор Р. Ишмуратов и некоторые другие члены его бригады.
Перед началом Берлинской операции на 1-м Украинском фронте издавалось 75 дивизионных, 11 корпусных и 11 армейских газет. Ежедневно выходила на русском и украинском языках фронтовая газета "За честь Родины". А на узбекском, казахском и татарском она издавалась один раз в неделю.
На каждую роту, батарею и равное им подразделение ежедневно выделялось по 1-2 экземпляра центральных, 3-5 фронтовой, 5-6 армейских и 15-20 дивизионных газет. Эти цифры убедительно показывают, что удельный вес фронтовой печати был тогда значительным.
На завершающем этапе Великой Отечественной войны фронтовая печать сыграла огромную роль, помогая солдатам, сержантам и офицерам овладевать богатейшим ратным опытом, совершенными методами ведения боя. Тем самым газеты успешно решали важную задачу, поставленную Коммунистической партией перед войсками: неутомимо и непрерывно совершенствоваться в военном деле, чтобы бить врага наверняка.
Что же требовалось знать и уметь участникам Берлинской операции, так непохожей на предыдущие? На Висле, как известно, мы имели крупный сандомирский плацдарм, откуда началось большое январское наступление. На реке Одер мы располагали несколькими плацдармами, позволившими сосредоточить ударные группировки и совершить новый бросок вперед. На Нейсе по ряду причин мы не имели ни одного плацдарма, тогда как противник в районе Мускау сохранил в своих руках плацдарм на восточном берегу и мог угрожать нашей группировке фланговым ударом.
Наступление на Берлин нам приходилось начинать с форсирования реки Нейсе при одновременном прорыве на западном ее берегу довольно мощной вражеской обороны. С подобным явлением, составляющим специфику операции, войска фронта столкнулись впервые. Эту важную особенность мы учли как при планировании прорыва, так и при подготовке войск.
На пути нашего наступления находились не только Нейсе, но и Шпрее, на которой стоял Берлин, а также Тельтов-канал, опоясывавший столицу Германии с юга. Вот почему форсирование водных преград с ходу стало главным в обучении воинов.
В 5-й гвардейской армии генерала А. С. Жадова, а также в других войсковых объединениях проводились батальонные учения, на которых отрабатывались вопросы взаимодействия различных родов войск. Воины штурмовых подразделений приобретали навыки форсирования реки с ходу при одновременном прорыве вражеской обороны. Инженерные части тренировались в спуске на воду десантных переправочных средств, в наведении штурмовых мостиков и оборудовании переправ.
К началу Берлинской операции войска 1-го Украинского фронта располагали внушительным понтонно-мостовым парком. Наступательные действия войск обеспечивали 16 инженерных бригад, а также большое количество мотоштурмовых, понтонно-мостовых и отдельных саперных батальонов.
Политуправление фронта провело совещание начальников политорганов инженерных войск. Его участникам мы рекомендовали донести до каждого сапера политический смысл той поистине исторической миссии, которая возложена на Красную Армию, в том числе и на инженерные войска. На реках Нейсе и Шпрее саперы будут не просто строить переправы, а возводить мосты победы. Это почетно и ответственно.
В совещании приняли участие начальники политотделов инженерных бригад подполковники П. К. Белоус, А. В. Бражников, А. Н. Васильев, В. С. Мартьянов, М. В. Никитин, В. Г. Румянцев, К. И. Парасюк, И. П. Соловьев, Г Д. Тетдоев, В. Ф. Ульянов, И. Я. Фоломеев, С. Ф. Шелест, майоры А. М. Бояркин, И. И. Попов и другие{118}.
Военный совет и политуправление фронта обязали политорганы инженерных войск сделать все для того, чтобы переправы через Нейсе, Шпрее и другие водные преграды были наведены в максимально короткий срок, чтобы работники политотделов инженерных, понтонно-мостовых и мотоштурмовых бригад находились там, где будут трудиться воины, а их начальник – на наиболее важном объекте.
Мы держали в поле зрения все основные участки, на которых решался успех наступательной операции. Военный совет проверил, например, организацию артиллерийского огня в ряде соединений. Было установлено, что на передовых наблюдательных пунктах подчас находятся второстепенные люди, а лица, которым по долгу службы полагалось руководить огнем, пренебрегали этой якобы черновой работой. В результате в ряде частей артиллерийская стрельба велась недостаточно эффективно.
Не всегда наши истребительно-противотанковые бригады и полки располагались на танкоопасных направлениях и не использовали всю мощь своего огня. Мне довелось побывать в 11-й истребительно-противотанковой бригаде. Спрашиваю командира орудия:
– Сколько танков подбил расчет? Отвечает:
– Ни одного.
Обращаюсь к другому командиру расчета и слышу аналогичный ответ. В чем дело? Говорят, что вражеские танкисты их побаиваются и близко не подходят.
На совещании начальников политорганов артиллерийских соединений фронтового подчинения, созванном Военным советом, я предложил проанализировать на местах боевую деятельность истребителей танков и уточнить, сколько вражеской техники уничтожил каждый расчет, почему есть так называемые "бездействующие" артиллеристы. Не вмешиваясь в командирскую деятельность и не подменяя командиров-единоначальников, политорганы могли своими средствами поднять боевую активность коммунистов и комсомольцев, вооружить артиллеристов передовым опытом, всесторонне подготовить их к наступательным боям.
На совещании присутствовало 32 политработника. Прения прошли весьма активно. Критика расшевелила людей, и они откровенно говорили о своих недостатках, о том, как лучше организовать политическое обеспечение на различных этапах операции. Содержательными были выступления начальника политотдела 10-го артиллерийского корпуса прорыва полковника М. Н. Балюка, начальников политотделов 3-й артдивизии полковника И. Е. Евдокимова, 4-й артдивизии подполковника И. К. Короткого, 3-й гвардейской минометной дивизии полковника С. И. Белобородова, 37-й зенитной дивизии полковника Д. П. Засыпкина и других{119}.
Должен оговориться, что мы никогда не злоупотребляли совещаниями, во время напряженных боев не отрывали командиров и начальников политорганов от выполнения их должностных обязанностей, только в крайних случаях вызывали руководящие кадры на Военный совет, в штаб или политуправление фронта. Но оперативная пауза позволила нам с пользой для общего дела провести совещания с представителями различных боевых специальностей, от которых во многом зависело обеспечение успеха наступления.
Перед Берлинской операцией мы пополнили и укрепили многочисленную армию агитаторов с тем расчетом, чтобы они были в каждом взводе и отделении, в каждом экипаже. Так, например, в 62-й гвардейской танковой бригаде 4-й гвардейской танковой армии имелось 65 агитаторов, в том числе 40 коммунистов, 24 комсомольца и один беспартийный. В 127-м танковом полку из 35 агитаторов 15 человек являлись коммунистами и кандидатами в члены партии, 18 – комсомольцами, а два – беспартийными{120}. Это были заслуженные фронтовики, политически грамотные, дисциплинированные и авторитетные солдаты, сержанты и офицеры. Такой же сильной партийно-комсомольской прослойкой среди агитаторов располагали и другие части 10-го гвардейского добровольческого танкового Уральского корпуса. Агитационная работа здесь всегда находилась на должной высоте.
На одном из семинаров агитаторов, состоявшемся в этом соединении, был изучен опыт гвардии старшего сержанта Локтионова. Беседы этого коммуниста как с членами своего экипажа, так и с другими воинами подразделения носили конкретный характер, отличались убедительностью, а значит, и действенностью.
На подступах к реке Нейсе, где в марте 1945 года наши гвардейцы подверглись сильным контратакам немецких преимущественно тяжелых танков, сложилась напряженная обстановка. У некоторых молодых танкистов появилось мнение, что нашему среднему танку Т-34 не справиться с вражескими "тиграми" и "пантерами". Коммунист агитатор Локтионов провел с воинами несколько индивидуальных и коллективных бесед и сумел укрепить у них веру в мощь нашей боевой техники. Он убежденно доказывал, что советская тридцатьчетверка, вооруженная превосходной 85-мм пушкой, способна поражать любые бронированные машины врага, в том числе "тигры", "пантеры" и даже сверхтяжелые "королевские тигры". Воин-гвардеец указывал на уязвимые места вражеских танков, делился боевым опытом.
Свои слова агитатор Локтионов подтверждал героическими делами. Во время очередного наступления танк, где он был заряжающим, первым ворвался на окраину города и проложил путь мотострелкам. Когда в бою ранило командира, старший сержант Локтионов немедленно возглавил экипаж. Метким огнем он уничтожил более 30 гитлеровцев.
На выручку вражеской пехоте двинулась тяжелая "пантера". Но старший сержант Локтионов сумел упредить ее выстрелом и первым же снарядом поджечь. Так агитатор Локтионов доказал справедливость своих слов, силу и мощь отечественной боевой техники. Наша агитация тем и сильна, что она всегда подкрепляется убедительными фактами.
В агитационной работе мы широко использовали патриотическую переписку с тружениками тыла. Сердечное приветствие прислали воинам-освободителям трудящиеся Львовской области. "Логово фашистского зверя окружено со всех сторон, и Красная Армия бьет гитлеровцев на подступах к Берлину, – писал от имени львовян первый секретарь обкома КП(б)У И. С. Грушецкий. – До полной победы осталось немного. Но мы знаем, что этот небольшой участок пути наиболее трудный"{121}.
Пожелав воинам героической Красной Армии скорой победы над фашизмом, товарищ И. С. Грушецкий сообщил, что рабочие, инженеры и техники области восстановили и пустили на полную мощность 157 разрушенных гитлеровцами предприятий, что львовские железнодорожники завоевали переходящее Красное знамя Государственного Комитета Обороны, а труженики полей дали фронту и городам страны немало хлеба, мяса и сырья.. В письме говорилось также о том, что трудящиеся области собрали 12 миллионов рублей на строительство танковой колонны "Радянська Львiвщина" и эскадрильи самолетов. Приобретенные на народные рубли боевые машины делегация области вручила на фронтовом аэродроме подразделению капитана Н. Голдобина.
В составе войск 1-го Украинского фронта немало воинов сражались с врагом на танках и самолетах, приобретенных на личные сбережения. Из таких экипажей была, например, сформирована танковая рота Героя Советского Союза А. Зинина.
На нашем фронте воевал и танковый экипаж из военных моряков, приехавших под Берлин с берегов Тихого океана. Когда воины-патриоты обратились к Верховному Главнокомандующему с просьбой разрешить им построить на сбереженные средства танк и на нем отправиться в действующую армию, И. В. Сталин ответил телеграммой следующего содержания: "Примите мой боевой привет и благодарность Красной Армии, товарищи Андреев, Михайлов, Неверович, Варенников, за вашу заботу о бронетанковых силах Красной Армии.
Ваше желание будет исполнено".
Моряки-дальневосточники были списаны на берег и поехали учиться. Овладев танковыми специальностями, они на собственной боевой машине "Тихоокеанец" прибыли на 1-й Украинский фронт и приняли участие в завершающих сражениях Великой Отечественной войны.
В 1945 году, когда стремительно наступали Украинские, Белорусские и Прибалтийские фронты, когда буквально каждый день был отмечен победами советского оружия, командиры и политработники считали одной из важнейших задач решительную борьбу с беспечностью и самоуспокоенностью. Как ни велики наши успехи, напоминал Центральный Комитет партии, мы по-прежнему должны трезво оценивать силы врага и быть бдительными.
Военному совету фронта стало известно; что по указанию Гитлера разработан детальный план обороны Берлина и утверждена специальная инструкция. Командующий оборонительным районом имперской столицы призывал германские войска "вести борьбу на земле, в воздухе и под землей с фанатизмом, с применением всех средств введения противника в заблуждение, с военной хитростью, коварством, с использованием заранее подготовленных, а также всевозможных подручных средств... Каждый утраченный дом или каждый утраченный опорный пункт должен быть немедленно возвращен контратакой. При этом следует засылать в тыл противника с использованием подземных ходов штурмовые группы, которые должны внезапно нападать на него с тыла и уничтожать его. Однако предпосылкой для успешной обороны Берлина является удержание во что бы то ни стало каждого квартала, каждого дома, этажа, каждой изгороди, каждой воронки от снаряда!"{122}
Фашистские главари бросили на пополнение берлинской группировки все резервы, запасные полки и личный состав военно-учебных заведений, поставив под ружье членов нацистской партии и организации "гитлерюгенд", всех старых и малых.
За несколько дней до начала наступления советских войск на Берлин Гитлер обратился к солдатам Восточного фронта со специальным приказом, чтобы как-то подбодрить их. Он хвастливо утверждал, что потери германского вермахта якобы восполнены бесчисленными новыми соединениями и что большевики истекут кровью перед столицей германской империи. "Следите прежде всего за теми немногими предателями – офицерами и солдатами, которые для сохранения своей мелкой жизни будут бороться против нас на службе русских, быть может, даже в немецкой форме, – истерически заклинал их фюрер. – Если вам отдает приказ об отступлении тот, кого вы хорошо не знаете, то вы его должны немедленно арестовать, а в случае необходимости – и убить на месте, невзирая на его звание.
Если в грядущие дни и недели каждый солдат на Восточном фронте выполнит свой долг, то последний натиск Азии будет сломлен..."{123}
Получив данные о таком, с позволения сказать, "документе", Военный совет фронта порекомендовал начальнику политуправления генералу Ф. В. Яшечкину оперативно "откликнуться" на приказ Гитлера и развернуть активную контрпропаганду среди войск противника, разоблачая подлый обман и лихорадочный бред обанкротившегося фюрера.
За годы войны политорганы постигли сложнейшее искусство пропаганды среди войск противника, обогатили ее формы и методы, повысили действенность. Если сопоставить листовки, выпускавшиеся в 1941 году, с листовками 1945 года, то нетрудно убедиться, что наши кадры обрели навыки, опыт, зрелость. Пропаганда среди войск противника на завершающем этапе Великой Отечественной войны приобрела предельно краткую, чеканную и выразительную форму. Листовки рассказывали солдатам противника и немецкому населению правду о крушении фашистского режима и разгроме Красной Армией гитлеровского вермахта, о выполнении советскими войсками благородных, освободительных интернациональных задач, оказывая все большее воздействие на сознание немецких военнослужащих, заставляя их серьезно задуматься над своей собственной судьбой и судьбой народа, оказавшегося под гнетом кровавой фашистской тирании.
Перед Берлинской операцией в составе войск 1-го Украинского фронта произошли некоторые изменения. Находившаяся на левом крыле 60-я армия генерала П. А. Курочкина по приказу Ставки передавалась 4-му Украинскому фронту, освобождавшему районы Чехословакии. Эта боевая заслуженная армия воевала в составе фронта с 1942 года. Она героически обороняла Воронеж, участвовала в битве за Днепр и Киев. 60-я армия отличилась в боях за освобождение Львова, Кракова, Катовиц, Рыбника и Ратибора. В этом войсковом объединении у меня было много хороших друзей. Я с большим сожалением расставался с членами Военного совета армии генералом В. М. Олениным, генералом В. И. Родионовым, начальником поарма генералом И. М. Гришаевым и другими командирами и политработниками. А с участником Октябрьской революции и штурма Зимнего командармом П. А. Курочкиным мы были связаны давней довоенной дружбой.
В те напряженные дни, когда завершалась подготовка к наступлению на Берлин, от нас перевели начальника штаба генерала армии В. Д. Соколовского. Его назначили первым заместителем командующего войсками 1-го Белорусского фронта. Василий Данилович пробыл у нас ровно год. Под его руководством штаб 1-го Украинского фронта занимался планированием и осуществлением таких выдающихся наступательных операций, как Львовско-Сандомирская и многие другие. Самозабвенно, не щадя себя, занимался он и разработкой боевых действий фронта в Берлинской операции.
Талантливый военачальник внес большую долю творческого труда в боевые успехи войск, проявив на посту начальника штаба фронта высокие организаторские способности, инициативу, смелость, волю и твердый характер. За Львовско-Сандомирскую операцию В. Д. Соколовский был награжден орденом Кутузова I степени, а за Висло-Одерскую – орденом Суворова I степени.
Нам жаль было расставаться с этим глубоко партийным и отзывчивым человеком, активно участвовавшим в работе Военного совета и поддерживавшим хороший контакт с политуправлением фронта.
Вместо генерала армии В. Д. Соколовского на должность начальника штаба 1-го Украинского фронта прибыл генерал армии И. Е. Петров, командовавший до этого 4-м Украинским фронтом. Времени на передачу дел не было, и Василий Данилович кратко проинформировал своего преемника о том, что все оперативные документы, связанные с Берлинской операцией, отработаны в деталях, утверждены и спущены исполнителям, что штаб фронта слажен и укомплектован знающими дело офицерами.
Василий Данилович Соколовский заверил Ивана Ефимовича Петрова, находившегося всю жизнь на командных должностях, что он быстро постигнет все "секреты" штабной работы, встретит здесь надежную опору в лице опытных боевых помощников – начальника оперативного управления генерала В. И. Костылева, начальника разведотдела генерала И. Г. Ленчика и других руководящих работников фронта.
Перед отъездом к новому месту службы Василий Данилович зашел попрощаться со мной. Несмотря на ранний час, у меня находились начальник политуправления фронта генерал Ф. В. Яшечкин и его заместитель генерал П. А. Усов. Они были одеты по-походному и, как большинство работников политуправления, уезжали в войска.
– Когда же политработники спят? – шутливо спросил Василий Данилович, входя в мой кабинет. – Ни свет ни заря они уже на ногах.
– Пора в поход, труба зовет, – в тон ему так же шутливо ответил Филипп Васильевич Яшечкин.
– Вот и меня труба зовет. Пришел час расставания, друзья, – с ноткой грусти произнес генерал армии В. Д. Соколовский. – Верховный приказал немедленно выехать на 1-й Белорусский и до начала наступления войти в курс дела.
Мы сердечно попрощались, пожелали друг другу боевого счастья, и статный, подтянутый генерал направился к машине.
От нас забирали кадры, перебрасывали армии, но и к нам поступало мощное подкрепление. По распоряжению Ставки из Восточной Пруссии и Прибалтики на 1-й Украинский фронт двинулись 28-я армия генерал-лейтенанта А. А. Лучинского и 31-я армия генерал-лейтенанта П. Г. Шафранова. Но как ни спешно перебрасывались они по железным дорогам, как ни пробивали им "зеленую улицу" представители управления военных сообщений, эти войсковые объединения не могли к нам прибыть до начала наступления. Командующий фронтом планировал вводить их в сражение в ходе операции.
На заседании Военного совета мы предварительно обговорили все детали и четко определили, кто из нас и на каком участке должен находиться. Мне, например, надлежало быть в 5-й гвардейской армии генерала А. С. Жадова. Но дня за три до начала "сабантуя" я решил съездить в 3-ю гвардейскую армию генерала В. Н. Гордова и посмотреть, как завершается подготовка войск к наступлению, выяснить некоторые интересующие меня вопросы с членом Военного совета армии генералом И. С. Колесниченко и начальником политотдела генералом Г. А. Бойко.
Да и не только с ними. Я был уверен, что встречу в том районе и танкистов, которые должны были вводиться в прорыв в полосе 3-й гвардейской армии.
Мои предположения подтвердились. В реденьком лесочке стояли прикрытые еловыми ветвями боевые машины. Ко мне подошел полковник с двумя Золотыми Звездами на груди. Это был командир 53-й гвардейской танковой бригады дважды Герой Советского Союза полковник Василий Сергеевич Архипов. Он доложил, что после длительного марша из Уттига экипажи прибыли в район сосредоточения и завершают подготовку материальной части к наступлению.