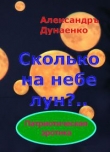Текст книги "Гений вчерашнего дня: Рассказы"
Автор книги: Иван Зорин
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 15 страниц)
Тыринс – протыринс
Давыд Кавадраш был художником, но в его присутствии мир казался выцветшим, как полинявшая тряпка. Просыпаясь, он шарил под кроватью, доставая жёлтую, пылившуюся бумагу, и неряшливо писал: «Ночью мы погружаемся в допустимое безумие, а утром пробуждаемся к разрешённому сумасшествию…» Кавадраш подрабатывал бакенщиком, круглый год носил засаленный свитер, высокие рыбацкие сапоги и слыл мизантропом. «Свобода, – гремел он цепью, отвязывая нанятую лодку, – это возможность каждого обворовать каждого». Его сторожку на речной пристани обходили стороной, а когда он скользил мимо с этюдником на плече, сплёвывали.
Художником Кавадраш был непризнанным и, когда слышал про успешных, злился: «А, эти, тыринс-протыринс…» Рисовал он преимущественно зимой, когда работы было мало. Долго вынашивал замысел, а когда тот созревал, ставил мольберт, клал рядом с палитрой краюху чёрного хлеба и, отщипывая от неё, думал, что, бог даст, закончит картину к ледоходу. Он рисовал по памяти летние пейзажи – горбившиеся на горизонте облака, луну на ущербе, передавал красками крики чаек, дыхание заливных лугов и как, выплёскиваясь на берег, свистят сомы. По мере того, как работа продвигалась, краюха черствела, уменьшалась и заканчивалась с последним мазком.
Кавадраш в одиночестве рыбачил, молчал со звёздами и варил уху, которую не с кем было разделить.
– Сколько людей вокруг… – разводили на пристани руками.
– Народу много, – кивал он, – поговорить не с кем…
Единственным его собеседником был о. Савелий, приходивший на реку после воскресной службы.
– Вера, – размахивал он руками, будто продолжал церковную проповедь, – позволяет взглянуть на жизнь отстранённо, не привязываясь к ней с животным остервенением, не становясь заложником тела…
– Дело в воображении, – хмыкал Давыд, – одни верят в то, что можно потрогать, другие – в то, что нельзя. И каждые крутят другим у виска…
Покашливая, о. Савелий гладил клочковатую бороду.
– А главное – свобода, – гнул своё Кавадраш. – Свобода от обстоятельств, условностей, от всего на свете, и Бога в том числе…
О. Савелий резко поднимался.
– Женился бы, что ли, а то совсем рехнёшься… – стреляя глазами, строго отряхивал он рясу и выставлял тяжёлый нагрудный крест. А когда Давыд целовал, менял гнев на милость: – Пойми, душа-человек, вдвоём всё иначе – на дуэли стреляться, и то лучше, чем в одиночестве застрелиться…
Иногда к Давыду на огонёк заворачивали женщины. «Весь мир – один большой тыринс-протыринс… – заводил он свою песнь, разливая по чашкам душистую мяту. – Мир бесцветен, чтобы разглядеть его краски, надо родиться слепым…» В сторожке делалось тихо, как в монашеской келье, и только отодвинув заслонку в дымоходе, можно было услышать, как доносится карканье ворон, как ветер сдирает кору с деревьев и как вдалеке, точно младенец в купели, плещется река.
Женщины кутались в шаль и больше не возвращались.
Жизнь – это путь к себе. И Кавадраш на свой счёт давно не обольщался. В глубине он видел страхи, зависть, тщеславие, гниющие, как горы мусора, обиды, видел жадность, равнодушие и желание первенствовать. «К чему всё это? – недоумевал он. – Будто не все умрут?»
Летом о. Савелий много болел и стал плохо ходить. «Умирать начинают с ног, – приговаривал он, растирая ступни пчелиным ядом, – они к земле ближе». Но служил по-прежнему, так что о его недуге не догадывались. После исповеди он приходил особенно печальным. «Бедный Господь! – отворачивался он к реке, и в его голосе сквозила жалость. – Что Он должен выслушивать в молитвах!» Вода раскачивала камыш, над песчаной отмелью хищно носились стрекозы, а бегущие облака складывались в сочувственные лица.
И Кавадраш думал, что каждое учение наполняют собой.
– А ведь мне сегодня семьдесят… – вздохнул однажды о. Савелий.
Высчитывая, сколько ему осталось до этих лет, Кавадраш хотел сказать, что возраст компрометирует – сравнишь мир со скользким безобразным тюленем, а услышишь: «Старый брюзга!»
Но вместо этого улыбнулся:
– Есть старик – убил бы, нет старика – купил бы!
И подарил имениннику картину, похожую на икону. Он нарисовал на ней вещи не как видят их все, направляя взгляд от себя, а наоборот, выворачивая к себе. В результате то, что было дальше, выглядело больше, и человек на заднем плане казался гигантом по сравнению с церковью. О. Савелий прослезился:
– В руках Твоих, Господи, мы только краски, которыми Ты рисуешь мировую картину!
– И это далеко не шедевр… – отвернулся Давыд.
Он давно заметил, что, употребляя одни и те же слова, говорит с другими на разных языках. «Мои разговоры – как у мужчины с женщиной», – думал он, так и не решив, к какому полу причислить себя. Но его непреодолимо тянуло к людям. В рыбацком посёлке он за бутылкой вина прислушивался к молчанию мужчин, сплетням женщин и, напитавшись чужой жизнью, прятался в раковину своей.
Другого берега реки не было видно, поэтому Давыд не удивился, когда двое мужчин с полосатым чемоданом, взяв лодку хмурым, осенним утром, не вернулись к вечеру. Но в полночь, когда хохотала болотная выпь, погрузил на борт фонарь и отправился на поиски. Он нашёл их только на рассвете. В уключинах безжизненно болтались вёсла, а к носу и корме раскинулись тела, под которыми в утреннем холоде густела кровь. Мертвецы сжимали пистолеты, а между ними лежал чемодан, на котором грудились деньги. Аккуратно перевязанных пачек хватало на несколько жизней. Давыд огляделся, вскрыв одну пачку, разбросал купюры, а остальные сгрёб в чемодан. Потом вынул нож, пробил днище и, едва успев перешагнуть в свою лодку, налёг на вёсла. Тонущая лодка с набухшими банкнотами быстро скрылась в тумане. Вернувшись в сторожку, Давыд затопил печь, положил на колени мокрый чемодан и, вытянувшись на стуле, долго смотрел на полыхавшие дрова…
На другой день, когда он, насвистывая, возился с прохудившимся бакеном, к нему подошли.
– Вчера двое лодку брали… Не вернули?
Давыд мотнул головой.
– У нас они тоже кое-что взяли…
Его сверлили глазами – Давыд не дрогнул.
– За это шеф шкуру спустит, лучше верни…
Давыд пожал плечами:
– А он у вас большой проныра, ваш шеф? Его взяли за горло:
– И у него железная хватка…
Давыд задохнулся, у него потекли слёзы.
– Я и говорю, – тронул он покрасневшую шею, – тыринс-протыринс…
От него отвернулись:
– Похоже, не в себе…
С тех пор Кавадраш пошёл в гору. Переехал в город, купил мастерскую. В делах у него появился поверенный, Моисей Яковлевич, ногой открывавший двери модных галерей. «Люди забывчивы, – говорил он, перебирая пуговицы залоснившегося пиджака, – без поддержки имя сходит, как первый снег…» Кавадраш посмеивался, но деньги давал. Его имя стало на слуху, его фотографии запестрели в журналах. Даже критики, называвшие других живописцев «картинщиками» и «прошлым тысячелетием», были к нему благосклонны, искусствоведы и «нужные люди» толкались в его прихожей. Теперь Кавадраш работал, как машина, – его подстёгивали сроки, подгонял Моисей Яковлевич:
– Задаром никто и спички не отдаст… А известность? Почему она должна с неба падать? Всё имеет свою цену, даже манна небесная…
Моисей Яковлевич смотрел большими слезящимися глазами, в которых светились тысячелетия скитаний, и Кавадраш думал, что в юности все одинаковые, но с возрастом каждый приближается к своим предкам, которые проступают на школьных фотографиях вместо сверстников.
– Но есть же глаза… – произносил он, обмакивая кисть в краску. – Люди отличат талант от тыринс-протыринс…
– Люди? – поднимал бровь Моисей Яковлевич. – Да им всё равно! А золотого тельца хоть потрогать можно!
И опять Кавадраш думал, что любое учение наполняют собой.
Поначалу город представлялся ему человеком, который спросонья ворочается с бока на бок и никак не может удобно устроиться, но вскоре он перестал интересоваться другими, перестал, как зверь, принюхиваться к чужой жизни. «Это дети живут с оглядкой, – разводя краски, щурился он на плывшие в окне облака, – взрослые видят только себя…» Теперь к Давыду было не подступиться, ключ от сердца он носил в кармане на одной связке с ключами от квартиры и машины. Случалось, ему представляли молодых, которым перешли дорогу его деньги, и тогда его мучили угрызения. А ночами снился Моисей Яковлевич. «К вам это, конечно, не относится, – шептал он, выпячивая губы и делаясь похожим на барсука, – но знаменитость можно сделать даже из пустого места…»
И Кавадраш просыпался в холодном поту.
Дело своё Моисей Яковлевич знал, и Кавадраш вошёл в круг избранных, которые делят между собой все премии и говорят только о своих. На пленэре его окружали репортёры, а в подъезде караулили почитатели. Постепенно он привык к сравнению с великими, разрывался между телевидением, презентациями, выставками и уже подумывал нанять молодых художников, которые бы копировали его манеру. Но таких не нашлось – реализм сменила абстракция. «Дружище, зачем портрет – фотоаппарат же есть!» – хлопали его по плечу представители новых течений. И Давыд уже откровенно халтурил, в душе называя себя «мазилкою», стыдился своего ремесленничества. Но инициалы ставил. И тогда за неудачные наброски дрались музеи, а коллекционеры выкладывали за холсты огромные суммы, так что Кавадрашу казалось, будто вместе с ними покупают его самого. Слава о нём облетела край. «Слыхал, – встретили его на реке, – какой известный у тебя однофамилец!» Давыд поморщился, ему захотелось всё бросить и вернуться на пристань насовсем, но жизнь – это поезд с билетом в один конец. О. Савелий осунулся, стал глуховат, раздражителен и громко кричал, когда ругался со служками.
– Нет старика – купил бы! – крепко обнял его Давыд. И протянул деньги: – На храм…
– Храм не в брёвнах, а в рёбрах! – покраснев, оттолкнул его о. Савелий.
Бывали у Давыда и дамы. Перед их визитами он заботливо выстригал в ушах волосы и закрашивал предательскую седину. «Возраст компрометирует… – стряхивал он на ковёр пепел с дорогих сигар. – Чтобы видеть красоту мира, надо быть слепым…» Женщины восхищённо кивали, а утром, застёгивая платье, просили картину.
Одевался Кавадраш в респектабельных салонах, тщательно выбирая костюм, долго вертелся перед зеркалом, зная, что покупает его на один раз. «Положение обязывает!» – улыбался он, а про себя думал, что люди слепы, что они примеряют жизнь тех, кого видят снаружи, а не того, кто живёт внутри.
Дни барабанили, как дождь, и Давыд пропускал их через себя, как дырявый зонтик. Раз хмурым, осенним утром к нему позвонили. Он ждал журналиста и, отщипнув от краюхи, открыл с мякишем за щекой. На пороге сутулился крепыш с косым шрамом, а за его спиной те, кто приходили к Давыду на пристани. Давыд попробовал захлопнуть дверь, но крепыш просунул ногу.
– Правда, я – тыринс-протыринс? – ухмыльнулся он. – А вот ты, похоже, притыринс…
Его подручные взяли Кавадраша за бока.
– Предупреждали же, у шефа железная хватка, – зашипели слева.
– Шкуру спустит, – наступили на ногу справа.
В комнате стояла мёртвая тишина, и только прижав ухо к оконному стеклу, можно было различить, как на бульваре падали исхлёстанные дождём ветки, как лаяли спущенные с поводков собаки и как, разбрызгивая лужи, обгоняли свои тени авто.
Крепыш достал пистолет.
– Ты мне должен… – растягивая слова, почесал он рукояткой белевший шрам. – А по счетам платят…
Кавадраш покрылся потом.
– Я верну, – всё ещё жуя хлеб, зашептал он, не слыша себя. – С процентами…
– А по ним много набежало! – оскалился крепыш. – Можно купить твою жизнь, которая больше ничего не стоит…
Кавадраш широко открыл глаза, точно увидел вылетевшую с глухим выстрелом смерть. Посреди комнаты на картине медленно текла илистая река, над которой кружил нарисованный ветер, и он успел подумать, что его живопись теперь подскочит в цене.
Было пасмурное, дождливое утро. Сняв рыбацкие сапоги, Кавадраш вытянул ноги к гудевшей печке и, доставая из полосатого чемодана пачку за пачкой, швырял в бушевавшее пламя отсыревшие банкноты…
Девушка со станции Себеж
Жена зашла в купе: «Чемодан наверх не ставь – не с твоим радикулитом…» И стрельнув глазами в съёжившуюся у окна попутчицу, развернулась на каблуках.
Поезд тронулся, поплыли провожающие, низкая платформа, далеко светивший в темноте вокзал. Глубокой осенью ездят мало, и в купе мы остались вдвоём. Познакомились легко, едва замелькали огоньки.
– Что же это, Ксения, за город такой Себеж?
– Древний, древнее Москвы…
А доехав до Волоколамска, я уже знал про её маленькую дочь, стареющих родителей, пушистого, вороватого кота. С провинциальной откровенностью она рассказывала про своё детство, как помогала матери по хозяйству, вечерами вязала, а всех радостей – книжки да мечты.
– Какая же я была – самой странно…
– А теперь?
– Ну, теперь я совсем другая…
– Какая же?
– Самостоятельная…
Она некрасивая – широкие скулы, большой рот. К тому же веснушки. Обычный для севера тип.
На чернеющих тучах качалась луна.
– Едем, едем, а она всё рядом… – прошептала Ксения.
– Как судьба, – сощурился я, напуская таинственность. Но она сжала колени, точно собиралась слить их в одно целое, и я почувствовал, как бьётся её сердце.
Каждое утро Ксению за тридцать километров везёт автобус – ближе работу не найти. Она с улыбкой рассказывает, как встаёт на час раньше, чтобы отвести в школу дочь, как умывается, разбивая зимой наледь в колодце, как, экономя электричество, одевается впотьмах перед бесполезным зеркалом, а я представляю морозные сумерки, молчаливых, заспанных пассажиров, каждое слово которых падает, как топор, представляю колючий иней на стёклах, по которому от нечего делать скребут ногтем, мне слышится недовольный лай шофёра и пробирает страх проехать остановку…
За окном тянулись бесконечные, грозно темнеющие леса, Москва, с её шумной, крикливой жизнью, осталась позади, и я подумал, что вся огромная Россия живёт совсем иначе, как вот эта девушка, которую мне никогда не понять.
– Какая у неё грудь, – отвлекаясь, подумал я.
По вагону стали разносить чай. Немногочисленные пассажиры, плотно закусив, готовились ко сну.
– Угощайтесь… – достал я коробку конфет. – Жена положила…
– Она у вас строгая…
– Трудоголичка… В офисах других не держат…
Но Ксения не услышала иронии. У неё огромные глаза, готовые сострадать каждому. И мне сделалось неловко.
– В конце концов, ей хорошо платят…
Ксения промолчала.
Сосредоточенно разглядывая чаинки, она пыталась представить нашу жизнь.
– Вы её, верно, очень любите…
Я пожал плечами:
– У нас сложившиеся отношения и настолько близкие, что, засыпая, я говорю: «Извини, дорогая, я хочу побыть один…»
Она смотрела недоверчиво, не понимая, шучу ли я. И тогда я рассмеялся:
– Берите конфеты…
В Ржеве сошли на перрон. Холодный ночной воздух жёг лицо, под ногами кувыркались жёлтые листья.
– Наденьте, просквозит… – сняла она с шеи шерстяной шарф.
– А вы?
– Ничего, я привыкшая…
С мужем Ксения разошлась через год после свадьбы, но до сих пор не могла успокоиться.
– Бросил он нас… – кусала она губы. – А я бы и сейчас жила… Мне ведь уже тридцать…
– Ну что же тогда мне говорить?
– А вам сколько?
– В два раза больше, чем в паспорте, – сострил я. – Писатель, Ксения, ведёт двойную жизнь: тянет, как все, годы, а потом их ещё и записывает…
– Так вы совсем старик… – рассмеялась она. И вдруг широко открыла глаза: – Счастливый, вы живёте дважды…
– А такое ли это счастье?
Мне сделалось грустно.
Я подумал, что мне уже давно не с кем перемолвиться. Или помолчать. Таким для исповеди остаётся дорога.
– Вот вы меня про жену спрашивали… – водил я по столу хлебные крошки. – Какая там любовь! Мы давно живём по привычке, жалим друг друга… И сын, как чучело, набит нашими колкостями. Раньше думал, ради него терплю, а он растёт неуч, лодырь… Эх, Ксения, как ужасно везде быть своим, когда кругом чужие! Ладно бы ещё в Бога верил – нёс свой крест, так и в Бога…
Ксения слушала, не отрываясь, казалось, ещё чуть-чуть, и она расплачется.
Наконец, я выговорился, стало легче.
– А что, Ксюша, можно к вам приехать?
Она посмотрела не мигая – так заманивают русалки.
– Приезжайте… У нас в школе учителей не хватает… И отвернулась к окну.
– А знаете, ведь у меня педагогическое образование, я раньше в интернате для слепоглухонемых работала. А потом ушла. Раз увидела, как девочки пожатием рук рассказывают о приставаниях интернатовского сторожа. Так не перенесла стыда…
– Господи, а вы-то здесь при чём?
– Как при чём? Невыносима стала своя полноценность и при этом абсолютное бессилие…
В глазах у неё стояли слёзы, губы дрожали.
«Истеричка», – мелькнуло у меня.
– А калеки? В церковь мимо идёшь – не знаешь, куда руки-ноги деть! Нет, нам грех жаловаться, мы по сравнению с ними боги…
Она задёрнула занавеску.
– А дауны? Разве они виноваты?
И посмотрела так, будто я знал ответ.
– И дались вам эти дауны… – проворчал я с глухим раздражением. – Да и так ли мы далеки от них? – Я указал подбородком на спящих: – Разве «нормальные» нам ближе?
Она вздохнула:
– Вы и, правда, чем-то от них отличаетесь…
– Белая ворона… – безнадёжно махнул я.
И она опять была готова меня жалеть.
В тамбуре, куда я вышел курить, стоял грохот. От тряски я вцепился в лупившийся краской поручень и не заметил, как открылась дверь.
– Можно я с вами постою? – перекрикивала шум Ксения. – Одной страшно, да и за стенкой храпят… И как они могут спать?
Она редко куда выбиралась, и теперь её глаза возбуждённо блестели. Мы стояли очень близко, когда я разгонял дым, наши руки соприкасались, но я заговорил совсем не к месту.
– Представляете, Ксюша, что сегодня в журналах печатают – читать стыдно…
Я назвал несколько фамилий. Она не знала никого.
– В нашу глухомань и птица-то редкая долетит… Залилась краской и, отвернувшись, стала ковырять растрескавшуюся стену.
А я опять подумал, не уехать ли в Себеж?
К стеклу, гримасничая, липла луна.
– На неё долго нельзя смотреть… – спиной загородила её Ксения. – Бабушка говорила: «Луна душу притягивает».
– Это у кого есть…
Она посмотрела с удивлением:
– А как же без души? Душа и у камня есть.
Я глубоко затянулся.
– По-вашему, Ксения, люди добрые?
– Конечно, добрые, – убеждённо кивнула она. – Только многие несчастны, как вы…
Я смял окурок.
– Да вы, прямо, цыганка, может, ручку позолотить? Она вспыхнула до корней волос.
– Нежная вы душа, – взял я её за локоть, – пойдёмте в купе.
Ксения гостила у тётки в Воронеже, и в столице была проездом.
– Тяжело у вас, – выносила она приговор. – Торопятся, бегут, как на пожар… А куда торопиться? Где ждут, туда всегда успеешь.
– Вас-то дома ждут?
– Ещё бы, я же с подарками.
А я вспомнил, как часто, в одиночестве присев на дорожку, хлопал себя по коленям: «Ну, пора, нечего кисели разводить…»
Жизнь, как поезд, катилась по рельсам, но её колёса стучали для нас по-разному. «Тебя никто не ждёт, – слышалось мне, – никто, никто, никто…»
В Себеже поезд стоял две минуты.
– Ну, прощайте… – просто протянула она руку.
Пожимая узкую, тёплую ладонь, я не выдержал:
– Вы необыкновенная, Ксюша… Вы себе цену не знаете… Дай Бог вам счастья…
Она покраснела:
– Будет вам…
И, выдернув руку, взялась за поклажу. На решётчатой подножке обернулась:
– И вам счастья…
На мгновенье мне неудержимо захотелось сойти следом. Бросить всё и уйти в ночь! Но проводница уже поднимала железные сходни…
Вернувшись в купе, я долго не мог успокоиться, всё вокруг ещё хранило её присутствие. Я вышел в тамбур – она была и там. Занимался рассвет, прислонившись через кулак к холодному, дребезжащему стеклу, я смотрел на бледное, розовеющее небо, на медленно тускневшую луну, а подо мной с прежней силой стучали колеса…
Трудные уроки христианства
СОКРАТ СЛУШАЕТ НАГОРНУЮ ПРОПОВЕДЬ
Блуждая по царству мёртвых, я пересёк обтекающий его Стикс и оказался в жаркой каменистой пустыне.
«Блаженны нищие духом», – доносилось с холма. Человек в белой хламиде простирал руки к толпе восточных варваров, которых я узнал по завитым бородам.
«Какого он племени?» – подумал я.
«Блаженны плачущие, ибо они утешатся…»
В тихом голосе сквозила неизбывная грусть. Не разбирая языка, на котором он говорил, я, странным образом, понимал его.
Приблизившись, я смешался с толпой.
«Блаженны жаждущие правды, ибо они насытятся…»
«Когда? – крикнул я. – Пока я знаю только то, что ничего не знаю!»
На меня обратили внимание не более чем на мошку. Грубые, обожжённые солнцем лица, все пучили глаза на проповедника. Признаться, и я дивился его риторике, прикидывая, у кого из наших он учился.
«Вы – соль земли… Вы – свет мира…»
«Лесть принесёт тебе пальмовый венок!» – скривился я. И тут же обратился в слух: «Не судите, да не судимы будете…»
«Для этого надо лишиться не только языка, но и разума!»
Я открыл, было, рот, но тут вспомнил про цикуту. И почему его сентенциям не следовали мои сограждане?
«Не противься злому, и кто ударит тебя в правую щёку, подставь тому левую…»
Не нарушая молчания, вокруг согласно кивали.
«Твоему закону, – не выдержал я, – должны подчиняться все, иначе он превратится в орудие тиранов!»
На меня зашикали, и, повернувшись, я поспешно удалился.
Под смоковницей ютился постоялый двор, хозяин понимал по-гречески, и мы, черпая из амфоры неразбавленное вино, срывали смоквы, не вставая из-за стола. Хозяин рассказывал о пылающем кусте, из которого вещало божество, я – о храмах с портиками и мраморными богами.
«Храм, как и Бог, один, – нахмурился он. – И Он не терпит Своих изваяний!»
У него отсутствовало сомнение, его речь была цветистой, и метафора заменяла в ней силлогизм. Мы так заговорились, что оборвали все смоквы и не заметили подсевшего иудея. Пряча живот под стол, он сообщил, что пророка с холма давно распяли, а его ученика побили камнями.
«Варвары», – скривился я.
И опять вспомнил про цикуту.
Иудей оказался мытарем, он рассказал, как, собирая подать, увидел на дороге Бога – того, распятого. Я усмехнулся.
– Безумие для эллинов, – зло проворчал он.
Я глубже погрузил язык в вино.
– Теперь мы видим как бы сквозь тусклое стекло, гадательно, – гнул своё мытарь, – тогдаже лицом к лицу…
– Когда? – покачал я головой.
Пока был жив, я тоже надеялся, что с кончиной откроется свет, но в подземной обители не видно даже вытянутой руки. И всё же мне было жаль ритора, который сводил жизнь к притчам и размахивал оливковой ветвью, не препоясавшись мечом. «Блаженны миротворцы, – вспомнил я, – их назовут сыновьями Божьими…» Возможно, но прежде убьют.
Пригубив вина, мытарь меж тем шептал о грехопадении, которое нужно искупить. Признаться, я долго не мог его понять, а, поняв, рассмеялся: «Если всемогущий Творец создал нас, как червивое яблоко, то кто же тому виною?» Но мытарь оказался, как моя Ксантиппа – вылил на меня ведро помоев и заявил, что я – его жало в плоть.
А потом стал хвастать, что понесёт свет греческим невежам.
Глупец, Афины никогда не откроют ворот твоему учению! И потом, разве ты не знаешь, что мир – только часть царства мёртвых, за пределы которого я так и не вышел?
ВЕРГИЛИЙ ЗНАКОМИТСЯ С УЧЕНИЕМ ХРИСТА
«Прошлое и будущее одинаково недостижимы, мы ощупываем их, как слепцы, но к чему прикасаемся – загадка…»
От этих мыслей я очнулся в апрельские календы семьсот восемьдесят девятого года от основания Города посреди сырых, пропахших известью катакомб. Был час первого факела, вокруг, как летучие мыши, грудились заговорщики, прячущие лица под масками. Они читали вслух папирусные свитки, из которых я узнал историю их вождя, осуждённого иудейским синедрионом и распятого нашим прокуратором.
– Ты же сам пророчествовал о нём, – показали они четвёртую эклогу «Буколик».
Я разглядел горбатые носы и глаза навыкате.
– После его воскресения каждый может попасть в Царство Небесное! – тронул меня бородач, которого звали «Камень».
– После Лукреция, – поморщился я, – даже блаженство Элизиума сомнительно…
Заговорщики крестили лбы пальцами, как злые духи, называли хлеб плотью, а вино – кровью. Подражая своему вождю, они возвеличивали страдания и участь гонимых. «Почему синедрион осудил их безумного соотечественника?» – гадал я. И вдруг страшная мысль мелькнула у меня. Им пожертвовали, чтобы создать легенду, которая приведёт римлян на крест! Этот миф о торжествующей слабости – коварный ответ нашим легионам! Так восточные черви подточат римского Орла! С экстатическим упоением заговорщики рисовали рай, списанный с Золотого века, и ад мрачнее Эреба. Низкие своды, засиженные слизняками, были подстать этим рассказам. Но я не слушал, размышляя, как предостеречь будущего императора. И тут снаружи донёсся шум. «Кто с крестом к нам придёт, на кресте и погибнет!» – закричал я, выбегая на улицу под защиту городской стражи.
Кошмар развеялся. Меня снова окружала безмятежная жизнь, налаженная властью божественного Августа, а фонтан во дворе по-прежнему струил воду в бассейн с рыбками. «Мы прикасаемся к прошлому, в котором полыхал Карфаген, – думал я под впечатлением от своего видения, – но как прикоснуться к будущему, в котором будет гореть Рим?» И тогда грозным предупреждением я написал о проклятии Дидоны, о мести её потомков сыновьям Энея.
МЕССАЛИНА НАБЛЮДАЕТ СТРАСТИ ХРИСТОВЫ
Кувшин фалернского на вечернем пиру перенёс меня ночью в южную провинцию. Здесь царил вчерашний день – статуи на площадях знаменовали правление умершего императора. «Время на Юге, как и во сне, течёт медленнее», – догадалась я, разглядывая вышедшие из моды одежды.
«Кто смотрит на женщину с вожделением, тот уже прелюбодействовал с нею в сердце своём!» – обращался к толпе человек с измождённым лицом.
– Он что, евнух? – дёрнула я за рукав стоявшего рядом рыбака.
Тот пожал плечами.
– Знаешь его?
– Нет.
– А его? – достала я сестерций с изображением императора.
Он побледнел.
– Кесаря?
– Ну да, Тиберия…
– Божественного Тиберия Клавдия Нерона, принявшего имя Цезаря Августа?
Низкий раб! У черни языки, как помело, а изворотливость в крови!
«Кесарю – кесарево, а Богу – Богово…» – донеслось до меня.
Вокруг зевали, прикрывая рты мозолистыми ладонями.
– Кто это? – обратилась я к красивому юноше с пушком на губах.
– Учитель мира.
– Почему же его не слушают?
Толпа стала расходиться.
– Болтать можно долго, – бросил на ходу почерневший от пыли крестьянин.
– Поля не выкошены, а солнце ещё высоко, – подхватил другой.
Юноша брезгливо поморщился:
– Птицы небесные не сеют, не жнут…
Мне нравился этот смуглый красавец, и, когда он пригласил меня домой, я с трепетом ожидала предложения разделить ложе. Но вместо объятий меня ждал рассказ о непорочном зачатии и любви к ближнему.
– Как может женщина любить ближнего, а зачать непорочно? – упражняясь в софистике, рассмеялась я. И пустила в ход свои чары: – Ты ещё будешь стариком – бесполым, утратившим мужскую силу и не обретшим женской слабости…
Но юноша был непреклонен. Он твердил об искуплении и первородном грехе.
– Наказание несут за нарушение закона, – при этих словах моё лицо непроизвольно зарумянилось, – но с рождения считать себя преступником? Испытывать блаженство от раскаяния? Чудовищно!
Призвав в свидетели римскую гордость, я направилась к выходу. Тогда, опустив голову, юноша поведал, как отказался пойти за Учителем, раздав имение нищим.
– Что бы это изменило? – бросила я в дверях. – Только увеличило бы число голодранцев!
Иерусалим – город маленький, но убивают в нём быстро, пока я объехала его на осле, незадачливого проповедника уже казнили. Он выдавал себя за иудейского царя, а оказался сыном плотника. «Рабы, – задрав голову, смотрела я на крест в лучах заходящего солнца, – мало ли их распяли…» Вокруг скорбно молчали. «Народ никогда не поднимется – поднимется пыль», – подумала я. Женщины поодаль прятали лица под платками, а рядом стоял на коленях богатый юноша, красота которого померкла от слёз. «Я искуплю свою ошибку, – шептал он. – Мы превратим ваши ночи в дни!» И тут во сне я перенеслась в свои покои. Стояла ночь, но за окном было светло, как днём, – это горел Рим, подожжённый учениками сына плотника.
МАРКС ИЗУЧАЕТ ЕВАНГЕЛИЕ ОТ ЛУКИ
Зима в Трире выдалась промозглой – за окном падал снег, и в университетской библиотеке Маркс был один. «Откуда известно, как дьявол искушал в пустыне Христа? – листал он Писание. – От Христа? Но в этом есть что-то человеческое, недостойное Бога…»
Прогремел гром, начиналась зимняя гроза.
«Иисус говорил, что послан Отцом, – выводил на полях Маркс, – поначалу его пророчества противоречивы, точно он поперхнулся истиной. Лишь чудеса заставили его поверить, что он – Бог, и взойти на крест, будто на небо. Однако муки пересилили: «Боже мой, для чего Ты оставил Меня?» Человек остался человеком, Бог покинул земное обличье…»
Маркс продолжил чтение, потом, покачав головой, снова погрузился в записи.
«Царство Небесное – за гробом, значит, его отсрочка неопределённа, значит, вера – это обещание. Но чем оно обеспечено? Писанием четырёх полуграмотных евреев?»
Сосредоточившись на своих мыслях, Маркс не обращал внимания на громовые раскаты.
«Иерархия – вот камень преткновения, вот что мешает земному счастью! – всё больше воодушевлялся он. – Но на небе свои классы – серафимы и херувимы возвышаются над святыми и мучениками…» Маркс посадил чернильное пятно, промокнув бумагой, снова взялся за перо. Но тут его отвлекли крики на улице. Он поднял голову: шёл тридцать третий год, солнце клонило пятницу к субботе, и в Иудее стояла необычная для апреля жара. Перед глазами у Маркса всё поплыло, теперь он видел мир перевёрнутым – босые ноги, пыльные сандалии, родинки, прикрытые подбородком, и летящую с криком гусиную стаю, которая извивалась в небе, как кнут. Маркс превратился в деревянный крест, который, покачивая, несли на Лобное место. Примеряясь, его врыли в сухую землю, скрипевшую, как песок, потом, положив на бок, прибили дощечку с надписями на арамейском, греческом и латыни. Она обожгла, как терновник, Маркс вздрогнул, будто в него вонзились тысячи колючек. А когда через окровавленные кисти ему стали вколачивать гвозди, он застонал – беззвучно, как Вселенная.
ПИЛАТ ВСПОМИНАЕТ ДЕЛО НАЗАРЕТЯНИНА
– Зачем ты убил Меня? – услышал я грозный голос. – Я нёс Слово, а ты распял Меня!
Крылатый ангел со строгими глазами подтолкнул меня к престолу из облаков, рядом с песочными часами. Так я понял, что умер и держу ответ перед Всевышним. На земле я приговаривал к смерти тысячи преступников – от Германии до Иудеи – разве всех упомнишь?
– Ты говоришь, – произнёс я, чтобы не молчать.
На меня зашикали.
– Видишь, тебя обличают!
– Не судите, да не будете судимы… – ввернул я первое, что крутилось на языке.
И уткнулся под ноги. Стало слышно, как в часах сыплется песок.