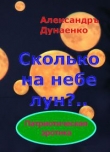Текст книги "Гений вчерашнего дня: Рассказы"
Автор книги: Иван Зорин
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 15 страниц)
Спиритический сеанс для Николая второго
Понедельник, вторник, четверг – три “мужских” дня, а среда, суббота и пятница – три “женских”, – бубнил кривой мужик, катая по тарелке голубиное яйцо, – “мужские” дни счастливые по нечётным числам, а “женские” – по чётным…» Этого чернявого оракула привезли к государю из-за тридевяти земель, на телеге, которая тащилась позади славы, – у себя в провинции он нагадал недород и болезнь губернатора. «Мужчина проживает в одиночку, а женщина делит жизнь с приплодом…» – пояснил оракул, увидев вздёрнутую бровь. Из сада пахло яблонями, и душная истома стояла на балконе, как гвардеец. В этот час умирают споры, а в темноте карманов рождается истина, за которой лень сунуть руку.
«Скорее бы вечер…» – подумал Николай, отстукивая на подлокотнике военный марш.
Была годовщина коронации, в Царском Селе чертили на воде «Боже, царя храни» и, готовясь к фейерверку, заряжали пушки. Песочные часы на подоконнике цедили время, которое должен был скрасить прорицатель, но государь уже клевал носом. Его шея вылезала из воротничка, а подбородок касался груди. Во сне он видел свой экипаж посреди толпы, как это было недавно в голодающей губернии, когда матери протягивали ему пелёнки, на которых прорех было больше, чем заплат. Швыряя медяки, он то и дело поворачивался так, чтобы не слышать плача, но половина его лица всё время оставалась в тени. А другая горела, будто от пощёчины. «Сами не знают, чего хотят…» – подумал он, разворачивая письмо, прилетевшее к нему «аэропланом». Целую вечность его палец скользил по бумаге, но ему показалось, что он забыл грамоту, что буквы принадлежат какому-то неизвестному алфавиту, он едва разобрал одно слово, и это был день недели…
«А воскресенье среднего рода, – гнул своё чернявый мужик, – потому что оно Богово…»
Сны клюют глаза, как птицы, и шлют чёрные метки. Теперь царский кучер правил к дворцовой площади, на которой мёртвые стояли среди живых, как недавно на Ходынском поле, вокруг колыхались хоругви, стискивая коляску, словно уносящие душу демоны. «Николай, Николай, – пугая галок, звонили колокола, – отчего ты нам больше не заступник?»
И государь, опустив глаза, вчитывался в строки, которые налились кровью.
А кривой считал грехи, как ворон на заборе. «На свете три преступления, – загибал он пальцы, – ты рождаешься, зачинаешь подобного и умираешь… И все они совершаются на постели…» Он закатил единственный глаз и, уставившись пустой глазницей, стал страшен.
«Грех, как слюна во рту, – завопил он, – святость – сушит!»
Николай вздрогнул. Он вдруг увидел мир его мёртвыми глазами, в которых чернело будущее. И от этого ему захотелось выть. Он прислонил палец к губам, но пророк, соскочив со стула, как со сковородки, понёс ему на колени свою тень.
«Выйдет из-за окияна жёлтый ампиратор: на голове у него стог, а подмышкой косые скулы, – причитал он, дуя на обожжённые пальцы. – И наткнётся он в поле на чучело, и завизжит на своём жёлтом языке, протыкая ему грудь железным пальцем! И тогда почернеет на соломе кровь, как кофейная гуща…» Теперь и Николай увидел расплывающееся пятно. А в нём бурю. Подкравшись из-за низких холмов, она приближалась стремительно, как это бывает в степи или на море. Он уже слышал раскаты грома. «Обмануть легче лёгкого, – гремело в них, – я подобрал слова, и ты увидел за ними картину, которую я не вижу!» У мужика прорезался кривой глаз, которым он заморгал чаще, чем другим. Теперь он заикался, называл Николая отцом, но видел в нём сына.
«Любовь писана вилами по воде, а ненависть – в сердце, – шипел он. – Ненависть не победить любовью – черви не бьют пик… – Он посмотрел снизу вверх, как будто сверху вниз. – Но и пики не бьют червей. Ненависть и любовь, как собака и кошка, которых кормит один хозяин…»
Тарелка заходила ходуном, и яйцо, перескочив через край, разбилось. Чернявый затрясся над ним, как юродивый над копеечкой.
«Ты говорил: “Пусть слёзы подданных падут на моих детей?” – Николай отшатнулся, ему вдруг показалось, что песочные часы истекают кровью. – А хоть бы и нет, – подавился смехом чернявый, – слезинка младенца всегда разыщет невинного…»
От испуга Николай снова стал мальчиком – шевелил руками, забытыми в карманах, и, захлопывая книги, давил мух, которые до следующего урока успевали засохнуть между страницами, как цветок гимназистки. Он носил своё имя, как парик, и вся его земля умещалась под ногтями. Мальчик заливался колокольчиком, и тогда подавали обедать, он сердился, и тогда крутил мизинцем у виска, дразня гувернёра счетоводом. «Все считают, – обижался тот, – одни – звёзды на небе, другие – куски во рту…»
Однако человек, как цыган, бродит по линиям своей ладони, а его переводят, как стрелку будильника. С годами Николай нахлобучил имя, как шапку, и под ней оказались земли, над которыми не заходит солнце. Теперь у него была жена, с которой они ощупывали друг друга, как слепцы, и такая же страна. «Наденет фрак – всё равно дурак!» – разносили на хвостах сороки про его министров, из которых одни считали облака, другие – деньги, но никто – мертвецов. А железные камни уже пускали круги по земле, и солдаты в островерхих касках, нарезавшие у костров сало штыками, бежали в атаку с нерусскими междометьями – вытирать сталь об императорские шинели…
«Важно не когда жить, а с кем, – вещал чернявый, – потому что человек всегда лишний…»
«Воистину, лишний…» – повторил, как оглашенный, Николай.
В Царском Селе он по-прежнему сидел на балконе, а в иной реальности наматывал на сапоги вёрсты во всех четырёх направлениях. Он поглощал пространство вместе со снами, мыслями, книгами, и оно, в отличие от внешнего, которое липло к подошвам, размещалось внутри, в копилке, которая только пополняется, а очищается раз. В этом пространстве Николай уже оседлал возраст, когда вместо прелестей у женщин замечают изъяны, а мочатся через сморщенный огурец. «Классическое образование оставляет в прошлых веках», – брюзжал он, глядя, как его дети зубрят античность. Он старался держать свои мысли, как слюну во рту, но они выходили наружу плевками.
Теперь годов у него было больше, чем зубов, – немногим меньше, чем волос.
«Макушка для головы, что пупок для тела, – говорил ему цирюльник, зачесывая пряди на затылок, – лоб обнажает ум, а плешь распускает мысли…» Государь с кислой миной следил, как выстригают ему седину, и не переменился, когда рядом с бокалом на поднос положили отречение. Нетерпеливые руки тронули его за плечо. Он через зеркало покосился на бумагу, где краснели чернила, а подписи жгли, как поцелуй Иуды.
«Слова, как виды вдоль дороги, сейчас – один, через версту – другой…» – запил он царствование, история которого уместилась в глотке вина.
Была ранняя весна, от холода руки мёрзли больше, чем ноги, а грачи уже расселись, как на картине Саврасова. На телеге, впереди славы, Николая везли на восток, куда веками ссылали бунтарей, и у него опять было много времени, а земли с ноготь. «Сначала ищут твоей любви, потом – смерти», – думал он, соглашаясь сквозь сон с чернявым. Теперь по нему звонили так, что дрожали колокольни, но за него больше не молились, и небо не знало о его судьбе.
А это значило, что для него настал судный день.
Он ехал сквозь строй ангелов – это дети на обочине кусали с голоду воздух. «Как живут ваши матери?» – бросил он из повозки. «Хорошо… – донёс ветер. – Они умерли». И опять у государя вспыхнула пощёчина. «Хорошо там, где нас нет…» – закашлял над ухом чернявый. «И не будет…» – эхом подхватил он. А потом картины замелькали, как в синематографе. Он увидел кривые берёзы, под которыми вместо грибов росли могилы, брошенные деревни, черневшие печными трубами, иссякшие колодцы и купеческий дом с решётчатыми ставнями, в котором ночи выворачивали наизнанку дни. Там его с женой и пока не родившимися у него детьми ведут в подвал, Николай во сне понимает зачем, а тот, что видит сон – нет, и напряжённо вчитывается в чужие морщины, как в строки, которые наливались кровью. Будущее всегда смутно, прошлое – чуть брезжит. Он едва разбирает календарь, в нём жирным крестом перечёркнуто воскресенье. Под этим днём нет числа потому, что Бог проиграл его дьяволу в чёт-нечет. Ещё не наступив, оно уже прошло, это воскресенье, когда он умер, продолжая жить. «Чтобы убить другого, надо прежде убить себя», – понимает Николай, различая перевёрнутую январём шестёрку, за которой скалится зверь. И его опять охватывает ужас, как давным-давно в Царском Селе, когда, ожидая фейерверка, он уснул под глухие пророчества и видел, как в фонтанах на покрасневшей воде вместо «Боже, царя храни» проступило «Мене, мене, текел, упарсин». Ему даже показалось, что он успел прочитать свою роль прежде, чем грянул залп…
Грянул залп, Николай очнулся, переступив через смерть. Он был один. Внизу стреляли пушки, и струи брызгали по небу, как пена эпилептика. Начинались гуляния, пора было выходить, но сон ещё долго держал его в тревожном оцепенении.
А когда Юровский, сосчитав двадцать три ступени, будет скороговоркой читать приговор, он снова увидит его на дне расстёгнутой кобуры. И тогда он поймёт, что время во снах течёт в обратном направлении, подступая с той стороны, откуда сочится судьба, из неизвестности, за гранью которой ему предстоит оказаться через мгновенье.
На мосту
Не верь ему! Все, что он говорит, – ложь!
Акутагава Рюноске. В чаще
РАССКАЗ ВРАЧА
Во имя Аллаха, милостивого, милосердного! Господи, облегчи и помоги! Мое имя Абу-ль-Фарадж ибн Хусейн, и я лечу правоверных в Аль-Кархе. Вот что произошло однажды, когда день уже клонился к закату и я, спеша на пятничный намаз, закончил принимать больных. В дверь робко постучали. Вошедший назвался Абу-ль-Касимом аль-Джухани, простёрся ниц и, заклиная Аллахом, попросил его выслушать. Вот что он сказал:
«Я работаю машинистом на поезде, который раз в неделю ходит в Исфахан, и я опасаюсь за свой разум. На полпути от Багдада в Исфахан лежит мост через горное ущелье, по дну которого течёт бурная река. Это проклятое место! Каждый раз, когда мой паровоз подходит к мосту, на нём вдруг появляется дервиш. Его седая борода треплется ветром, а клюка стучит о рельсы. Я торможу, указывая помощнику на бредущего по шпалам старца. Но – о, ужас! – мой помощник его не видит и лишь смеётся. Напрасно я пытался схватить странного дервиша: он исчезал также внезапно, как и появлялся. Вы человек уважаемый, посоветуйте вашему вечному должнику, – я боюсь, что помрачился разумом».
Выслушав удивительный рассказ, я стал задавать машинисту вопросы. Я просил подробнее описать таинственного старика – он вспомнил несколько деталей. Так не мог отвечать человек с помутившимся рассудком. Убедившись, что он здоров, я рекомендовал забыть происшедшее.
– А что же мне делать, если он снова появится? – спросил машинист.
– Больше не появится, – как можно спокойнее ответил я.
Он настаивал.
– Ну что же, тогда наезжайте на него, – не выдержал я. Довольный посетитель заплатил мне тридцать золотых динаров и удалился.
Дорогой в мечеть я размышлял о миражах…
А теперь стражники кади пришли ко мне, говоря, что тот человек – убийца, что он задавил на своём паровозе дервиша. По их словам, когда поезд подъезжал к мосту, на него вышел нищий паломник. Увидав его, помощник закричал: «Тормози!», но машинист усмехнулся: «Ну уж нет, он ненастоящий!» – и прибавил пару.
Теперь он вопит в тюрьме, чтобы почтенный лекарь Абу-ль-Фарадж ибн Хусейн объяснил его жестокий поступок, что он не хотел никого убивать, а лишь следовал моим указаниям. Какое чудовищное совпадение! Я подтверждаю правдивость слов Абу-ль-Касима аль-Джухани и надеюсь, что мудрый и столь сведущий в фикхе кади нашего города – да продлит Аллах его годы! – правильно разберёт это невероятное происшествие. Я думаю, он присудит невиновность, ибо залогом ей – простодушие этого человека.
Да сбудется на то воля Аллаха!
РАССКАЗ МАШИНИСТА
Во имя Аллаха, милостивого, милосердного! Да будет Он милостив к Мухаммаду, пророку Его и к его священному роду!
Моё имя Абу-ль-Касим аль-Джухани, и я хочу признаться в злодеянии, которое совершил, когда работал машинистом на линии Багдад-Исфахан. Вот что толкнуло меня на это.
Очень давно, ещё в пору моей юности, один человек из нашей деревни – его звали Талха ибн Убайдаллах – хитростью лишил меня скудного наследства, которое оставили мои родители. А было так. Придя ко мне в дом, он расположил меня сладкими речами, и мы предались винопитию. О, как жестоко я поплатился за нарушение шариата! Когда выпитое стало смыкать мне очи, коварный Талха предложил сыграть в кости. И я не успел бы прочитать Открывающую суру, как это отродье Иблиса – так ловко он умел метать камни! – уже выиграл у меня все деньги, всех баранов и коз, но главное – я проиграл молодую жену, красавицу Айшу. И потом остаток отпущенной жизни я был вынужден служить по найму, проклиная своего врага и тоскуя по утраченному.
Но вот однажды, много лет спустя, проезжая на поезде между городами моей линии, я вдруг увидел на мосту сгорбленную фигуру. Это был Талха ибн Убайдаллах – я узнал бы тебя из тысячи, лукавый пёс! – и подумал, что он живёт по соседству. И не ошибся. На обратном пути я увидел его выходящим из будки путевого обходчика. Тогда я и решил отомстить за Айшу – я решил убить постаревшего Талху. Но торопиться было некуда – разве Аллах допустит раннюю смерть предателя? Разве позволит ему избежать кары? – нужно было тщательно подготовить убийство, чтобы выйти сухим из воды. Прошёл год – целый год! – в течение которого я много раз тормозил паровоз перед мостом, указывая помощнику – а надо сказать, что мальчишка подслеповат – или на уже сходившего к насыпи Талху, или на пустое место, пока тот не привык к моему наваждению. Потом, беспокоясь, якобы, за рассудок, я (кстати, по совету помощника) обратился к врачу, известному Абу-ль-Фараджу ибн Хусейну. Но я ждал помощи не врача, а свидетеля. Так и случилось. Этот добрый и уважаемый человек, между нами, немного бесхитростный, сразу поверил в галлюцинацию, и его замолвленное на суде слово оказалось решающим.
Как ловко я всё подстроил! Как ликовал, с потупленным взором слушая приговор, эту песнь гурий: убийство сочли случайным, приписав воле небес! Хотя, как знать, может это в чём-то и так.
Велик Аллах! Свою месть я смог осуществить уже на другой день после посещения Абу-ль-Фараджа ибн Хусейна. И вот теперь мой разоритель, похититель моей жены наказан, теперь я должен возрадоваться.
Но отчего же неизбывная печаль тяготит мне сердце?
РАССКАЗ ДЕРВИША
Во имя Аллаха единого и справедливого! Нет Бога, кроме Аллаха, и Мухаммад пророк Его! Меня зовут Талха ибн Убайдаллах, и я пишу эти строки за день до смерти, ибо завтра колёса поезда переедут моё тело. Наконец-то! Уже много лет страшная болезнь ниспослана на меня, заставляя терпеть страдания. Мои муки невыносимы, и я подумывал уйти из жизни. Я уже совершил хадж, и теперь ничто не связывает меня с миром. Я думал об этом всерьёз – да простит мне Аллах! – но вовремя вспоминал, что это грех, что уйти самовольно – значит прогневить Аллаха. Вот тогда я и стал разыскивать Абу-ль-Касима аль Джухани, бывшего односельчанина, затаившего на меня кровную обиду. Он жаждал моей смерти, ведь ему казалось, что я обманом выиграл у него и дом, и жену, хотя это не так. В тот день мне больше везло, и мне не в чем раскаиваться. Айша была когда-то моей невестой и во время горького замужества втайне продолжала меня любить. Она сама подсказала мне мысль сразиться с мужем в кости. К Абу-ль-Касиму аль Джухани я был расположен настолько, что с удовольствием простил бы ему долг, если бы это не навлекло подозрения, что главной ставкой с самого начала была Айша, что деньги я выиграл для отвода глаз.
О, Айша! Мой бедный цветок, почему ты увял так рано? Почему судьба так несправедлива?
Вскоре после смерти несчастной Айши, опечаленный, я продал дом, раздал имущество и стал дервишем. Посреди скитаний, в довершение всех бед, меня и настиг ужасный недуг, от которого нет спасенья. Как избавиться от бремени? Как расстаться с телом, сохранив душу? И тут я узнал, что человек, который меня ненавидит, служит на железной дороге. Я поселился возле моста, лежащего на его пути, и стал думать, как бы заставить его убить меня. Я знал, что он трусоват и ни за что не решится тронуть меня, не имея твёрдых надежд на оправдание. Я попытался внушить ему, как ими заручиться. Разузнав прежде, что его помощник плохо видит, я стал являться привидением, попадая на глаза Абу-ль-Касима аль-Джухани. Этим я дразнил его, разжигая ярость, провоцировал на убийство. Однако лишь год спустя тупица стал следовать моему плану. А вчера он был у врача. Значит, завтра мои муки окончатся! И если за мною числится хоть капля вины, то завтра моя кровь, омыв рельсы, искупит её.
Весь год я уподоблялся призраку – завтра я стану им.
Да сбудется на то воля Аллаха!
РАССКАЗ ДЬЯВОЛА
Во имя врага Аллаха, немилостивого, немилосердного! Да пребудет во веки проклятый за непокорность род его!
Одни зовут меня Иблисом, другие – шайтаном, остальные – сыном тьмы. С текущим от Сотворения временем мои имена меняются, но деяния – вечны. Я хочу поведать историю о том, как соблазнил трёх послушных рабов Аллаха, трёх подданных моего Врага.
Они жили вместе в горном селении: Абу-ль-Касим аль-Джухани, его жена Айша и друг мужа – Талха ибн Убайдаллах, и были счастливы скучной добродетелью. Тогда я вселил в сердце Талхи запретную любовь, он стал втайне томиться по Айше и ждать своего часа. И вот однажды в деревне оказалась проездом певичка, и муж Айши пошёл в чайхану смотреть её представление. Певичка была красива, и многие добивались её расположения, поэтому Айша легко поверила, когда я под видом сплетницы-старухи нашептал ей об измене супруга. Как возревновала женщина! Как кляла она порочного мужа! Этим-то и воспользовался Талха. Утешая её, он говорил, что изменник недостоин любви, а под конец открыл свою страсть. И Айша назло мужу уступила его домоганиям. Я же устроил так, что Абу-ль-Касим аль-Джухани сразу узнал об этом. Страшный гнев охватил его, но он до поры решил его скрыть. Он стал думать, как местью неверной жене смыть позор.
И придумал.
Как-то, притворившись пьяным, он нарочно проиграл её в кости любовнику, правильно рассчитав, что после такого унижения все, и любовник, будут её презирать. Движимый ненавистью, Абу-ль-Касим аль-Джухани не остановился даже перед проигрышем (для отвода глаз) всего имущества. Сколь ослепительна ярость! Но он добился своего – пламя оскорбления сжигало теперь Айшу и вскоре свело в могилу.
Позже я наслал на Талху болезнь, чтобы заставить его желать смерти, а значит, отвернуться от нашего всесильного Врага. Я же раскрыл ему глаза на историю с Айшой, подчеркнув злорадство мужа, чтобы с удовольствием наблюдать, как он превращается в странствующего дервиша – так ему легче было разыскать подлого Абу-льКасима аль-Джухани.
Разыскать, чтобы отомстить.
Тут мои козни прекращаются: события сами развиваются мне на потеху – так в горах достаточно толкнуть камень, чтобы вызвать лавину.
Обнаружив, что его бывший друг водит через мост паровоз, Талха стал являться ему, искушая – и в этом он уподобился мне! – совершить убийство. Зная, как тот жаждет расправы, которую сдерживал лишь страх наказания, он старательно подсказывал осторожному машинисту, как можно оправдать преступление. С каким наслаждением измученный болезнью Талха представлял, как его пугливый убийца наконец клюнет и отправится к врачу, будущее молчание которого на суде он заранее купил за пятнадцать золотых динаров. В ночь перед смертью мстительный Талха ибн Убайдаллах радовался, ведь он пересчитал свою жертву, как опытный шахматист, не сомневаясь, что врага постигнет суровая кара. И его коварный замысел наверняка бы удался, если бы не грязная душа лекаря Абу-ль-Фараджа ибн Хусейна, которая алчно прельстилась тридцатью динарами Абу-ль-Касима аль-Джухани, оставленными за визит. Так щедрость спасла последнего от острого топора палача.
Но ей не спасти его от ада!
РАССКАЗ БОГА
Мы – Аллах! Мы одни знаем природу вещей и подлинную суть человеков, ибо мир – у Нас на ладони. И вот Мы говорим: не слушайте тех, кто облёк истину ложью, ибо всё предначертано, но как – знаем лишь Мы!
Сын человеческий
– В морг! – распорядился доктор, пряча в халат слуховую трубку. Санитар, позёвывая, убрал с одеяла табличку «Филимон Кончей».
– Так ведь дышит, – потёр он от холода руки.
– Пока довезёте…
Больница при странноприимном доме помещалась в бревенчатой избе, к окнам которой липло серое, хмурое утро. До покойницкой было рукой подать, и Филимон всего полсотни шагов видел над собой круглое лицо санитара с вислыми, качавшимися усами. Однако жизнь, как сонмище ангелов, умещается на кончике иглы. Пока его, завёрнутого в простыню, катили по лужам грязного, запущенного двора, он снова проживал свои детские годы. В пыльном захолустье жевал травинку, болтая ногами на бревне, считал две проезжавшие за день телеги, а потом в десятый раз перечитывал недлинные полки провинциальной библиотеки. Зимой он оставался в читальне, где жгли казённую лучину, подперев щёку ладонью, мечтал о странах, в которых никто не был, и долго смотрел в темноту сквозь засиженное мухами стекло. На беду ему попадались не только русские книги. От евреев он узнал про тайное имя Бога, которое открылось на горе Моисею, от пессимистичного немца – про слепую волю, которая движет миром.
«Бог глух – до Него не достучаться, – ковырял ухо Филимон. – Он всемогущ, но бессознателен».
И боялся собственных мыслей, как мелких тресков, которые издаёт комната по ночам.
Осиротел Филимон рано. «Ты чей, Кончей? – дразнили его дети, вынимая из-за спины камни. – Хочешь кирпичей?» Он смотрел сквозь них ясными, голубыми глазами, прячась в ракушку своих мыслей. Кормил его отчим – угрюмый, молчаливый мужик, едва умевший поставить крестик против имени. «Чай, и родителей не помнит…» – жалели за спиной пасынка. Тогда он опускал плечи и думал о том, что нельзя познать вещь, не видя её рождения, а потому все отцы – чужие. В своей судьбе он усматривал судьбу Вселенной, беспризорной, брошенной на произвол непознанным отцом. Тогда же ему закралась мысль, что Бога нельзя постичь, даже слившись с Ним, как эмбриону не постичь матери, для этого нужно родиться с Ним. Глядя на деревенские будни из крови, пота и слёз, Филимон убеждался: Бог не ведает, что творит. «Он не добрый и не злой, не мстительный и не прощающий, – рассуждал Кончей, – Он алчный и щедрый, жестокий и милосердный, Он всё и ничто». («Он никакое “что”, – вычитал Филимон у древнего ирландца. – Бог не знает о самом себе, что Он есть, так как Он не есть “нечто”»).
Просыпаясь среди бесконечной грызни за кусок хлеба, Филимон отчётливо сознавал, что её не мог выдумать Бог, он всюду находил подтверждение тому, что Бог ещё не проявился, что мир вокруг – только ступенька к Его пришествию.
«Бог существует лишь в потенции, – вывел он на полях “Божественной истории”, залезая буквами на иллюстрации, изображавшие оливковые рощи и седобородых старцев, важно попирающих облака, – а потому подлинная история – это то, что не происходит…»
Церковно-приходская школа насчитывала пять классов, но её редко кто заканчивал. Голодные взрослеют рано, а взрослым не до баловства.
– Бог ущербен, раз Его мир полон изъянов, – раздалось однажды на Законе Божьем. Урок вёл сутулый дьячок с постным, как просфора, лицом. Дьячок проглотил язык. Семинарию он заканчивал при царе горохе и с тех пор мирно дремал под благостный звон деревенского колокола. – Однако Господь ждёт, что Ему откроют глаза! – продолжал Кончей с задней парты. – Надо принести Ему благую весть! Спасти мир – значит спасти Бога, спасти Бога – значит стать Им…
Дьячок развёл руками, но быстро овладел собой. Хитро сощурившись, он привлёк в судьи класс.
– Ну, брат, развёл ты сортирологию, – тряс он бородкой, утопив в хохоте эти сотериологические прозрения.
А дома Филимону задрали штаны.
– Ишь, чего втемяшилось, – краснея от натуги, порол его отчим, сглатывая слюну, – я из тебя дурь-то повыбью…
Внимательнее оказался учитель арифметики.
– Получается, Бог у тебя вроде заколдованной принцессы, – выслушав Филимонову метафизику, заключил он. – Каждого после смерти нетерпеливо спрашивает: «Ну что, принёс разгадку?» А Ему в ответ земные сплетни да всё про науку… – Учитель мотал головой и, вздыхая у доски, механически вытирал рукавом мел. – Как же Ему должна быть мучительна вся наша бесполезная возня! – И обернувшись, ласково теребил ухо: – Ай да Филимон, далеко пойдёшь…
И Кончей, действительно, пошёл далеко. В Сибирь. Как и все, он по команде справлял нужду, скорчившись на холоде, и не мог понять, как оказался на каторге, – рассуждая о тайнах мира, не подозревал о доносе добродушного дьячка. «Язык до Киева доведёт, – приговаривал он, считая этапные вёрсты, – а длинный язык – до Сибири». Однако он и тут не прекратил свои странные речи. «Ну что, Кощей, – скалились на стоянках арестанты, – когда всем кончина?» И Филимон принимал их издевательства за чистую монету и опять начинал с жаром доказывать, что тёмному, безликому Первоначалу, правящему миром, надо стать Богом, чтобы не допустить больше такого нелепого бытия, как в нашей испорченной Вселенной. Первоначало – это несчастный слепец, учил Филимон, калечный гигант, от которого, как птенец, вылущился этот убогий мир. Его здание постоянно перестраивают, как после пожара, но по одному и тому же плану. Его внутренняя сущность неизменна: от Пилата до аэроплана добро, как соль в море, растворено во зле. Вездесущное и суетное, зло – это плата за бытие, чтобы победить зло, надо уничтожить Первоначало, очистить лик Творцу. С этой единственной целью создан мир: когда из его хаоса выйдет Бог – мир исчезнет.
– Первый, кто доберётся до не проявленной сущности, – пророчествовал Филимон, раскинув, как пугало, руки с лохмотьями на костях, – первый, кто прольёт свет, проявив фотографию, тот станет Богом-Отцом… – Выдержав паузу, он задирал кверху палец: – Творение создаст Творца!
Кандальники уже спали. Только кто-нибудь спросонья ворочал языком:
– Эх, Кончей, плеснул бы лучше щей…
Вечность – миг. Когда окончились годы заключения, подоспела война. Ещё вчера тюремный священник причмокивал про любовь к ближнему, а сегодня, ломая, как игрушки, заповеди, из каждого угла шипели: «Убий!» Злая воля стреляла, калечила, скармливала окопным вшам. Филимон был крепким, жилистым, его забрили в солдаты, но, как неблагонадёжного, определили денщиком к молоденькому прапорщику. Вечерами, растапливая на биваке самовар, Филимон и с ним делился своими откровениями.
– «Возлюби Господа всем сердцем твоим»… – пыхтел он, нагоняя жар сапогом. – А что это значит? Зачем Ему любовь? Не любви жаждет Бог, а помощи – сострадай Ему, как самому себе…
– Полагаешь, любовь без дел мертва? – рассеянно переспрашивал прапорщик, играя шашкой. – Уж больно мудро…
Он требовал доказательств – Кончей призывал верить.
– Чем тебе, лучше батюшкам, – раздражённо морщился офицер. – Разницы нет…
А через месяц его убили.
– Лучше от пули-дуры, чем от большого ума, – напутствовал его денщик, опуская в походную могилу с наспех сколоченным крестом.
С тех пор Филимон замкнулся, поняв, что истина, как жизнь – её можно потерять, а передать невозможно. Он, как крот, рыл в одиночку свой подкоп под Вселенную, свою дорогу к не проявленному Богу. Из армии он дезертировал, христарадничал по деревням, и его башмаки топтали мир наперекор обстоятельствам. На просёлочных дорогах его философия сложилась окончательно. Согласно ей больной Бог ждёт мессию, сына человеческого, второе пришествие будет не на землю, а на небо. Филимон призывал, словно в сырую, мрачную пещеру, бросить факел в великую бездну, непрестанно порождающую мир, который дрожит на ней складками одежды. Тогда она сомкнёт пасть, и мир исчезнет. И спасётся. Заскорузлой ладонью с натёртыми посохом мозолями Филимон отводил лживые категории времени и пространства. «Каждый из нас посланец, да только не с тем письмом», – бубнил он под нос, разгоняя стаи галок. Колеся русское бездорожье, Филимон втайне надеялся стать спасителем человечества, живых и мёртвых, тех, кто воскреснут в новом творении прозревшего Бога.
На его безумства смотрели сквозь пальцы. Разве встречные богомольцы били палками и однажды от усердия чуть не отрезали язык. Он воспринимал это как должное: несовершенство мира нельзя ни исправить, ни искупить – его пространство плодит отчаянье, его время умножает скорбь.
У Кончея не нашлось ни учеников, ни апостолов. И в этом он усматривал скрытое подтверждение своей избранности.
«Бог един, но вы разделили Его», – выставляя кривой ноготь, кричал он с порога церквей и мечетей, натыкаясь на колючие взгляды. И носил за пазухой свою истину. В своих скитаниях он находил сходство с метаниями человечества, он верил в бессмертие души, но, подобно индусам, не находил в этом ни радости, ни утешения. За бесконечной круговертью из небытия в бытие для него стояла эманация греха, чудовищная, мрачная ярмарка пороков.
Иногда в церковных ночлежках ему встречались чудаковатые пророки, такие же почерневшие от странствий, как и он, они делили хлеб-соль, а потом спорили до хрипоты и дрались посохами.
– Бог спит и видит нас во сне, – ядовито шептал один, выставляя увечья, – мы – кошмар Бога, Его надо разбудить, тогда он стряхнёт этот мир…
– Вот-вот, – кивал Филимон, – Бог ждёт сына человеческого, ждёт от людей святое писание…
При этом он подозревал, что в священной Книге не будет глав и абзацев, – спящего будит крик.
– Достаточно произнести слово – и Вселенная рассыплется в прах, – пугал он с блаженной улыбкой. – Евангелист ошибся – слово было не в начале, оно будет в конце…
Его кощунства пропускали мимо ушей. А тут ехидничали: «Что же ты не произнесёшь его, коли такой грамотный?» Тогда Филимон умолкал. Он не знал слова. Но был уверен: раз Вселенная повторяет себя в каждой своей части, как змея в каждом кольце, ключ к ней – в каждой душе. И она рухнет, если хотя бы один подойдёт к её глухой двери. Иногда, проснувшись в сарае, куда крестьяне из милости пускали бездомных, он смыкал веки и наугад перебирал слова, вычурно переставляя буквы, надеялся, что после счастливого сочетания мир исчезнет, но, когда открывал глаза, тот стоял необъятный и грозный.
И Филимон в изнеможении валился на солому.
Бродяги долго не живут. На висках едва показалась седина, когда Филимон очутился в больнице при странноприимном доме. Здесь ели чечевицу, выставляли наружу язвы и целыми днями прикидывали, кто кого переживёт. Ухаживал за всеми санитар. «Всяка тварь стонет», – вставлял он к месту, и не к месту, вынося горшки и переворачивая паралитиков. Хорошо, когда умирали днём, а если ночью – труп коченел до рассвета.