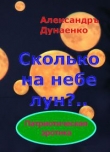Текст книги "Гений вчерашнего дня: Рассказы"
Автор книги: Иван Зорин
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 15 страниц)
История распятого по правую руку
Вначале прошлого века её свидетелем стала моя бабка, родившаяся в медвежьем углу Владимирской губернии. Родители возвращались поздно, и, укладывая меня, она следила, чтобы сны приходили с нужной стороны, а сердце не украли домовые. «Тогда люди становятся жестокими, – говорила она, – и всю жизнь боятся темноты». Бабка была неграмотной и, рассказывая, водила пальцем по Библии, будто читала. Она «окала» на северный лад и беспрестанно поправляла платок, точно слова выбивались оттуда вместе с волосами. Теперь её говор перемешался с моими воспоминаниями, как шёпот воды с ветром, и, опустившись в колодец прожитых лет, стал тем эхом, которое ошибочно называют «своими словами».
Для одних мир распахнут, как окно, для других он – замочная скважина. Для Петьки «Козырька», карманника и щипача, мир с колыбели приоткрылся на два пальца, и в эту узкую щель сыпались, как горох, тусклые будни. Осенью в ней отражался двор, задыхавшийся под шапкой серого, клочковатого неба, а зимой мертвецами из могил вставали сугробы.
Петька был мельче мелкого, к тому же последыш, про таких говорят, что родился в довесок. Его братья казались старше своих лет, а родители младше своих болезней. При этом и те, и другие бросали свой возраст в общую копилку, и семья становилась древней, как разросшийся за околицей дуб. На всех у них была одна крыша, одна печь и один смех. Поэтому если кто-то смеялся, остальные плакали.
А плакать было отчего. Дыры они видели у себя, а деньги у других, и, точно слепцы на верёвке, беспрестанно дёргали друг друга, ощущая свою жизнь, как вставные зубы. По нужде они должны были шастать в ночь, как филины, а прежде чем париться в бане – наломать дров.
Петька оказался смышлёным и рано понял, что живот у одного сводит от смеха, а у другого – от голода. От постоянных дум о куске хлеба голова делалась, как вата.
– А правда, что людей на свете, как листьев в лесу? – спрашивал он, ложась на желудок, чтобы заглушить его звон.
– Да, сегодня четверг, – шипели ему. Не всё ли равно, о чём говорить, когда на уме одно?
Годы просверлили в Петькином мире чёрный ход, но через него пришли только сидевшие на шестах куры, да крикливый петух, которого зарезали за то, что пел раньше срока. Стуча крыльями, он бегал без головы, а его кровь потом долго мерещилась в блёстках на бульоне. Раз Петьку водили к знахарке, она катала яйцо, заговаривая грыжу, и гадала по руке: «Не доверяй мужчине с женскими бёдрами и женщине с глазами, как ночь…» Вернувшись, Петька никак не мог уснуть, ворочался с бока на бок, всматриваясь в ночь с глазами женщины, и видел в её тёмных размывах женские бёдра.
А потом он подрос, став выше табурета, на котором сидел, и шире улыбки, за которой прятал слёзы. Однажды ему надели картуз, всучили вместо портфеля плетёную корзину и утопили в перешедший по наследству сюртук. Из школы Петька вынес, что «обедать» – это существительное, несовместимое с глаголом, а «время» – местоимение, потому что у каждого оно своё. На уроках математики он постиг также, что мир проще таблицы умножения и что «деньги» – это числительное, он считал их в чужих карманах, а галок на плетне – по пальцам.
Восемь дней в неделю Петька ёрзал на стуле, ловил ворон, и его драли, как сидорову козу.
У его учителя лицо было таким узким, что с него постоянно сваливались очки и казалось, он может хлопать себя ушами по щекам. Он носил низкую чёлку, за которой прятался, как за дверью, и не ходил в лес, опасаясь наступить на ежа. Опускаясь на стул, он прежде шарил по нему руками, отыскивая кнопки и проверяя спинку. Когда Петька подложил ему очки, которые выкрал с носа, учитель побледнел, решив, что хрустнул позвоночник, а потом расстегнул верхнюю пуговицу, чтобы выпустить пар.
– Кто эта паршивая овца! – наткнувшись на молчание, как на штыки, заревел он. – Кто эта ложка дёгтя!..
Петьку будто окунули в погреб, со дна которого небо казалось с овчинку. В дверь уже просунулась лошадиная морда воспитателя, от которого за версту несло чесноком и розгами. На войне он потерял ногу, и в спину его дразнили «культёй». Он жил бобылём, потихоньку спивался и, вымещая обиду на паркете, стучал в коридоре протезом.
– Кто напакостил? – в последний раз спросил учитель. – Повинную голову и меч не сечёт…
Он вёл грамматику и Закон Божий и любил поговорки не меньше чужого раскаянья. Но все молчали. Даже инвалид усмехнулся, ведь на признание ловят, как на блесну. И вдруг на её пустой свет клюнул Иегудиил, с которым Петька сидел за партой. Они были одногодки, но Иегудиил успел вытянуться, как осока, и погрустнеть, как река. Он был, как плакучая ива, про таких говорят: однажды не смог понять, что проснулся, и с тех пор живёт во сне. «Дурак!» – дёрнул его за штаны Петька. Учитель завернул лицо в ладонь, как в носовой платок, сквозь который змеилась улыбка. «А ты, почему не донёс? – близоруко щурясь, скомкал он Петькино ухо. – Я из вас сделаю граждан!»
Их заперли в сарай длиной не больше семи локтей, в котором мир представлялся таинственным, как темнота, которую носят в кармане. Они вышли оттуда, спотыкаясь о собственную тень, и долго стояли под яблоней, подбирая падалицу и поддавая огрызки босыми ногами.
И стали свободными, как стрелка в сломавшихся часах.
Поначалу Петька ещё выдёргивал перо из шипевшего гуся, садился в поле и под стрёкот кузнечиков представлял, как его будут пороть. Но когда это случилось, всё пошло своим чередом: мыши по-прежнему проедали дырки в карманах, а жизнь текла ветерком по ржи.
И всё встало на места: хромой воспитатель, сосчитав однажды глотками бутылку водки, разбил её о плетень и вскрыл себе вены, родители не пережили своих болезней, братья разбрелись куда попало, а Петька стал промышлять на ярмарках и нахальничать в кабаках. Заломив картуз, он ходил по базару, затыкая за пояс мужиков, и лез бабам под фартук. Для вида он бойко торговался, вытаскивая гроши, которые берегли, как зубы. Случалось, ему фартило, и деньги, как мыши, сновали тогда по его карманам. Он спускал их тут же, не успев распробовать вкуса, просыпаясь в постелях женщин, имён которых не знал. Накануне он представлялся им купцом, клял их убогую жизнь и обещал, что утром увезёт за тридевять земель. Женщины всплескивали руками, прикрыв рот ладошкой, ахали, а когда он засыпал, плакали.
В Бога Петька не верил. «Устроилось как-то само…» – думал он, глядя на бегущие по небу облака и шумевший под ними лес. И жил, как зверёк, в этом лесу.
Бывало, он засыпал богачом, а просыпался нищим. Но, засыпая нищим, всегда видел себя богачом. «Да у меня сам квартальный брал под козырёк!» – бахвалился он во сне и слышал, как кто-то невидимый рассыпался тогда смехом: «Эх, козырёк, козырёк…»
В городе Петька ходил в синематограф смотреть комика, который уже давно умер, но, беседуя с Богом, продолжал кривляться на экране. «Чудно…» – чесал затылок Петька и опять вспоминал, что время у каждого своё. Теперь он думал руками, а ел головой. И всё чаще видел во сне мужчину с женскими бёдрами и женщину с глазами, как ночь.
А потом пришёл суд, плети и каторга с одним на всех сроком, одной ложкой и одними слезами. Петька вышел оттуда седым, как расчёска, набитая перхотью, и принялся за старое.
В отличие от Петьки, овладевшего единственным ремеслом, Иегудиил стал мастером на все руки. В драной, пыльной рясе он ходил по деревне, совмещая должности звонаря, пономаря и богомаза. В народе Иегудиил считался малость не в себе. «Вот стрела, – бывало, учил он, сидя на бревне и чертя в пыли веткой, – тетива забывает о ней, и она свистит, пока не застрянет, как крючок в рыбе, или не потонет, как месяц в туче. Так и слово… Слова, как птицы, – рождаются в гнёздах, живут в полёте, а умирают в силках…» Он изощрялся в метафорах, подбирая сравнения в деревенской грязи, а заканчивал всегда одинаково: «Слово, как лист, гниёт на земле и сохнет на ветке, а живо, пока летит…» Он мог распинаться часами, но слушали его только бредущие с пастбища козы, да деревенский дурачок с тонкими, как нитка, губами.
Навещал он и учителя, тот постарел и лежал теперь, разбитый параличом, шевеля глазами, как собака. «События тусклы, как лампада, – говорил ему Иегудиил, – это люди возвышают их до символа. И тогда их слава, как тень на закате, оборачивает землю, зажимая её, точно ребенок, в свой маленький, но цепкий кулак…»
Пробовал философствовать и Петька. Раз на голой, как палка, дороге, когда этап отдыхал после дневного перехода, он встретил бродягу, сновавшего между деревнями за милостыней. Повесив на клюку котомку, нищий опустился рядом с Петькой. Он поделился с ним хлебными крошками, а Петька – солью, которая была их крупнее. Еду жевали вместе с мыслями. «Вот галка летит, попробуй, приземли её… – чесал до плеши затылок Петька. – Мир сам по себе, а человек – сам…» В ответ бродяга кинул клюку и перешиб птице крыло. С тех пор Петька понял, что его речи скликают неудачи, а счастье убегает от них, как от бубенцов прокажённого.
Встретились они всего раз. Стояла осень, ржавчина крыла деревья, но в погожие дни солнце ещё съедало тени. Петька, куражась, привёз из города гармониста, который знал все песни наперечёт, и, запуская глаза в стакан, третий день горланил на завалинке. «Эй, святоша!» – обнимая бутылку, окрикнул он Иегудиила, проходившего за оградой, и, хлопнув калиткой, полез целоваться. Ему хотелось рассказать, что в Сибири, далёкой и холодной, как луна, слёз не хватает, как денег, и там, если кто-то плачет, то остальные смеются, хотелось пожаловаться на судьбу, горькую, как водка, и, быть может, найти утешение в прошлом, когда они стояли под яблоней, рвали дичку и видели перед собой длинную-предлинную дорогу.
Но вместо этого подковырнул: «Значит, ждёшь воздаяния?»
В церковь Петька давно не ходил, а из Закона Божьего усвоил только, что в пятницу нельзя смеяться, чтобы в воскресенье не плакать, и что Предтечу зарезали, как петуха, кукарекавшего раньше рассвета. Но над Страшным Судом смеялся: чай, не хуже Сибири. В глубине он был уверен, что мир встречает, как сиротский дом, ведёт через дом казённый, а провожает богадельней.
Не получив отпора, Петька озлобился.
– Уж лучше синица в руке… – подняв бутылку к бровям, икнул он.
– С синицей в руке не поймать журавля в небе…
А потом, старой телегой, загромыхала гражданская война, и в деревню пришли враги. Они так долго воевали, что уже и сами не знали, «красные» они или «белые», посерев от пыли трущихся об их шинели дорог. Вначале они расстреливали и рубили, а потом, жалея патроны и затупив сабли, стали отводить на лесопилку и давить досками. Их начальник, с усами, как крылья летучей мыши, и взглядом, как клинок, выбрал для постоя самый худой, покосившийся дом и судил, сидя на перевёрнутой просоленной бочке, словно говоря: «Не ждите от меня доброты, всё вокруг и так валится…» В молодости он был актёром, и одно время его имя гремело, пока не затерялось эхом в горах, оставив на душе разочарование и безмерную усталость. С тех пор, забыв настоящее, он носил своё театральное имя и пачкал его кровью, как мясник фартук. Пафнутий Филат был старше своих подчинённых вместе взятых, по утрам у него хрустели суставы, а от сырости ломило кости.
И он был привязан к своему времени, как стрелка в часах.
Чистили всех, и всех – под одну гребёнку. На допросе Петька косился на колени с повёрнутым в его сторону наганом. Играя желваками, Филат крутанул барабан. «Бывает, и палка выстрелит», – мелко перекрестился Петька. Пламя над свечой заплеталось в косичку, по углам плясали тени, и казалось, что в их паутине развалился чёрт. Перевернув револьвер курком вниз, Филат почесал рукояткой подбородок. «А когда ты коней в эскадроне воровал, не боялся?» Земля ушла из-под Петькиных ног, защищаясь, он вскинул руки. «Врёшь, – пригладил слюной брови Филат. – Ты их ещё, как цыган, надувал через камыш…» В сенях кособочилось зеркало, и, мелькнув в нём, Петька вдруг заметил у себя женские бёдра, а у своей смерти – глаза, как ночь.
А потом вернулось детство: его заперли в тот же сарай, сквозь брёвна которого мир представлялся таинственным и жутким. Он вытянул руку, и она утонула в темноте. А вместе с ней стал проваливаться и Петька. В углу ворочалась тишина, которую он не слышал, ему хотелось кричать от ужаса, покрывшись гусиной кожей, он часто дышал, и слюна сквозь щербатые зубы липла к стене.
А на утро пришёл черед Иегудиила. Филат горбился над умывальником, фыркая, как кот.
– Так это ты называл мои прокламации мертвечиной?
Иегудиил растерялся:
– Буквы, как телега, что положить, то и несут…
Он прятался за слова, но жить ему оставалось пол абзаца.
Привели свидетелей, и Филат поднял на них глаза с красной паутиной.
– Он, он! – запричитал юродивый, окончательно съевший свои губы, и вытянул мизинец: – говорил, слово живо, пока летит…
Филат побагровел и, смывая пятна, плеснул воды, которая вернулась в раковину красной. «Эх, Расея… – зажмурился он. – На твою долю выпало столько боли, что рай должен стать русскоязычным…»
«И ад тоже…» – хмыкнул кто-то внутри.
Кровать была низкой, и учитель прятался в подушки, выставляя наружу рачьи глаза.
– Правда, что этот, – Филат ткнул пальцем в Иегудиила, – смущал твоих учеников?
Люди грозно обступали, и учителю показалось, что его вот-вот пнут сапогом. Он растерянно заморгал.
– А правда, что, пользуясь беспомощностью, он говорил тебе мерзости?
Выждав, пока пропоёт петух, учитель снова подтвердил.
– Есаул! – крикнул Филат голосом, от которого лопало небо.
– Я здесь, ваше благородие! – подскочил человек с подбородком, раздвоенным, как копыто. – Прикажете на лесопилку?
Филат поморщился.
– И этого… – щёлкнул он пальцами в сторону учителя.
Иногда бабка рассказывала по-другому. Будто бы никаких свидетелей не было, а Иегудиил горбился на колченогом стуле в пустой, как ладонь, комнате, и вокруг него расхаживал Филат.
– Истина… – ощупывая бородавку, усмехнулся он. – Поди, прикнопь солнечный зайчик…
И его глаза сверкнули безумием. Он резко взмахнул пятернёй и схватил скакавшего по воздуху комара.
– Чем звенит? – зажав в кулаке, поднёс к уху Иегудиила.
Тот смутился.
– Кровью… – отвернувшись к окну, прошептал Филат. – Жизнь не знает иной отгадки, а смерть молчит…
И сделал жест, которым отправлял в райские сады.
А может, было и так. Филат сидел на стуле, наматывая на ус проповедь Иегудиила.
– Мы пришли из света и уйдём в свет, – закончил тот тихо и торжественно, – а на земле нас испытывают в любви…
Филат вздохнул.
– Твои слова, как бараний тулуп, – греют, но мешают рукам… Как же тогда убивать? – Он пристально посмотрел на Иегудиила. – А помиловать не могу… Пойми, у вечности нет щёк – ни правой, ни левой… – Он упёр ноги в пол и, раскачивая стул, добавил: – Люди не знают ни любви, ни ненависти, а одну только скуку…
Покатую крышу долбил дождь. Слушая его дробь, они молчали об одном и том же, и, как и всем перед смертью, им казалось, что они не повзрослели. Перед казнью в сарай зашёл Филат, из-за плеч которого выглядывала смерть.
– Через день Пасха… – сказал он, опустившись на пол и закрутив пистолет. – На ком меньше грехов – отпущу…
Дуло упёрлось в учителя. Филат нахмурился, передёрнул ствол и с капризным упрямством закрутил снова.
И опять взял на мушку кровать.
А Петька дрожал, как осиновый лист, и эту дрожь понёс на лесопилку. Пока они шли, ветер лез им за воротник, а дождь плевал в лицо. Вокруг грудились деревенские, радовавшиеся, что ещё поживут, что их срок оплатили чужие смерти, и от этого их глаза делались, как у кроликов, а лица – страшнее их самих. Дорогой Петька проклинал белый свет, который встретил его, как сироту, а провожал, как бродягу. «Вот и всё», – думал он, и перед ним промелькнула вся его жизнь, которая, уткнувшись в дощатый забор, остановилась у ворот лесопилки. «Из пустоты в пустоту…» – кричал ветер; «Из немоты в немоту», – стучал дождь; а из ночи глядели мутные глаза Филата.
И Петьке передалось их безразличие, его больше не колотил озноб. «Каждый привязан к своему времени, – смирился он, – а моё – вышло…» Пахло опилками, и он равнодушно смотрел на валившиеся крестом доски, которые всё прибывали и прибывали…
– Ошибаешься, – донёсся сквозь шум голос Иегудиила, – скоро мы опять будем собирать яблоки, только в них не будет косточек…
Случается, и сломанные часы показывают правильное время, бывает, и устами заблудших глаголет истина, а за одну мысль прощается семь смертных грехов. Петька уже покрылся занозами, как дикобраз. «А вдруг, – корчась от боли, подумал он, – вдруг он прав…»
И тут, у стены смерти, его мир распахнулся, как окно.
Любовь на иврите
Одно из моих воспоминаний – сон. Поднимая вуаль, я ем пресную мацу, которую отец принёс из синагоги. На дворе – пурим, когда напиваются так, что не отличают перса от иудея, и отец плеснул нам, детям, красного вина. Весна пришла рано, цвёл миндаль, и в местечке сушили бельё, развесив на верёвках поперёк улицы. Отцовский пиджак на ветру бьёт в стекло, мать на кухне ощипывает курицу, а в углу под часами с кукушкой дед читает «Шма, Исраэль!».
– У тебя глаза, как мысли раввина, глубокие и загадочные, – говорит мальчик напротив, – а твоя вуаль – как молитвенное покрывало… Подаришь мне сердце?
– Бери, их у меня много, – смеюсь я.
И тут открываю глаза – точно вуаль снимаю. Наяву – праздник пурим, за окном – весна, на тарелках – маца, а мальчик напротив сравнивает мою вуаль с молитвенным покрывалом. От ужаса я снова зажмуриваюсь и вижу, как во сне соглашаюсь отдать ему сердце. Пробуждаюсь, а напротив – мальчик из сна. Так я понимаю, что сны не отличаются от яви, а время от вечности, которая обвивает, как судьба.
– Случившееся раз бывает и всегда, – шепчу я.
И тут просыпаюсь окончательно. В бок мне упирается «История гетто», которую читала накануне, а под моими растрёпанными волосами на подушке спит юноша, который просил у меня сердце. Его зовут Аарон Цлаф, он был моим одноклассником, и мы ещё в школе договорились, что поженимся. В университетском общежитии нам отвели комнату без замка, и ночью, пугаясь сквозняков больше, чем воров, мы приставляли к двери шкаф. Занавесок не было, и уличный фонарь, свисая к кровати, заменял настольную лампу, когда нам взбредало заниматься не только любовью. Утром я пудрила синевшие на шее поцелуи, а Цлаф, пряча мои укусы, наглухо застёгивался, поднимая воротничок. Пьяные от бессонницы, жуя на ходу бутерброды, мы шли на лекции, которые не понимали по-разному.
– Какой дурак! – думал о себе Аарон, если лекция была ему не по зубам.
– Какой дурак, всё усложняет! – думала я о лекторе.
Так продолжалось до курса Соломона Давидовича, который был до простоты мудр и видел вещи в их неприкрытой наготе. Слова он подбирал с неторопливой осторожностью, будто брился, а точку ставил, словно муху прихлопывал. Я понимала его ещё до того, как он открывал рот, запоминала лекцию наизусть, чтобы вечером продиктовать Аарону, который не понимал её, даже записывая. Потому что от ревности делаются глупыми, как болотная цапля. А я действительно влюбилась так, что у меня слезились глаза и чесался нос, а слова застревали в гортани, прилипая к нёбу.
– Настоящая любовь нема, – думала я, – она безгласна, как алфавит нашего языка.
Собрав вещи, я ушла от Аарона, потому что постель без любви – всё равно, что синагога без Торы.
В коридоре было долгое эхо.
– У тебя, и правда, много сердец, – слышала я, спускаясь по лестнице, – и все каменные…
Соломон был старше моего отца, но меня это не смущало. «Время для полов течёт по-разному, – говорила мать, фаршируя рыбу, – женский век короток, но дольше мужского…» А отец, расстегнув пиджак и оттягивая большим пальцем подтяжки на брюках, лихо отплясывал на свадьбах и, поздравляя молодых, мысленно примерял роль жениха.
Жена Соломона брила голову и носила парик, как предписывает вера. Но все знали, что у неё редкие, некрасивые волосы. Зато под её тенью плавился асфальт, а от изображений трескались зеркала. Такие дерутся за своё счастье, не понимая, что силой можно добиться всего, кроме любви. Связать с кем-то судьбу – значит для них своровать чужую, подменив её своей. Они не хотят меняться судьбами с кем попало, долго выбирают, а в конце остаются одни. В постели они бывают сами по себе, делая мужчин одинокими. Рядом с ними чувствуешь себя так, будто ешь в субботу некошерное, и они заставляют думать, что все женщины одинаковы.
А Соломон был большим ребёнком, ходил в мятых брюках и обедал в студенческой столовой.
– Шолом, – подсела я, составляя посуду с подноса. – Можно сдать вам экзамен?
Он поднял глаза.
– Ваше имя?
– Суламифь…
Была суббота, цвели каштаны, мы гуляли по бульварам, и вместо экзамена я рассказывала про южный городок, в котором родилась, про талмудистов в долгополых кафтанах и шляпах с висящими по бокам пейсами, про деда, который был кучером, носил пышную бороду, чёрный лапсердак, употреблял вместо немецкого идиш, вместо испанского – ладино, а по-русски говорил с местечковым акцентом. Все три языка дед считал родными, перепрыгивал с одного на другой, как воробей по веткам. Он верил, что сефарды расселились из гетто, а мы, ашкенази, произошли от тринадцатого колена Израилева, которое было утеряно, – от хазар. На своей двуколке дед носился по всему городу, а его нос, рассекая воздух, напоминал извозчика, дремлющего на козлах. Случалось ему подвозить и к церкви. И тогда на него косились.
– Что, стыдно верить с нами в одного Бога? – поглаживал бороду дед, пока с ним расплачивались. – Верить в одного Бога – всё равно, что есть с одной ложки…
И поспешно стегал лошадь.
– Береги пейсы, жидовин, – кричали ему вслед.
Умер дед вместе со своей профессией, когда дороги оседлали авто, а лихачей сменили шофёры. Его эпитафия может служить каждому еврею:
Искал Б-га.
С властями не дружил.
День пролетел, как бабочка, а когда опустился вечер, мы постучались в гостиницу. В номере не было занавесок, и уличный фонарь, свисая к кровати, заменял лампу. Наши тела сомкнулись, как ладони при пожатии, и Соломон убедился, что не все женщины одинаковы.
А утром явилась его жена. Горячилась так, что парик покрылся потом, стыдила, будто поливала чесночным соусом, вспоминая о грехе.
– Грех – оборотная сторона добродетели, – огрызнулась я, – нет греха – нет и добродетели!
Она хлопнула дверью. А я вспомнила мать, говорившую, что холодная женщина становится ведьмой. Вместо мужского «жезла» она использует метлу – летая на ней, получает удовольствие, которого не может достичь иначе. А ещё я подумала, что люди всё подменяют: вместо совести у них закон, вместо исповеди – анкета, а любовь они выселили за черту оседлости. И потому их дни, как зёрна, которые клюет курица, а ночи, как разорванный в клочья пиратский флаг.
Университет я оставила с ощущением, что знаю меньше, чем при поступлении, и из столицы, где ходят узкими муравьиными тропами, убежала с Соломоном на край света, где мир лежит в первозданной чистоте. В соснах там шумел ветер, и море билось о скалы, как песнь песней. О, возлюбленная моя, зубы твои, как стадо овец, сгрудившихся у водопоя! Мы жили в домике с саманными стенами, крышей из пальмовых листьев и окном с обращённым внутрь зеркалом вместо стекла. Мы ели дикий мёд с орехами, и в саду у нас, как в раю, росли яблони. Днём, когда в сухих водорослях на берегу мы собирали устриц, нас оглушали крики чаек. Вытащив из воды рыбу, они выпускали её из когтей, чтобы подхватить на лету клювом.
– Так добыча для них превращается в птицу, – щурился Соломон.
– В отличие от других еврей страдает не страхом кастрации, но – ужасом бесконечного обрезания…
Соломон улыбнулся.
– На всё есть тысяча объяснений, и все правильные. Хотя верного – ни одного. Поэтому важнее не отыскать правду, а убедить в ней других…
Так я поняла, что люблю его даже тогда, когда ненавижу.
В нашем царстве мы кормили друг друга яблоками, и были мудры, как змеи. Ночью к нам спускались ангелы, а на рассвете пастухи, как волхвы, приносили козье молоко. Целый день мы бродили, прикрываясь ладонью от солнца, а вечером поднимались в горы, в увитую плющом беседку, слушать тишину, как раньше на концертах – музыку. Молчание вдвоём отличается от молчания зала, а отсутствие звуков – от космического безмолвия. Тишина зависит от того, есть ли поблизости спящий, тикают ли часы, бывает, от неё глохнут, ведь она звенит так, что закладывает уши. В беседке наши мысли, как влюблённые, встречались со словами и, умирая, рождали особую тишину, которую, как льдинку, можно сломать даже шёпотом.
Иногда мне делалось грустно.
– Быть может, мы встретимся в какой-нибудь другой жизни? – глядела я на тёмное, синевшее море, в котором тонули звёзды.
– Это также невероятно, как то, что мы встретились в этой, – обнимал меня Соломон.
Так мы прожили три года – три дня, три тысячелетия. И всё это время я чувствовала себя аистом, который, расправив крылья, стоит над гнездом. Мы были двуногим, составленным из двух хромых, так что, когда Соломон, схватившись за сердце, упал на свою тень, я схоронила половину себя и с тех пор хромаю. После смерти Соломона целый месяц по крыше долбил дождь, пальмовые листья, набрав воды, прогнулись, и мне казалось, что с потолка вот-вот хлынут потоки, что я переживаю вселенский потоп, что воды объяли меня до души моей. Я скулила от тоски, напоминая суку, у которой утопили щенков и которая сосёт своё бесполезное молоко.
В домике, разрушенном, как Иерусалимский Храм, с опустевшим ковчегом и потухшим жертвенником я провела ещё год, наблюдая в зеркале, как дурнею. «Ночи мои пусты, как горсть нищего, – целовала я могильный камень, ставший для меня Стеной Плача, – а дни валятся, как мёртвые птицы…» Смешивая слёзы с горьким, скрипучим песком, я хотела согреть Соломона под холодной плитой, но однажды нацарапала морской ракушкой:
Время лечит.
Убивая наши чувства и мечты.
И вернулась к Цлафу.
У меня трое детей, а имена внуков я забываю. Сколько мне? Девочки возраст завышают, девушки занижают, женщины его скрывают, а старухи путают. Казалось, ещё вчера я верила в Деда Мороза, а теперь вспоминаю мать, предупреждавшую: «Наступит время, когда вдруг понимаешь – впереди ничего нет. И позади тоже…» Когда-то мои глаза были широко открыты, будто видели чудесный сон, а теперь они открываются от темноты к темноте, будто просыпаюсь ночью, будто под вдовьей вуалью…
Аарон – хороший семьянин, но плохой любовник. «Любовь с утра, как стакан водки, – смеётся он, – весь день насмарку». И много работает. Университет мы закончили одновременно, а уже через год Цлаф стал профессором. «Не стоит тратить время на поиск истины, – отмахивается он, когда к нему пристают с вопросами, – ибо истина, как компьютерная программа, не может дать больше того, что в неё вложишь». А моя истина заключается в том, что я никогда не любила Цлафа и никогда от него не уходила. Жизнь шифрует свои тайны не хуже каббалистов, и я часто думаю, как бы она повернулась, если бы в субботу, когда цвели каштаны, разговор с Соломоном не ограничился экзаменом?
– Бабушка, расскажи сказку, – укладываясь в постель, просит меня внучка.
Её зовут Суламифь, она видит мир в первозданной чистоте, и рядом с ней я становлюсь юной.
– Жизнь без любви, как плен вавилонский… – разглаживая ей кудри, мечтаю я, рассказывая историю про Соломона.