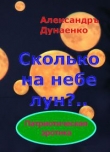Текст книги "Гений вчерашнего дня: Рассказы"
Автор книги: Иван Зорин
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 15 страниц)
Иван Зорин
Гений вчерашнего дня
Рассказы

Спасибо, что вы выбрали сайт ThankYou.ru для загрузки лицензионного контента. Спасибо, что вы используете наш способ поддержки людей, которые вас вдохновляют. Не забывайте: чем чаще вы нажимаете кнопку «Спасибо», тем больше прекрасных произведений появляется на свет!
Предисловие
Один из героев этой книги, перефразируя Евангелие, говорил, что в одиночестве – нет правды, а где двое – там, третьей, истина. И хотя его слова кроме предисловия не нашли отражения в книге, он стал её крёстным отцом.
Я писал эти рассказы в Москве, в четырёх стенах, из которых каждый день выбирал себе нового собеседника. Мой стол уже пух от бумаги, когда однажды, открыв его, чтобы втиснуть очередную пачку, я наткнулся на эти слова. Мнение автора за– частую расходится с мнением персонажей, но тут они совпали. И я, собрав разрозненные страницы в книгу, решил разослать по свету тысячу – таков её тираж – приглашений к диалогу.
Аватара клоуна
О том, что проповедует буддизм, Кирилл Нитудыхата едва ли догадывался. «Смысл жизни не в том, чтобы искать в жизни смысл, – балагурил он, – смысл жизни в том, что в ней нет никакого смысла…» За окном умирал шестнадцатый век, и за такие речи выбирали костёр или виселицу. Но Кириллу сходило с рук. «Чего взять с шута…» – усмехались вокруг, шёпотом повторяя его остроты.
Кирилл был карлом – сгорблен, рыжеволос, от земли семи вершков, его тень была всегда у него под руками, и он ловил её, присев на корточки, протянув близко растопыренные пальцы. Зато всё остальное делал далеко – плевал, мочился и спускал семя. К тому же был силён – мог на свой рост поднять корову и на четвереньках догнать зайца. Завидев издали его нечёсаные волосы, женщины крестили разинутые рты, и в базарный день он, как прокажённый, отпугивал за версту колокольцами, пришитыми к высокому малиновому колпаку.
Его это не смущало.
«Мне легче сломать хребет, чем характер», – болтая в реке ногами, бахвалился он перед своим отражением.
Раз из реки показался утопленник. Он был чёрен лицом и в зубах держал камышину. «Чтобы под водой дышать», – догадался Кирилл.
– Я – Макар Трупка, – представился покойник, сгребая со лба зелёные водоросли. – Я родился за век до тебя, умер за полстолетия, а переживу на годы…
«Как это?» – подумал Кирилл. И затрещал, как сорока:
– Будут времена, когда не будет времени, и будет время, когда скажешь: «Были времена…» Но Макар пропустил мимо ушей.
– А так, – прочитал он Кирилловы мысли. – Дожил я до старости и однажды почувствовал невыносимую вонь. Целый день я принюхивался к вещам и людям, гадая, откуда идёт этот страшный запах? А к вечеру, затворившись в своём углу, понял – несёт от меня! Так пахнет скопившаяся внутри мерзость… – С усов у Макара капало. – А поскреби любого, – стряхнул он капли, – в нём столько же грязи, только и остаётся выплёскивать её наружу, делая мир вокруг ещё пакостнее…
– А церковь? – перебил Кирилл. – Есть же искупление…
– Говорю же, стар стал, а какой старик верит в искупление? Нет, мир можно спасти, только уничтожив своё зловонное «я»! «И Господь принёс Себя в жертву…» – думал я, стоя у Распятия. Правда, в Бога я не верил, и от этого мой подвиг казался мне ещё возвышеннее. И вот однажды собрался я с духом и кинулся в омут. Думал, освобожу мир, а родился водяным дедом, грешу теперь с русалками, и моя прежняя жизнь представляется мне святой…
Макар почесал затылок, пристально взглянув на Кирилла.
– Так что ты не торопись… – ворочал он распухшим языком. И вдруг расхохотался: – Впрочем, тебе это не грозит, ты со страху ещё не раз в штаны наложишь!
Кирилл ударил по воде ногой. Поднимая со дна пузыри, утопленник исчез, а из реки по-прежнему глядело отражение с камышиной во рту. «Нет ни добра, ни зла, – выплюнул её Кирилл, задрав голову к бескрайнему небу. – Чёрные тучи и белые облака одинаково скрывают солнце, освещающее пустоту…»
Родом Кирилл был с Украины, и фамилией его наградил вислоусый нелюдимый казак, построивший дом крыльцом к Днепру, а к деревне задом. Казака сторонились, а когда, умерев родами, жена оставила ему увечного сына, качали головами: «У тебя всё не туды…» «А у кого туды?» – огрызался он. Но дома срывал злость на Кирилле. Будто исправляя осанку, укладывал его горбом на жёсткий пол или вытаскивал за ухо на улицу. С годами, однако, отец успокоился. «Слава Богу, подслеповат стал – не вижу твоего уродства!» – крестился он вместо иконы на притихшего в темноте сына. А когда Кирилл подрос, отрядил его в скоморохи. «Знать, на роду тебе написано быть посмешищем», – перекрестил он его на дорогу котомкой с солёными сухарями.
«На свете все посмешища», – подумал за околицей Кирилл, вешая котомку на плетень.
И пошёл по хуторам смешить народ. Он стучал в бубен, ходил «колесом» или, надувшись, как бочка, изображал обожравшуюся комарами жабу. Его голос разносился далеко по округе, когда он скакал на палке, хлопая себя по пустому карману: «Одни звенят деньгами, другие – мудями!» Иногда его угощали похлёбкой, но чаще – камнями. «В рыжих гнездятся бесы, – ворчали хуторяне, – они могут засмешить до смерти, напустить щекотку и устроить выкидыш».
И только мальчишки, держась за животы, провожали его далеко за деревню.
Мочился Кирилл у обочины, летом, чтобы не прохудились лапти, которые носил за поясом, ходил босым, а зимовал в монастырских богадельнях. Там он целыми днями надувал пузыри из слюней и хохотал, как ветер на пепелище.
Такие дышат не свободой, а пустотой.
Но когда он снова заглянул в хату, построенную задом наперёд, ему стало не до смеха. Отец встретил его на пороге, привычно взявшись за плеть. «Как страшно видеть на ладони зубы своего отца», – повторял на обратной дороге Кирилл, собирая в горсть пальцы. Он то и дело поправлял на плече котомку, и его губы дрожали. Так он убедился, что родная кровь льётся также легко, как и чужая, что на свете нет ни отцов, ни сыновей.
Князь Анджей Радзивилл ездил быстро, запрягая в карету породистых рысаков. «Чтобы соседи от зависти пухли!» – любил повторять он, крутя пышный ус. Под соседями он имел в виду королей, ближе никого не было – вся земля, сколько хватало глазу, принадлежала Радзивиллу. Раз волки гнали по лесу зайца, и тот, выскочив на дорогу, бросился под лошадиные копыта. Напрасно, отворив дверцу экипажа, кричал князь, напрасно вертелся на козлах испуганный кучер, бросив бесполезные поводья. Лошади летели в облаках пыли, а впереди уже маячил обрыв. И вдруг кто-то – человек ли, собака? – скользя животом по дороге, догнал экипаж и, вцепившись в уздцы, повис на них, как мельничный жернов.
С тех пор князь неотлучно держал спасителя при себе.
«Куда Кирилл, туда и Радзивилл…» – шептались за их спинами, провожая недобрыми, завистливыми взглядами.
Стояла глубокая осень, с утра по стёклам липли замёрзшие мухи, а из щелей тянуло холодом. Князь Анджей ворочался в постели, обернув голову одеялом.
– Нагрей, – указал он подбородком на золочёный камзол.
Кирилл лёг на него животом и, засунув ладони в расшитые бархатом рукава, тихо завыл.
– Не надо мной ли скулишь? – расхохотался князь.
– Помилуй, всего лишь над Создателем…
– А Он-то чем заслужил?
– Да тем, что, сотворив мир для человека, уподобился твоему портному – тот тоже кроил для князя и не подозревал, что на его одеждах развалится урод… «Чего ещё ждать от обезьяны?» – подумал Радзивилл.
Но вслух пригрозил:
– Ох, отрежут тебе язык! Хочешь, зажарим его на завтрак?
– Только вместе с мозгами – без них он не так остёр…
Время в замке тянулось, изрешечённое обедами, отодвигавшими другие события на задворки: желудок не ум – своего требует и всё переварит. Перед обедом, развалившись на оттоманке, Радзивилл выкуривал трубку.
– Нас готовят к миру, слаженному, как часы, – утопая в табачном дыму, вспоминал он академию в Кракове, – а жить приходится на горе, где рак свистнет.
– Учись, не учись, – чесал подбородок Кирилл, – а нельзя знать больше, чем есть. Вот и вся правда…
– Есть, и правда, надо больше! – по-своему понимал князь.
И хлопал в ладоши, чтобы несли кушанья.
Обедал Радзивилл с женой. Пани Ядвига была так красива, что мужчины, глядя на неё, проглатывали языки, а женщины забывали, к какому полу принадлежат. Княгиня руководила переменой блюд и чаще разбивала сердца, чем тарелки.
– Правда, Кирилл, красота для женщины не главное? – надувала она губы, вертясь перед зеркалом.
– Красивые женщины радуют мужской глаз, некрасивые – женский, – скалился Кирилл, выкатывая налитые кровью глаза.
И втайне сох по княгине.
За обедом играли музыку, дворовые девки водили хоровод, а гости звякали ложками.
– Вон в Италии моду взяли человека возвеличивать, – уминал борщ с клёцками проезжий помещик, торопившийся по делам, но торчавший в замке уже неделю. – А что толку? Как был Панас – дурак, так и останется. Привязать к бревну, да выпороть!
– Это легче лёгкого, – подливал «венгерского» радушный хозяин. – А ты смени гнев на милость, подбери к нему ключик.
– Да к Панасу никакая отмычка не подойдёт, – плевал захмелевший помещик, грозя поднятой ложкой. – У него вместо сердца глухая стена, камень без скважины…
Однако Радзивилл подражал итальянцам: разбивал сады, заказывал нагих богов из бронзы, а из столицы пригласил старенького, глуховатого учителя. Но холопы только чесали затылки, и единственным учеником у пропахшего чесноком учителя стал Кирилл. Он складывал буквы псалтыри, вечерами, при тонкой, чадившей лучине, водил корявым пальцем по засаленным листам.
– Отец главнее Сына, – ошарашил он как-то учителя.
– Это почему? – покосился тот на дверь.
– У отца может быть много сыновей, а отец у сына только один. Вот и получилось, что Отец заварил кашу – Сыну расхлёбывать…
Учитель покрутил у виска:
– Да у тебя всё ли в порядке с головой?
– С головой всё в порядке только у памятника, – кивнул Кирилл на бронзовые статуи в саду. – И то вон птицы нагадили…
Учитель приставил к уху растопыренную ладонь. И Кирилл понял, что он притворяется.
«Человеку от грамоты никакой пользы», – затворил он дверь. И ошибся – ему вслед полетел донос.
– Значит, Отец Небесный заварил кашу, а нам расхлёбывать? – комкал бумагу Радзивилл. И со смехом разорвал. – Ох, отрежут тебе язык, ох, отрежут!
Князь был молод, хорош собой, и ему хотелось заслужить доброе имя. Он охотно давал взаймы, часто прощая должников, и половина деревни были его крестники.
Однако чем лучше он относился к крестьянам, тем больше у него воровали.
– Эх, Кирилл, – вздыхал он, выгибая ладони, так что пальцы хрустели под его слова, – отчего так, какое дело ни начни, везде проглядывает изнанка, везде червоточина…
– На каждый лист – свой глист, – зубоскалил Кирилл. – А всё оттого, что жизнь не нами устроена, течёт сама по себе… И принюхивался, как зверь, к повисшей тишине.
– А течёт она за семь морей, за восемь болот. Люди хотят её исправить, а получат пять локтей на погосте…
– Ты – меньше! – скривился князь.
Шли годы. Кирилл теперь всё реже вспоминал, как строил рожи пролетающим мимо галкам, как, светя, словно подсолнух в поле, огненной шевелюрой, кланялся дороге. Виски ему уже забивала седина, и он теперь думал, что не только он, но и все люди дышат не свободой, а пустотой.
Случалось, он ещё перекрикивал по утрам петухов, но замок покидал редко – деревенские по-прежнему обходили его за версту, а на каждом дворе его встречал ушат помоев.
Как-то ранней весной в местечко прибыл с сестрой молодой ксендз. Это было его первое назначение, и святой отец волновался. С прихожанами он держался строго, был говорлив, и ему казалось, что он спрячет румяное, мальчишеское лицо под монашеским капюшоном. Исповедь проходила торжественно, а когда очередь дошла до Кирилла, священник поднял широкий рукав, из которого, как из чёрной дыры, проступила темнота.
– Сын мой, – уставился он блеклыми, водянистыми глазами, – Господь в неизреченной мудрости обделил тебя наружностью. Известно ведь, что для убогого жизненная дорога тяжела, зато путь в рай короче… Так возлюби же ближнего, как самого себя!
И выпустив толстую, золотую цепь, протянул для поцелуя нагрудный крест.
– А если я себя не люблю? – приподнявшись на цыпочках, отстранил золото Кирилл.
Рукава разлетелись, как птичьи крылья. Опустив глаза, ксендз перебирал в уме ответы, которым его учили в семинарии. Но подходящего не находил. Тогда, возвысив голос, он прочитал «Отче наш», покосившись на урода, заговорил о первородном грехе.
– Вот ты умный, а с женщиной ругаешься, когда у неё в руках кипяток, – перебил его Кирилл, дёргая за рясу. – Лучше послушай, как в старину вёл двух мудрецов мальчик-пастушок. Та дорога вела к Богу, они шли, не останавливаясь, как вдруг увидели медвежьи кости и шкуру. «Я могу нарастить эти кости плотью», – похвалился первый мудрец. «А я могу обернуть их шкурой и оживить», – не уступил ему второй. Тогда пастушок быстро залез на дерево и смотрел, как оживший медведь пожирает мудрецов…
Ксендз пожал плечами. Обратной дорогой он всё ломал голову над кирилловой притчей. А за ужином у него вырвалось неосторожное слово, и сестра облила его тарелкой горячего супа.
Кириллу грозило отлучение, но его опять покрыл Радзивилл.
Зимой в деревню часто забегали волки – голод гнал их под мужицкие оглобли. Их замечали, как прошлогодний снег. Но этот был страшный. Он кидался по сторонам, резал на ходу кур, и с клыков у него капала пена. За забором надрывно лаяли псы, мужики выходили с кольями, но, увидев серую морду, закрывали ворота.
Пани Ядвига правила санями, смеясь над пристроившимся на полозьях шутом. Кирилл был в ударе, передразнивал молодого ксендза, отвернувшись к сугробам, свистел соловьём, предлагая отыскать эту птицу на обледенелых ветках. Так, под соловьиный свист, сани и выскочили на ощерившуюся пасть. Но пани Ядвига не успела испугаться. Она лишь подумала, что кровь на снегу горит одинаково ярко – и звериная, и человечья.
Задушенный волк казался теперь облезлым, жалким. Он лежал, разбросав бессильные лапы, с клочьями свалявшейся по бокам шерсти.
«Так и люди, – глядел на его выпирающие рёбра Кирилл. – Кусаются от того, что несчастны…»
В ту ночь он увидел во сне икону.
– Готов ли ты пострадать, как Мой Сын? – спросила Богородица, над которой струился чудный свет.
– Мы все Твои дети, Матерь, – ответил Кирилл, – все страдаем…
На иконе Пречистая Дева изображалась по диагонали, из левого угла в правый, а сбоку над ней парила крохотная фигурка взрослого Христа. Сын Человеческий горбился на пустой дороге, вдоль которой тихо дрожали кусты. Присмотревшись, Кирилл разглядел у Христа посох, котомку, лапти за поясом.
И вдруг с ужасом узнал себя!
Проснулся он в жару. Над ним сверзились княжеские лекари.
– Волк-то, видать, был бешеный, – ставил один пиявки.
– Больше суток не протянет, – прикладывал лёд другой.
Они хлопотали у постели, будто кухарки над стряпнёй.
– С вами не заживёшься, – попробовал зубоскалить Кирилл.
И, собрав последние силы, топнул ногой.
Однако с ним творилось странное. Он больше не завидовал князю, не хотел иметь красавицу-жену, он хотел одного – не рождаться больше в этом холодном, бессмысленном мире. Он вдруг увидел всё происходившее с ним, но вместе с тем и всё происходившее с остальными людьми, увидел в каком-то непривычно искажённом, но именно поэтому истинном свете. Он увидел, что и все люди горбаты, только не так сильны, как он. И от этого ещё несчастнее. И Кирилл полюбил людей. Он полюбил своего вислоусого, угрюмого отца, вынырнувшего из реки утопленника, озлобленных от чёрной работы, ненавидевших его крестьян, полюбил Анджея Радзивилла, строчившего доносы учителя и молодого ксендза, читавшего ему проповедь, которую сам не понимал. Кирилл не заставлял себя любить их, не твердил, что надо возлюбить ближнего, как самого себя. Просто он вдруг понял, что разделяет общую с ними судьбу, увидел единый для всех ход вещей, которые век за веком идут по кругу, запущенные неведомой рукой. А ещё он понял, что мир находится внутри него. И тогда подумал: «Я – Бог, я могу творить кошмар, а могу счастье…»
От причастия Кирилл отказался.
Его тело зарыли в лесу.
А через полгода овдовел Радзивил – пани Ядвига умерла от родов. Ходили слухи, что она носила ребёнка Кирилла. Сын у неё родился рыжим, с зубом во рту, он угрюмо поглядывал на нянек, стараясь выбраться из пелёнок. «Проклятое семя, – шипели деревенские, вспоминая, что и Кирилл рождением убил мать. – Небось, лижет теперь у чертей раскалённые сковороды!»
«Хорошо, что все умрут…» – думал князь, когда до него доходили эти сплетни.
Радзивилл осунулся, постарел. За одинокими обедами он по-прежнему слушал музыку, которая звучала для него реквиемом. «Человеку легче исправить позвоночник, чем характер», – кряхтел он, согнутый радикулитом, и не верил больше в людей. Деревенских теперь всё чаще секли, распластав на деревянном «козле», а должников сажали в глубокую сырую яму.
Но это не помогло, с годами двор обнищал, так что княжескому наследнику пришлось, взяв котомку, идти по хуторам смешить народ…
Режиссёр
И у тебя, Господи, милость; ибо Ты воздаёшь каждому по делам его.
Пс. 61; 13.
Часы в метро тускло высвечивали половину второго ночи. Похожий на гнома пассажир, в длинном, грязном плаще, сошёл с эскалатора. Скользнув взглядом по спине одинокого парня на опустевшем перроне, поздний пассажир отвернулся. А когда парень упёр ему в затылок пистолет, не вздрогнул, только крепче сжав торчащую из кармана газету.
Бомж спал, сложив ладони под щекой. Скамейка была короткой, и с неё, будто с гвоздя, свисали его стоптанные ботинки. Не отрывая дула от напрягшейся мускулистой шеи, парень подвёл мужчину к бомжу и рукояткой вперёд просунул ему подмышку другой пистолет. Когда оружие взяли, парень открыл рот, собираясь что-то сказать, но человек в грязном плаще опередил его.
«С удовольствием, приятель!»
Выпятив крутой подбородок, он прицелился очень сосредоточенно, как злодей в дурном сне.
От бомжа несло водкой, и его храп оборвался выстрелом – по лохмотьям медленно расплылось красное пятно.
Из туннеля потянуло землёй, приближалась электричка.
«Вот и всё», – решил молодой человек, застёгивая «молнию» на куртке.
И ошибся.
Срываясь на визг, мечется на ветру уличный фонарь, выхватывая из темноты снежинки. Прислонившись к окну, мальчик считает их, загибая пальцы.
– Боря, уже поздно, – доносится голос няни. Мальчик поджимает пухлые губы. «Хорошо, что снег, – скребёт он ногтем изморозь, – будет работы дворникам…»
У мальчика холодные, васильковые глаза, ровно подстриженные волосы.
– Боря, опять без тапочек! Раскинув руки, няня плывёт в сумерках, как привидение.
И вдруг спотыкается о протянутую верёвку. Ангельское лицо мальчика искажает злорадство.
– Гадкий мальчишка! – журит сына Ангелина Францевна, вычёсывая ему упрямые колтуны. – Сейчас же извинись!
– Я пошутил… – шепчет ребёнок, но в его глазах нет сожаления. Проходит снег, мелькает лето, мальчик вытягивается, идёт в школу, но его по-прежнему мучает ровный голос няни, изрешечённые обедами будни и воскресенья, когда он не знает, куда себя деть.
– Жизнь – пресная штука, – пожалуется он позже бомжу.
– И оч-чень похожа на смерть… – охотно подтвердит тот.
Они делали из людей убийц, превращая их в преступников. «В каждом сидит зверь – только подвернись случай, – оправдывался Борис Бестин, призывая в свидетели бомжа. – Ты же сам видишь, им только шкуру сберечь! Эх, Фёдор Михайлович, какая там, к чёрту, процентщица, они и мать родную!..»
Бомж кривил рот, сворачивая табак козьей ножкой. Собиралась гроза, ветки скребли крышу, и на занавесках уже плясали уродливые тени. «Пугают Страшным Судом, вечными муками… – разглагольствовал Бестин. – А ты не убий даже безнаказанно, даже, когда страха нет! Вот что такое совесть! – Он плеснул в стакан мутного вина. – Только, сам видишь, нет её и в помине…»
Бомж, пуская клубы дыма, молча кивал. У бездомных своя мораль – пустой желудок совести не переваривает.
«У мира две погонялки, – думал он, – холод и голод…»
Дни проводили в праздности, а вечерами, притворив калитку, шли на дело. В пустеющих залах подземки инсценировали убийство. Играли плохо, но всё сходило с рук. И каждый раз убеждались в человеческой слабости. Проявляя изнанку вещей, они толкали на убийство, которому сопротивлялись лишь некоторые.
«Ну!..» – цыкал тогда Бестин, сузив глаза.
И, отводя пугач, пыхал холостым выстрелом.
Стоит ранняя весна. Расцветая подснежниками, школьницы готовят платья для выпускного бала, в классах по стенам прыгают «зайчики», и всё кругом наполнено зовом могучего животного бытия.
– Бестин, приведи пример безличного предложения…
– Скучно на этом свете, господа!
Одни подчинялись с рабским безволием, другие – после короткого бунта, затихая, как ручеёк, попавший в лужу. Их делали палачами, но они ощущали себя жертвами. Под страхом потерять жизнь, их принуждали её отнять. «Он бомж, – оправдывались они, – такие всё равно долго не живут…»
И старались поскорее всё забыть.
Бомжа звали Шамов. Давя под рубашкой пузырёк красных чернил, он чувствовал себя хирургом. «Мы вскрываем гнойник», – повторял он за Бестиным. А тот куражился. Оставляя пугач, давал возможность раскусить игру. Он называл это «соблюсти приличия». Но игрушка жгла, точно жаба за воротником, и «убийцы» старались выбросить её в первую же канаву.
И никто не заявил на себя.
– Бестин, почему сорвал урок?
Лысоватый директор ковыряет в ухе мизинцем.
– Не я один…
– Нехорошо, Бестин, был заводилой, а теперь в кусты.
Подросток краснеет, угрюмо кусая заусенцы. Но у директора много ключей.
– Я понимаю, школа – не сахар, – заходит он с другого конца. – Однако ж, образование…
Вынув из уха, он задирает вверх палец.
– А что образование, – раскрывается подросток, – только изуродует… У него ломается голос, из рукавов торчат худые кисти.
– Надо же, – всплеснул руками директор, – он уже всё знает! Пойми, впереди у тебя сложный мир… От смущения он не нашёл ничего лучшего.
– Мир прост, – обрезал подросток, – когда одному лучше, другому хуже!
И вдруг, болезненно морщась, признаётся, как раздражает его щенячья радость сверстников, их наивная, бездумная жизнь. Он был другой и чувствовал это. Возвышая голос, он заговорил о мировой несправедливости, которую ощущает кожей, о том, что не представляет, зачем жить.
Директору стало не по себе.
– Не делай из болезни философию! – взвизгнул он.
– Для вас философия – всегда болезнь! – огрызнулся подросток.
И опять Ангелина Францевна ласково шептала: «Ах, проказник…»
Первый блин вышел комом.
Весь день лил дождь, и к ночи вода бурлила возле водостоков. Город обезлюдел, на автобусной остановке, притворяясь спящим, лежал на скамейке Шамов. Бестин караулил по соседству, когда из темноты вынырнула худая фигура с поднятым воротником. Мужчина лет сорока стряхивал зонт о колено, едва не задевая остриём асфальт. Капли летели Шамову в лицо, но он терпел. Складывая негнущиеся спицы, мужчина тихо выругался. А через мгновенье к нему прилип Бестин, упирая пугач под воротник. «Стой, как стоишь…» – зашептал он. Но не рассчитал, наклонился над самым ухом, и человек инстинктивно отпрянул. У Бестина взмокла спина. Протягивая второй пистолет, он увидел себя со стороны: жалким, ничтожным. И от этого заскрежетал зубами, впадая в ярость. «Застрели, застрели его!» – истерично закричал он. Мужчина, сухой, костистый, съёжился, как платье, соскользнувшее с вешалки. Оружие в его руке болталось посторонним предметом, он испуганно моргал, уставившись на блестевшую «молнией» куртку. Бестин дёрнул шеей, направляя пугач ему в грудь. И тогда он, точно слепой, ткнул дулом в Шамова…
Когда его впихивали в автобус, у него выпал бумажник.
Фамилия мужчины была Рябухин, на тиснёной визитке значился его адрес.
В университете Бестину прощали все сумасбродства. Учёба давалась ему легко, чего другие добивались упорством, он схватывал на лету. Манеры, голос, привычка хорошо одеваться – всё выделяло его. В компаниях он верховодил, однако сокурсники его не любили, чувствуя в нём скрытое превосходство. Гордился Бестин и своим происхождением, его дед и отец были профессорами. После смерти отца сослуживцы часто навещали вдову, толпились в прихожей, обещая помощь. Однако их участие этим и ограничивалось. Борис их ненавидел, он запирался у себя комнате, заставляя Ангелину Францевну краснеть.
Внешне Бестин казался весёлым, но внутри у него была пустыня. Ему чудилось, что он видит мир насквозь, и ему было невыносимо скучно. Иногда он думал, что живёт задом наперёд, проводя время в воспоминаниях, иногда, что родился стариком, и вместо того, чтобы проживать жизнь, он её доживает.
Как-то он открылся однокурснице. Зина была миловидна, застенчива и тайно влюблена в Бестина, который представлялся ей необыкновенным. Они шли по морозной улице, под ногами хрустел снег, и птицы клевали на ветках рдевшую рябину. «Да как же можно скучать! – встрепенулась Зина, перебирая костяшки на пальцах. – Ведь от смерти нас отделяет тонюсенькая льдинка, каждый час, каждую секунду она может подломиться… А боль? Да ведь за каждым углом караулит! – Она вынула из сумочки зеркало, поправила шляпку. – Смотри, как уши покраснели – отморозила… – Тыльной стороной ладони она стала отчаянно растирать мочки, зеркало запрыгало. – А скука – это что-то основательное, от комфорта…»
Эти слова странно запали Бестину. С тех пор он стал искать риска.
Его выходки отличались жестокостью. «Хомо хоминем люпус эст, – оседлав стул, передразнивал он на вечеринках университетских профессоров. – Недаром нам в детстве пели… – тут он доставал спрятанное в рукаве пенсне и тянул в нос, – при-идёт се-еренький волчо-ок и уку-усит за бо-очок… – Он отчаянно паясничал, прыгая со стулом. – А раз кругом звери, держи ухо востро, а вместо поцелуя жди укуса… – Гвалт, хохот! Сгрудившись вокруг, слушали, к чему он подведёт. – И молодёжь должна учиться кусаться… – Кривляясь, Бестин вскакивал на стул, звенел вилкой о бокал. – С этой минуты каждый может зубами вцепиться мне в ухо… Но если промахнётся – подставит своё!»
Некоторые соглашались – и проигрывали.
Скука – это гидра, у которой растут двадцать четыре головы. Бестин рубил их, проводя дни за картами, в казино, заводя бесчисленные романы, но с каждым часом головы вырастали опять, обжигая бесцельностью маеты.
И у него опускались руки.
А юность проходила, оставляя на душе щемящую пустоту. Учёбу он совершенно забросил, и к четвёртому курсу его отчислили.
«Вы талантливый человек, Бестин… Вам работать надо, а вы чёрт знает кого из себя строите…»
Но теперь он скалился, представляя, какими жалкими сделались бы преподаватели, пропусти он их через мясорубку своего эксперимента.
Ангелина Францевна обивала пороги, напоминая о заслугах мужа, по-старушечьи плакала. Ждавший за дверью Борис, встречая её, притворно опускал глаза.
С отчаяния мать предлагала жениться.
«А хоть бы и на Верижной, – это была фамилия Зины, – буду внуков нянчить…»
Начались скандалы, и Бестин съехал на дачу.
С Шамовым его свёл случай. Он провожал Зину, уезжавшую на лето. На вокзале пахло тепловозной смазкой, сновали носильщики. Бестин прокладывал путь, петляя между чемоданами, орущими детьми и тележками с кладью.
«Муравьи!» – шипел он, и его презрение доходило до ненависти.
Вдруг Зина тихонько вскрикнула. Мордатый бомж, вырвав у неё сумочку, замелькал в толпе. Бестин метнулся следом. Глохнув от женского визга, они размазывали по асфальту плевки, опрокинув урну, барахтались среди окурков. Когда их растащили, Бестин стоял разгорячённый, ещё плохо соображая, а рядом, заикаясь, вопил о своей невиновности вор.
Стали звать милицию.
– Не надо! – твёрдо сказал Бестин. – Бог ему судья…
– Ты добрый… – прощаясь, шептала Зина.
Проводив её, Бестин разыскал бомжа. Тот горбился возле буфета, прислонившись к мусорному баку, грыз сморщенное яблоко. По его ленивому, красному лицу ползла муха.
«Нет, – подумал Бестин, – скука не от комфорта…»
Он сел за столик и жестом пригласил бомжа. Тот, не спеша, выбросил через плечо огрызок. Бестин заказал водки, доставая кошелёк, взлохматил купюры.
– Давно здесь крутишься?
– Др-у-гой год… – бомж высморкался, зажав нос пальцами. И вдруг заголосил: – Эх, жизнь-ж-е-стянка…
Юродство шло ему, как лай собаке.
«А он сметливый…» – подумал Бестин, пристально глядя в бегающие глаза. От бомжа несло, и Бестин, наполнив стакан, подтолкнул его мизинцем на край стола.
– И не стыдно? – вернулся он к происшествию. Бомж закусил водку хлебом, смахнул крошки в карман. Барабаня пальцами по столу, Бестин притворно нахмурился, заговорил о законе. Бомж согласно кивал, косясь на недопитую бутылку.
– Да разве можно так с людьми? – подвёл черту Бестин.
– А они что мне – р-о-дные? – захмелев, оскалился бродяга. – Человек человеку б-у-рундук!
Щёлкнув невидимым замком, половинки сомкнулись.
И Бестин решился:
– Можно по-лёгкому денег срубить…
– А что, – выслушав, усмехнулся Шамов, – будем, как р-ы-жики в сметане…
С Рябухиным вышла загвоздка, но потом всё наладилось. В их планы входил шантаж тех, кого жестоко разыграли. «Мы открываем им глаза на себя, – философствовал Бестин, – а это дорого стоит…» Они думали вымогать деньги, но узнавать адреса «убийц» было трудно, и с этим решили повременить. Пока их забавляло действие. Особенно веселился Шамов. Он мстил за изломанную судьбу, как туберкулёзный, мажущий своей мокротой дверные ручки.
«Я ц-а-рь. Я ч-е-рвь. Я Б-о-г…» – бубнил он, возвращаясь на дачу, и во всех его движениях сквозило угрюмое самодовольство.
Но когда кончились деньги, стал настаивать, чтобы Бестин прижал Рябухина.
Моросил дождь, в сизых сумерках кривились фонари.
– Долго ум-и-рать нев-е-жливо… – густо прохрипел Шамов. Он вынырнул из подворотни и, поравнявшись с Рябухиным, схватился за живот. Рябухин вздрогнул и нелепо заморгал, как тогда ночью.
Накануне он видел сон. Будто пошёл в театр, и актёр, представлявший зарезанного, вдруг встал у его кресла с торчащим из груди ножом: «Ты зачем убил меня?» И Рябухин, мгновенно проснувшись, похолодел, натягивая на голову одеяло. А теперь это случалось наяву. Вон мимо скользит воскресший бомж и, тыча пальцем, бормочет: «У-бийца, у-бийца!..»
Всё это время Рябухин жестоко мучился, не мог поверить, что он, добропорядочный гражданин, за всю жизнь не обидевший и мухи, так легко совершил убийство. «Я не успел подумать, – заговаривал он себя, – всё произошло слишком быстро!» Раз за разом прокручивая случившееся, Рябухин ломал голову, что оно могло значить, пока не решил, что его руками свели счёты: заставив убить, переложили часть вины. Однако у него что-то не складывалось. А ночью, после нелепой выходки бомжа, Рябухин понял, что именно. Его озарило сразу, как только он открыл дверь. На пороге стоял молодой человек в расстёгнутой куртке. Рябухин в ужасе попятился, а парень, хватая липкие перила, едва не скатился по лестнице. Мир тесен, Бестин узнал в Рябухине одного из сослуживцев отца, вечно толпившихся у Ангелины Францевны. А по тому, как тот впился в него глазами, понял, что и Рябухин узнал его.