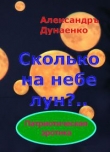Текст книги "Гений вчерашнего дня: Рассказы"
Автор книги: Иван Зорин
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 13 (всего у книги 15 страниц)
Долг
Ссора вспыхнула из-за козырной шестёрки. Серафим Герцык покрыл ею туза, а нож Варлама Неводы, выхваченный из-за голенища, пригвоздил карты к столу. Лезвие вошло между пальцами штабс-капитана, но они не шевельнулись.
– Что-то не так? – равнодушно взглянул он.
– Шулер, – прохрипел раскрасневшийся Варлам. Его глаза налились кровью, он был пьян и горстями сгрёб ассигнации.
Дело происходило посреди крымской неразберихи, когда белая армия отхлынула к морю, увлекая за собой мошенников, прокопчённых южным солнцем контрабандистов, петербуржских барышень, студентов провинциальных университетов, мужей, годами целовавших жён лишь на фото, и жён, вдовевших с каждым разорвавшимся снарядом. В корчме, битком набитой острыми взглядами и проворными руками, на офицеров не обратили внимания: миллионы подобных ссор вспыхивали здесь до этого, миллионы – после. Только лупоглазый шарманщик с гвоздикой за ухом вдруг затянул с надрывом: «И улетела вверх душа через дырку от ножа…» В углу два сгорбленных молдаванина, как сумасшедшие, бренчали на гитарах, бледный, исхудавший еврей то и дело убегал из-за рояля в уборную нюхать с зеркальца кокаин, а красная конница сметала всё за Сивашским валом.
Познакомились час назад, но, как это бывает среди беженцев, Варлам успел выложить всё: про аресты в Екатеринодаре, расстрелы «чрезвычайки», про тачанки, косившие его казачий эскадрон, и про бежавшую в Париж невесту, с которой они условились встретиться «У Максима».
Штабс-капитан кивал.
«А у меня никого, – отхаркивал он кровью в платок под орлиным, нерусским носом. – Разве это…» И, криво усмехнувшись, разгладил на гимнастёрке Георгиевский крест.
«Чахотка», – безразлично подумал Варлам. Румяный, кровь с молоком, он перевидал таких в окопах германской, получив от солдат прозвище «Большой есаул», гнул пятаки и за уздцы останавливал скачущую мимо лошадь.
Игра завязалась сама собой, перекинулись по мелочи, больше для того, чтобы забыться, ставили деньги, которые с каждой минутой превращались в бумажки. Штабс-капитану отчаянно везло. Ему приходили дамы и короли, он едва окидывал их рассеянным взором, невпопад бился, но всё равно выигрывал. Его мысли были далеко, он стучал им в такт ногтем по дереву, точно клевала курица, изредка вставал и снова садился, беспричинно обдавая Варлама безумным, едким смехом.
Оскорбив Герцыка, есаул сжал кулаки, ожидая пощёчины, но штабс-капитан отвернулся к окну, точно смотрел вслед своим мыслям. На улице моросил дождь, рыхлый, пузатый кучер, развалившийся на козлах, со скуки хлестал псов, брехавших на коня, пока раскрасневшийся отец семейства загружал тарантас с кривым, пыльным верхом пухлыми чемоданами.
«Надеюсь, мы не станем драться, как мужичьё, – процедил, наконец, штабс-капитан с холодной усмешкой, опять кашлянув кровью. – К тому же у вас преимущество…»
Варлам разжал огромные кулаки.
«Здесь тесно, а на дворе – сыро, – Серафим Герцык зябко передёрнул плечами. – Я не совсем здоров…»
«Струсил», – подумал Варлам.
Вместо ответа штабс-капитан надел фуражку, достал из кобуры шестизарядник, выкатив пять пуль на карты, и, крутанув барабан, прислонил к виску. Раздался сухой щелчок.
«Ваша очередь», – протягивая револьвер рукоятью вперёд, облизал он тонкие губы.
По соседству горланили необстрелянные юнкера в серых от пыли шинелях, широко отставив локти, пили за здравие убиенного царя, по-мальчишески перекрикивая друг друга, били о пол рюмки, и осколки летели в нищего старика, который грел пятки, уперев их в свернувшуюся клубком собаку.
Варлам зажмурился и, как во сне, спустил курок.
– Я начал первым, – едва переведя дух, услышал он, – надеюсь, вы человек чести и уравняете шансы во всех случаях…
Серафим Герцык, не моргая, уставился Варламу в переносицу, перевернув револьвер курком вниз. Так, с открытыми глазами, он и встретил смерть – грохнувшим выстрелом ему снесло пол черепа.
На мгновенье воцарилась тишина, взвизгнули женщины, а потом громче заиграла музыка, и все пустились в пляс, чтобы не видеть, как суетятся половые, счищая тряпками кровь того, кто ещё минуту назад был Серафимом Герцыком.
К вечеру красные были в пяти верстах, и военные торопливо оседлали коней, вонзая шпоры, не жалели плетей. Самоубийц не отпевают, и вслед за продырявленной фуражкой тело с Георгиевским крестом понесла река. В последний путь Серафима Герцыка провожали зелёные слепни да увядшая гвоздика, которую, вынув из-за уха, швырнул ему вслед лупоглазый шарманщик.
А есаул не сдержал слова. В нём червоточиной поселился страх. В Севастополе он сходил в церковь, исповедовался. «Беда-то какая вокруг, – вздохнул батюшка, – а вы…» «Чёрт возьми, – посоветовал ему знакомый ротмистр, с которым они брали у немцев «языка», – если уж тебе невмоготу, пальни в себя, да и выброси всё из головы…» Варлам храбрился, обещал не откладывать, пил с ротмистром на брудершафт, но в душе был уверен, что мертвец утащит его за собой, что он обязательно застрелится, если сдержит слово. «Ты пойми, – жаловался он денщику сквозь пьяные слёзы, – мёртвый убьёт живого, разве это справедливо?» Но по ночам видел гроб, из которого поднимался окровавленный штабс-капитан и требовал долг. Он по-прежнему страшно кашлял и криво усмехался. «Да ты сам искал смерти, – открещивался во сне Варлам, – знал, что до Констанцы не доберёшься…» А иногда вставал на колени: «Христом Богом молю, прости долг, на что он тебе, а я прежде невесте вернуть должен, она-то здесь причём?» Но штабс-капитан был непреклонен. По пробуждении Варламу делалось стыдно, надев мундир, он долго тёр затылок, потом запрокидывал бритую шею, собирая жирные складки, заряжал револьвер. И каждый раз откладывал в сторону, не в силах преодолеть себя, опять видел закрытую вуалью женщину, которая проводит вечера в ресторане «У Максима», посматривая на дверь, снося пошлые разговоры и липкие взгляды. Вспоминая смуглые, нерусские черты штабс-капитана, Варлам подозревал, что на него напустили порчу, золотил ручку цыганам, которые снимали сглаз, катая по блюдцу яйцо и сжигая на свече пахучие травы.
Но не помогли ни ворожба, ни заговоры.
Пароход пенил воду, перекатываясь на вздыбленных валах, Варлам целыми днями валялся на койке, мучаясь морской болезнью, а когда выходил на палубу, окидывал горизонт мутными, посеревшими глазами.
«Тоже нашёл занозу, – начищая до блеска сапоги, кряхтел рябой, подслеповатый денщик, – одно слово – господа!»
А в кают-компании философствовали.
– Гордиться надо существованием, чай, люди, а не животные какие, – ковырял в тарелке безусый капитан, одетый с иголочки. – Вот лошадь, она, поди, и не знает, что живёт, ей овса подавай, да жеребца поигривей. А мы жизнь псу под хвост кидаем, точно рубаху сбрасываем, подгуляв в дешёвом кабаке…
Дамы с интересом разглядывали его белоснежный, отутюженный китель, мужчины угрюмо молчали.
– В конце концов, у нас долг перед Всевышним… – начинал он горячиться, обводя всех молодыми, васильковыми глазами.
– Э, бросьте, – не выдерживал, наконец, знакомый Варламу ротмистр, – какой там долг – вши навозные… – Помолчав, он безнадёжно отмахнулся: – В жизни всё – дело случая, была Россия, присяга, думали на века, а потом убивали братьев, и впереди – чужбина…
«Да-да, – успокаивал себя Варлам, в горле которого стоял комок, – это же недоразумение, глупая случайность – не встреть я его тогда…» И опять видел шляпку со страусовыми перьями, твёрдо решив взять себя в руки и обязательно доплыть.
Низко и жутко висело небо, за кормой короткохвостые, крикливые чайки хватали растерзанную винтами рыбу, и мир представлялся хищным и беспощадным.
«Лукав человек, – вступал в разговор корабельный священник, подоткнув рясу и для убедительности трогая нагрудный крест, – говорит одно, думает другое, делает третье, грешим и словом, и помыслом, и делом, а раскаяния – ни на грош…»
Густели сумерки, море чернело тревожно и страшно, бешено перекатывая крутые валы, и все чувствовали бездну, которая была глубже воды, ниже дна.
«Да мало ли я лгал? – думал есаул. – Иначе не выжить… – Застыв перед трюмо, он выставлял перед собой ладони, казавшиеся в зеркале ещё огромнее. – Разве на них первая кровь? “Надеюсь, вы человек чести…” А сонных на рассвете резать? А пленных рубить шашками: их благородия казаки в бой летят пьяные – чистые мясники! Что вообразил себе этот покойник?»
Усталый, Варлам падал на кровать, его всё больше окутывала звенящая тишина, но во сне он скрежетал зубами и пронзительно свистел, пугаясь собственных криков, вскакивал, зовя спросонья денщика с пятнистым, как птичье яйцо, лицом.
Среди прислуги было много турок и греков, выросших по левому и правому борту своих рыбачьих баркасов, с дублёной от соли кожей, привыкшие к морскому ветру, они насмешливо косились на русских, при малейшем порыве наглухо застегивающих свои медные пуговицы с двуглавыми орлами. И Варлам шарахался, узнавая то в одном, то в другом штабс-капитана. На впалых щеках у него проступила щетина, резко обозначая выпирающие скулы, заострившийся нос и блеклые, потухшие глаза.
«Подумаешь, слово, – оправдывал он себя, – истина в нём живёт мгновенье и умирает вместе со звуком. Каждый окружён словами, как пасечник пчёлами, надо жить, будто не было этой нелепой дуэли…»
Варлам Невода застрелился в трёх милях от Констанцы. В его каюте было опрятно, бокалы насухо вытерты, а в шестизаряднике больше не было пуль.
– Этих русских не поймёшь, – ворчал стюард-турок, переваливая за борт потяжелевшее в смерти тело.
– Жизни не любят, – поддакнул помогавший ему грек.
Крыло пересмешника
За дьяволом – Бог!
В отличие от шахмат в игре есть джокер. Не все умеют им пользоваться, поскольку не знают правил, которые держатся в секрете. Делается это совсем не для того, чтобы хозяева игры имели преимущество – фигура и их озадачивает. В секрете держится и то, что для джокера вовсе нет правил. Подобные знания пугают. Они не предназначены для людей.
Так рассуждал Григорий Цыркун. Он шёл по мостовой, и мысли его путались, как тропинки в лесу. Но каждый раз возвращались к устроителям игры. Кто они? «Я думаю, что – я, ты думаешь, что – ты, он думает, что – он», – эхом откликались каменные дома. Григорий был опытным и уже не лез на рожон, он догадывался, что выиграть невозможно – игру можно лишь затянуть. Макушка у него была, как прокисший, заброшенный пруд – блестела проплешиной, а вокруг неё, зеленея, цвели волосы. В юности Григорию за каждым поворотом мерещился устроитель игры. Однако шли годы, а тот ускользал, словно тень. «Он важный начальник, – решил Григорий, – и у него строгий секретарь – прежде, чем пробиться на приём, нужно заручиться его поддержкой…» Так Григорий переключился на джокера. Он надеялся, что вот-вот его схватит, но хватал спросонья лишь собственный нос. Одно время он подозревал, что джокер и есть устроитель игры. Но это значило бы, что устроитель играет против самого себя, соревнуется с собой в придуманную им же игру, а это было бы слишком просто.
Григорий был женат, ходил на службу, радовался прибавке к жалованью, на крестинах – смеялся, на похоронах – плакал, но, оставаясь наедине с собой, не прекращал играть. Изредка у него случались маленькие выигрыши, он вычислял каждый свой шаг – но его пересчитывали на два.
«Как кошка с мышкой…» – бормотал он.
И надеялся только на джокера, который разом искупит все его промахи.
Фигура джокера всего одна. Одна на всех игроков, и за кого играть, выбирает сама. Это может произойти несколько раз или не произойти вовсе, и тогда игра будет сыграна без джокера.
Однако фигура эта изначальна – она была до игры. Она – сама игра.
Раз тропинка завела Григория в горы. У глухих скал там вырос бревенчатый храм. Это была не церковь, не мечеть, не синагога. Из-за двери струился свет, внутри горели тысячи лампад. «Для кого жгут? – подумал Григорий. – Кругом – ни души…» И тут заметил, что на пороге горбится монах. Он клевал носом, но его глаза, не мигая, смотрели на гостя. Григорию стало страшно.
– Ты какой веры? – вскинул брови монах.
– В каждом возрасте своя вера, – брякнул с испугу Григорий. – Когда жизнь только начинается, хорошо быть мусульманином, в зрелости – смиренным христианином, а под старость – бесстрастным буддистом…
Монах расхохотался, поднимая себя за волосы:
– И всё равно проиграешь!
Он вынул из кармана зеркальце и, смотря в него, точно боясь промахнуться, стал ковырять зубочисткой, доставая из жёлтых дёсен кусочки окровавленного мяса.
«Так вот он какой – джокер…» – решил Григорий.
– Опять ошибка, – прочитал его мысли монах. – У каждого своя игра, а в твоей вовсе нет джокера…
Григорий разозлился.
– Ну, тогда и ты не нужен! – достав револьвер, прицелился он в жёлтые зубы. – В своей колоде я и сам туз.
– Потом век не отмолишься! – вскинул руки монах, выронив зеркальце. – Учти: ствол стреляет в обе стороны…
И Григорий понял, что его водят за нос. Он раз за разом спускал курок, но монах не падал, как испорченная мишень в тире.
– Упражняйся на воде, – издевался он, – там не промахнёшься, сколько будет кругов – столько «десяток»!
У Григория кончились патроны, но он продолжал сухо щёлкать, пока револьвер не заело.
– Зря ерепенишься, – похлопал его по плечу монах, – слепой ты, как крот…
От обиды Григорий опустился на землю.
– Зато ты больно зрячий, веки-то где потерял?
Монах будто не слышал.
– Заруби на носу, – гнул он своё, – про джокера все лгут. Даже те, кто его знают, в этом не сознаются, а, если и сознаются, – их не поймут…
– Это как?
– А так: я вот моргаю, да ты не видишь моих век и думаешь, что у меня их нет…
И тут Григорий проснулся.
Отменить джокера нельзя. Без него игра – не игра, она становится скучной. Без него выигрывает тот, кто умеет лучше играть.
Гулко стуча каблуками, Григорий Цыркун шёл по мостовой. И каждый шаг приближал его к мысли, что никакой загадки в игре нет.
«Вот и вся правда… – то и дело сплёвывал он через плечо. – Вот и вся правда…»
Так он боднул вывеску «Джокер», намалёванную крупными буквами. В кафе он оказался единственным посетителем, но, приученный жаться к обочине, занял столик в углу.
– Кофе?
Официант вывернул ладони так, что хрустнули пальцы. Григорий равнодушно кивнул, думая, что, верно, и кофе, и вывеска, и официант – тоже часть игры. Или все играют в разные игры? Спрашивать бесполезно – ответа всё равно не получишь.
– Вы напрасно выбрали этот стул, – суеверно покосился официант, перебросив через плечо полотенце.
Григорий вскочил, точно ужаленный. На деревянном сиденье было нацарапано: «Здесь был обманут Савватей Шивкопляс».
– Подумаешь, удивил, – пробубнил он, – на земле все обмануты…
– Не скажите, – опять хрустнул суставами официант. – Тут случай особый…
И, собрав морщины на лбу, рассказал
ИСТОРИЮ САВВАТЕЯ ШИВКОПЛЯСА
Савватей был шулером. В юности его побили канделябрами, и с тех пор он стал осторожен: играя замусоленной колодой, сдавал себе крупных козырей, а остальных прятал в рукав. Посвящённый в тайны крапа, он с пяти шагов отличал рубашку «короля» от платья «дамы» и передёргивал так ловко, что и сам не замечал. И всё равно был недоволен. Чтобы окончательно себя обезопасить, он гонялся за секретом джокера. И вот однажды ему пообещали сменять эту тайну на все его уловки, потому что эта тайна – величайшая на свете.
Григорий барабанил по столу какой-то мотив, пытаясь схватить нить. Игра коварна, иной оборванец может оказаться её магистром.
А Константин Зидроба, владевший тайной джокера, был писателем. Когда-то этот секрет принёс ему успех: о его книгах судачили домохозяйки, их тиражи росли как на дрожжах. Но с годами он старался не брать их в руки, а, взяв, долго водил по страницам крючковатым пальцем и ничего в них не находил. Его сердце стало, как лошадь, которую держат в стойле – овса много, а жизни нет. Тогда Константин решил, что это джокер высосал из него все соки.
И захотел от него избавиться.
Свидание Шивкоплясу он назначил в нашем кафе. Я хорошо помню, как рассеянно следил он за карточными фокусами, то и дело пощипывая щёку – чтобы не уснуть. А Шивкопляс превзошёл себя. Он метал карты на стол, доставая их разве не из ушей. Наконец, Константин Зидроба выложил джокера, сделка состоялась, и каждый ушёл при своём. На радостях Савватей угощал вечером каждого встречного. Он легко тратил деньги, зная, что так же легко вернёт их, что теперь для него нет ничего невозможного. Он думал, что обвёл мир вокруг пальца. Однако вместе с джокером к Савватею передалось безразличие. Игра теперь не стоила для него свеч, ведь победа вместе с джокером лежала у него в кармане. А шулер без игры, как вор без рук. Савватей стал всё чаще прикладываться к бутылке, засиживаясь за столиком, и однажды, уронив голову на тарелку, умер.
Официант закусил губу, опять собрав морщины.
И Григорий только сейчас заметил, как он стар. Старее отражения в зеркале.
– Вас, Константин Зидроба, стало быть, совесть мучает, – проницательно заметил он. – Простить себе не можете, что человека погубили…
Официант взял со скатерти сухой бокал и стал протирать полотенцем.
– Совесть, как дворняжка, – облает, но пропустит… – процедил он сквозь зубы. – А вы, однако, догадливы. Раньше я, действительно, пописывал. Но Бог милостив – устроился сюда… – Он развёл руками. – Теперь вот при деле. А клиентов бесплатно развлекаю – люблю, чтобы уши развесили…
Но Григорий не поверил.
– Из какого рукава вы достали тогда джокера? – горячо зашептал он, по-собачьи заглядывая в глаза. – И куда спрятали?
– Хочешь спрятать – положи на видное место, – хохотнул официант.
Но отделаться от Григория было непросто.
– Откройте же и мне секрет… – пираньей вцепился он. Глаза официанта превратились в бритву.
– У меня его больше нет, – полоснул он. – Эту тайну передают только раз. Или уносят в могилу… Кофе?
На стул Григорий опустился, будто на кол.
«Битый козырь не может быть джокером…» – уперев щёку в кулак, гадал он на кофейной гуще.
В существование джокера можно только верить. Григорий узнавал его, как льва по когтям, то здесь, то там замечая его отметины. Он кожей чувствовал его присутствие, как в зеркале, видел его отражение в посторонних предметах. Григорий шёл на ощупь, то приближаясь к нему, то удаляясь, но всегда чувствовал, как за спиной, точно крылья у ангела, у него маячит чужая тень. Иногда джокер рисовался ему человеком, иногда птицей, но чаще не имел образа. Однако Григорий был убеждён в его всевластии, он приписывал ему свойства волшебного эликсира и философского камня.
«Кажется, дни кружатся, как осенние листья, – думал он, – но всем верховодит джокер…»
В детстве Григорий всегда ходил с книгой, защемив в ней палец, так что казалось – палец прирос к ней. А в университете грыз науку. «Когда жизнь дорожает, – долбил он, – тогда человеческая – гроша ломаного не стоит». И теперь на его глазах людей покупали за пару медяков, а они кивали, как китайские болванчики, их ждала одна участь, а они, выстраиваясь, как матрёшки, дрались в очереди. Они проводили глупую, унылую жизнь, предавали, ссорились, мало мечтали, а на поминках много пили оттого, что нечего было вспомнить.
Но люди не виноваты. Это всё подстроил джокер – злобный карлик с ухмылкой до ушей. «Пьеса совершенна, – думал Григорий, – но её портит суфлёр». Он прислушивался к себе, стараясь прочитать отведённую ему роль. Однако слышал только насмешливый голос джокера. Разбившись на множество голосов, он гремел отовсюду, как посуда в шкафу, указывая, каким нужно быть. Но Григорий чувствовал, что его только путают, уводят от того, кем он должен стать в действительности. Он бросил работу, разошёлся с женой. И целыми днями таращился в зеркало, стараясь разглядеть своё лицо.
Но видел лишь маску, которую нацепил ему джокер.
И тогда представлял, как проткнёт его иглой, будто ядовитое насекомое.
Была ночь, и мысли путались, как мошкара над лампой. «Ужас в том, что простое живёт за счёт сложного, – думал Григорий. – Даже комары ищут крови, которая устроена сложнее их…»
И опять он ходил к писателю. И опять выспрашивал.
«Джокер открывается не всем, – кривился тот. – Нужно выдержать испытание – и через это полюбить его. Ибо любим мы только тогда, когда страдаем, и чем выше цена, которую заплатили, тем сильнее любовь… – И будто про себя шептал: «А Шивкоплясу-то джокер даром достался, без мук, вот он и поплатился…»
А Григорий ломал голову, чего от него хотят, пока не решил, что поиски джокера – само по себе серьёзное испытание. Мало кто его выдерживает, ещё меньше тех, кто на него отваживается. Это испытание нельзя пройти вслепую, держась со всеми за верёвку поводыря, тут каждый – один.
Писателю Григорий порядком надоел. «И отчего у меня ногти на правой руке растут быстрее, чем на левой?» – выгнув пальцы, всё чаще переводил он разговор. Григорий смущался, давая себе слово больше не ходить сюда. И каждый день ноги сами несли его в «Джокер». Он точно ждал, что у него вырастет третий глаз, и он разглядит за привычной обстановкой тайные знаки, которые выведут его на джокера. Ему казалось, что тот прячется за занавесками отдельных кабинетов, он бросался туда, как за кулисы, вытаскивая на сцену растерянных посетителей. Григорию чудилось, что он вот-вот схватит там и джокера, который утекает, как вода между пальцев.
Наконец, его выходки стали невыносимы.
«Топай, топай, – выставил его Константин Зидроба. – Джокер тебе не по зубам – следи лучше за своей тенью…»
В каждом деле Григорий подозревал двойное дно, невидимую, скрытую от всех изнанку, поэтому в счастливые дни особенно не радовался, а в несчастные – не огорчался. «Что для нас счастье? – крутил он усы, размышляя о проделках джокера. – Вот Шивкопляс, дурак, радовался, думал, выгоду получил… А как понял всё – руки на себя наложил!»
И была мысль, которую он гнал от себя, и которая, возвращаясь, кусала, как августовская муха. Неужели игра затеяна, чтобы потешить джокера? Неужели за ним никого нет?
Надеешься, что попадёшь к королю. А встречает шут.
Иногда джокер рос в его глазах, как тень гигантской птицы. Ему казалось тогда, что весь мир находится под крылом этого пересмешника, который не пропускает к истине, заставляя топтаться перед распахнутой дверью. До истины рукой подать, но, сгущая туман, джокер делает её невидимой, истина молчаливо взывает, но, крича тысячью голосов, он забалтывает её.
«Надо освободить мир, – стискивая зубы, решал Григорий, – нужно спасти его от джокера!»
Но джокер вездесущ.
«Тоже мне, спаситель! – хохотал он внутри. – Эту роль ещё заслужить надо!..»
Джокеру, как ветру, открыты четыре стороны, и Григорий искал его на севере.
Стучал поезд, колёса сматывали рельсы, и Григорий откровенничал с раскрасневшимся попутчиком, дувшем седьмой стакан чая. «А я вам вот что скажу, – вдруг перебил тот. – Джокер – это, верно, бог, который забыл, что он бог. Сам он давно потерял дорогу, заблудился, и теперь его пользуют все, кому не лень… – Попутчик промокнул платком вспотевший лоб. – Этот полоумный божок уже не отличает добра от зла, его правая рука не ведает, что вершит левая. Его водят на верёвке, как слепого, и он тычет пальцем, не разбирая правого и виноватого…»
Попутчик уставился в окно, за которым мелькали деревни, плыл скудный пейзаж. День был серенький, задумчивый, мелкий дождь солил фуражку путевого обходчика, напяленную глубоко на уши, так что на лбу, как клюв хищной птицы, торчал козырёк.
«Хотя, – почесал он затылок, – вариантов здесь – хоть к цыганке… Может, джокер – это совесть? Да-да, наша совесть, которая молит, чтобы ей подняли веки…»
На минуту Григорию показалось, что поезд пролетает станции без остановки, что он, сжигая за собой мосты, лезет в гору, которую ему не одолеть. Григорий открыл, было, рот, но слова застряли в горле. Тогда он стал объясняться жестами. Он говорил долго и убедительно, но не понимал, о чём. А попутчик кивал, будто слушал историю Савватея Шивкопляса, находя в ней подтверждение своим мыслям.
«От себя не уйдёшь даже с джокером, – подвёл он черту. – Нас держат на коротком поводке…» И, передёрнув плечами, неожиданно заорал: «Да закройте же, наконец, это чёртово окно!»
Натянув одеяло на голову, Григорий Цыркун лежал под форточкой и бормотал во сне, стуча зубами от холода.
Месяцы потянулись, как вагоны товарного поезда, разрезавшего густую, непролазную метель. По утрам, уткнув палец в зеркало, Григорий выдерживал паузу, после которой начинал монолог:
– Джокер – это ветреный мальчишка и забывчивый старик. Но – посмотри: весь мир такой – в нём помнят только сегодня, не оглядываясь на вчера, не заботясь о завтра. Джокер переделал мир под себя, стал в нём хозяином – нужно угадывать его настроение. А ты не хочешь. Надо держать нос по ветру. А ты не умеешь. Твоя игра – сплошное недоразумение: тот, с кем ты состязаешься, давно из неё вышел, забыв про твоё существование…
– И все так, – поддакивали из зеркала, – игра для всех чужая…
И опять Григорий думал, что игра ведётся ради игры, что даже джокер в ней всего лишь шестёрка.
А однажды он поделился своими мыслями. Дело было на юге, его собеседником оказался худенький, сгорбленный старичок, который оглаживал редкую бородку. Они сидели на камне, море катило волны и, разбиваясь о скалы, сыпало под ноги брызги. «Что же, молодой человек, – ищите и обрящете», – выслушал он исповедь Григория. И тот подумал, что старику не хватает рясы с целовальным крестом. «А хотите признание? – прочитал старик его мысли. – У каждого ведь свой джокер, своя рамка, в которую вставляют мировую картину… Я, как вы уже догадались, бывший священник…» Оттопырив мизинец, он почесал нос, не выпуская бороды. «После семинарии направили меня в местную церковь, начал я служить, но времени оставалось много – хватало на вольнодумство. И однажды влетела ко мне мысль, покоя не даёт… Святые иконы кадилом окуриваю, а сам всё размышляю – отчего миром мертвецы правят? Сами подумайте: по каким заповедям мы живём? Кто нам законы устанавливал? Книги для нас писал? Хоть и знаю, что у Бога мёртвых нет, а сомнение всё равно гложет… Как же так, думаю, несправедливо, чтобы мёртвые над живыми верховодили! И до того додумался, что мерещиться стало, когда покойника отпевал, будто душа его к звёздам отправляется, а оттуда – землёй править, судьбы вершить… И всё, что за земную жизнь накопилось, вся мерзость, обиды, склоки разные – обратно на наши головы выливать… – Старик замолчал, глядя в морскую даль. – И такая складная картина вышла – хоть трактат пиши! За то, что натерпелись, мёртвые теперь над нами глумятся. А может, хотят по-своему мир перекроить? Каждый ведь со своей колокольни его видит и так переделать мечтает, чтобы собственные ошибки больше не повторялись. Однако ж по своему времени судит, а все времена одним аршином не измерить – вот и выходит по-дурацки…»
Жесты – как ветрянка: задрав подбородок, Григорий стал ковырять шею, сматывая волосы в колечки.
«А русскому человеку что втемяшится – колом не выбьешь! И я хожу гордый, невдомёк, что ересь к нёбу прилипла… – Старик хитро прищурился – и вдруг расхохотался, обнажив кривые зубы. – Ну что, поверили? А я наврал вам с три короба! Может, и писатель ваш также? Человека одурачить легко… Человек, что былинка – дунул, он и полетел…»
Плюнув между колен, Григорий поднялся.
«Мёртвым-то, небось, тоже пожить охота, вот и мстят…» – неслось ему вслед, и он спиной чувствовал, как скалится старик.
Джокер – это удача, везение, судьба. И одновременно – обман, лукавство, подвох. Он даёт, чтобы отобрать. Это доставляет ему удовольствие.
Там же, на юге, Григорий угодил к гадалке. В саду пахло яблоками, стол с колченогими стульями был завален картами, мисками с «живой» и «мёртвой» водой, разноцветными стеклянными шарами. Протянув руку через стол, Григорий слушал про своё прошлое, про то, чего не было, и ему казалось, что это было. Цыганка водила по ладони кривым ногтем, от щекотки у него слезились глаза, но он терпел.
«Каждое лекарство по-своему пахнет, а вместе – аптекой, – ворожила она. – Так и человек свой аромат носит, а в толпе его запах выветривается…»
Зобатая, толстая, в своем чёрном платье она была похожа на колокол и также тяжело гудела.
«Однако джокер – он особенный, у него тень не как у людей – налитая, тяжёлая… По тени его сразу узнаешь…»
«Вижу, вижу, – бормотала она, вперившись в дымившееся зелье, – смутил тебя писатель Константин Зидроба…»
И уже катая яйцо по блюдцу, пересказала историю Савватея Шивкопляса.
Григорию стало страшно.
«Что для нас счастье? – впилась в него взглядом цыганка. – Вот же Савватея угораздило тайну выведать, думал, теперь он кум королю, а вон, как всё обернулось…»
И вдруг засверкала глазами: «А ты никому больше про джокера не сказывал?»
Григорий наморщил лоб и, зажав бородку в костлявый кулак, выложил про священника.
«Это ничего, касатик, ничего… – запричитала цыганка, колдуя над мутным зельем, которое на глазах светлело. – А что, заводил он свою песнь про мертвецов?»
Григорий кивнул.
«Помирать пора – вот и философствует… – вздохнула цыганка. – А у самого грехов – полный воз! Да и ясно всё с мертвецами, как божий день…»
Григорий удивленно наморщился.
Цыганка поправила платок, из-под которого лезли чёрные, как воронье крыло, пряди.
«У ребёнка своего ничего нет, – начала она издалека, – он всем природе обязан, в долг живёт. А с годами природа скудеет, своим умом жить заставляет, что накопил – с тем к Богу и явишься. Ангелы на небе костяшками щёлкают, мимо их бухгалтерии не прошмыгнуть! “Ключи от райских ворот были в твоих руках, – говорят они, хлопая крыльями. – Человек – это то, что остаётся после вычитания его из самого себя…”»
Григорий уже не слушал.
«Неужели за джокером никого нет? – клевало его внутри. – Неужели – никого?»
Годы тянулись, как зелёная гусеница по жёлтому листу. Григорий постарел, от его прежней настойчивости не осталось и следа. Теперь он всё чаще смотрел на всех так, будто они мешали ему видеть за собой кого-то скрытого, кто таился за спиной, ощупывая оттуда глазами весь белый свет.
«Ищут одни – находят другие», – щипал он перед зеркалом разросшуюся плешь.
И ещё долго всматривался, прожигая стекло до амальгамы, будто видел там джокера.
На дверях психиатрической больницы нет ручек, чтобы сходить в уборную, приходится каждый раз звать санитара. Григорий здесь давно. Так давно, что кажется, никогда отсюда не выходил. Он пожелтел, высох, но не перестаёт искать джокера. В его воспалённом мозгу им оказывается то главный врач, то забившийся в щель таракан, то шизофреник, представлявший курицу, у которой отрубили голову. «Давно свихнулся…» – крутят ему у виска. Григорий соглашается. Не всё ли равно, какая ложь, если не знаешь правды? Однако он знает виновника своих бед, и против его упрямства бессильны все аргументы.