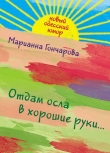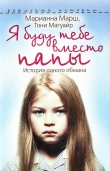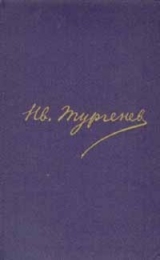
Текст книги "Том 9. Новь. Повести и рассказы 1874-1877"
Автор книги: Иван Тургенев
сообщить о нарушении
Текущая страница: 37 (всего у книги 42 страниц)
Калломейцев живо напоминает Каткова также своим стремлением везде выискивать нигилистов и «красных». Характерна в этом отношении глава XIV романа, в которой Калломейцев рассказывает об убийстве в Белграде сербского князя Обреновича: «До чего, наконец, дойдут эти якобинцы и революционеры, если им не положат твердый предел!» Фраза: «…Калломейцев от заграничных якобинцев обратился к доморощенным нигилистам и социалистам» в черновом автографе первоначально заканчивалась словами: «…обратился к доморощенным нигилистам и интерн<ационалистам>». Частые нападки на Интернационал (по терминологии Каткова «Интернационалка») в 1871 г. были особенно характерны для Каткова и «Московских ведомостей» [104]104
См., например, Моск Вед,1871, № 205, 220, 235 и др.; ср. с письмом Тургенева к А. А. Фету от 26 сентября (8 октября) 1871 г.
[Закрыть].
Катков мечтал о создании в России сильного поместного дворянства, приспособившегося к капиталистическим условиям, типа английского landed gentry [105]105
В письме к А. А. Фету от 30 октября (11 ноября) 1871 г. Тургенев назвал Каткова «сочинителем нашей «gentry»».
[Закрыть], с которым связывал идею будущего прогресса страны. Биограф M. H. Каткова С. Неведенский (С. Г. Щегловитов) писал по этому поводу следующее: «…Катков уже в середине 1858 года высказывает в одном из политических обозрений горячий панегирик строю английской государственной жизни. <…> Его заветной мечтой было положить в основание обновлявшегося строя русской жизни твердый и способный к самоуправлению класс землевладельцев, наподобие английского» [106]106
Неведенский С.Катков и его время. СПб., 1888, с. 113, 116.
[Закрыть]. Далее, комментируя высказывание Каткова о том, что главенствующую роль в земстве должно занимать крупное поместное дворянство, С. Неведенский замечает: «Ему, в сущности, хотелось вызвать к жизни крепко сплоченный союз землевладельцев наподобие английского джентри…» [107]107
Там же, с. 158. С ростом революционного движения Катков стал относиться к земским учреждениям подозрительно и даже враждебно, отрицая необходимость для них самостоятельности и требуя их подчинения правительственным органам. Ср. с высказыванием Калломейцева о земстве в главе V «Нови»: «Да всё это земство! Это земство! К чему оно? Только ослабляет администрацию и возбуждает… лишние мысли <…> и несбыточные надежды…» (с. 163).
[Закрыть]. В романе носителем этой идеи выступает Калломейцев. В главах XXIII и XXIV описаны споры Соломина с Калломейцевым и Сипягиным о буржуазных начинаниях русского дворянства и его роли в русском обществе пореформенного периода, об английском landed gentry и возможности его создания в России. Соломин отрицает прогрессивную роль дворянства в новых социально-экономических условиях, он называет дворян «чиновниками» и «чужаками» и замечает, что «промышленные заведения – не дворянское дело», а дворяне мастера «заводить собственные кабаки да променные мелочные лавочки, да ссужать мужичков хлебом и деньгами за сто и за полтораста процентов» (с. 278–279). По поводу создания в России landed gentry Соломин замечает Калломейцеву, что «и желать-то этого не стоит», так как через двадцать – тридцать лет поместного дворянства вообще не будет, а «земля [108]108
В черновом автографе – «вся земля».
[Закрыть]будет принадлежать владельцам – без разбора происхождения» (с. 283).
Наблюдая над пореформенной Россией и размышляя о ее будущем, Тургенев пришел к выводу, что дворянство как класс уже сыграло свою роль: оно не только не способствует быстрому развитию новых, исторических прогрессивных общественно-экономических отношений, но, напротив, тормозит их. Идею будущего прогресса России Тургенев связал в «Нови» не с дворянством, а с разночинцами – «серыми, простыми, хитрыми Соломиными».
В образе либеральничающего сановника Сипягина уже некоторые современники Тургенева увидели характерные черты П. А. Валуева (см., например, приведенный выше отзыв о «Нови» С. К. Брюлловой – с. 511). М. К. Лемке, комментатор писем Тургенева к Стасюлевичу, также отметил, что в образе Сипягина «выставлены типичные черты гр. П. А. Валуева» (Стасюлееич,т. III, с. 93). Действительно, свойственные Валуеву стремления затушевывать принципиальные разногласия противников, умение искусно лавировать между консерваторами и либералами, пристрастие к витиеватой фразе, изящество и внушительность манер и т. д. – всё это получило яркое художественное воплощение в образе Сипягина. Достаточно в связи с этим вспомнить многочисленные речи Сипягина за столом и его попытки выступить в роли миротворца между Неждановым и Калломейцевым.
Исследователи Тургенева уже отмечали портретное сходство между Сипягиным и Валуевым и некоторые общие факты их служебной карьеры [109]109
См.: Бонецкий К. И.Роман Тургенева «Новь» в идейной борьбе 70-х годов. – В кн.: Тургенев И. С.Новь. М., 1959, с. 301.
[Закрыть]. Отметим также, что, набрасывая в «Формулярном списке» характеристику Сипягина, Тургенев использовал некоторые существенные моменты политической биографии Валуева: неопределенную позицию, занятую им во время подготовки и проведения крестьянской реформы (ср. с. 406), а также начавшиеся в бытность Валуева министром государственных имуществ расхищения башкирских земель в Оренбургской и Уфимской губерниях [110]110
Лит Насл,т. 76, с. 306.
[Закрыть](ср. фразу в «Формулярном списке»: «до „калмыцких“денег, однако, не доходило» – там же).
В процессе создания романа задуманные писателем образы изменялись и углублялись. Поэтому прототипы, намеченные Тургеневым в 1870–1872 гг., т. е. в начальный период работы над романом, нельзя считать единственно возможными реальными прототипами действующих лиц «Нови». Так, например, на изображение Марианны и Машуриной, как уже отмечалось выше, не могли не повлиять рассказы П. Л. Лаврова о замечательных русских девушках «цюрихской колонии». «Читая в свое время этот роман, – вспоминала В. Фигнер, – я поражалась верностью типов, выведенных в нем <…> Машурина – вылитый портрет Веры Любатович, которую мы прозвали „Волчонком“ за ее резкость, а Марианна очень напоминала мою сестру Лидию» (Фигнер,т. V, с. 62). «9/10 наших заговорщиц – Марианны», – писала другая замечательная современница Тургенева, С. К. Брюллова [111]111
Лит Насл, т. 76, с. 306.
[Закрыть].
А. Ф. Онегин (Отто) послужил основным прототипом образа Нежданова [112]112
См.: Чистова И.О прототипе главного героя романа И. С. Тургенева «Новь». (Из творческой истории романа). – Русская литература, 1964, № 4, с. 174–177.
[Закрыть]. Однако Нежданов напоминает А. Ф. Онегина более нравственно-психологическим обликом и фактами биографии [113]113
В. А. Громов, сославшись на воспоминания Н. А. Островской о Тургеневе, высказал предположение, что в образе Нежданова писатель отразил некоторые факты биографии и черты своего приятеля А. В. Топорова, который был незаконным сыном великого князя (см.: Громов В. А.«Воспоминания о Тургеневе» Н. А. Островской. – В кн.: Тургенев и его современники. Л., 1977, с. 208–209). Среди литературных прообразов Нежданова следует назвать прежде всего Гамлета, героя одноименной трагедии В. Шекспира. Подробнее об этом см.: Буданова Н. Ф.Роман «Новь» в свете тургеневской концепции Гамлета и Дон-Кихота. – Русская литература, 1969, № 2, с. 180–190.
[Закрыть], нежели политическими воззрениями. Скептицизм и уныние, разочарование в своем деле – эти черты Нежданова во многом были обусловлены конкретной исторической действительностью, когда после неудач «хождения в народ» в 1873–1874 годах частью русской интеллигенции овладели настроения разочарования и апатии [114]114
Об этом писала, в частности, В. Фигнер (Фигнер,т. I, с. 96); см. также статью: Чернавина А. И.С. Тургенев и журнал «Вперед!» К вопросу об истории создания романа «Новь». – Сборник студенческих научных работ ЛГУ. Серия гуманитарных наук. Л., 1963, с. 49–52.
[Закрыть]. Известны случаи самоубийств народников в этот период. Так, например, Иван Речицкий застрелился в Самаре во время ареста в 1874 г. [115]115
См.: Дебогорий-Мокриевич Вл.Воспоминания. 3-е изд. СПб., б. г., с. 159.
[Закрыть]Не случайно поэтому, что многие современники (в том числе и народники) признавали образ Нежданова жизненным и правдивым. Так, например, одна из «семидесятниц», Е. Н. Щепкина, писала о большой художественной правде образа Нежданова: «…между тем, принадлежа к первому поколению читателей романа, молодой курсисткой, я дивилась, как мог Тургенев за границей так хорошо подслушать мои беседы и споры с моим другом детства и юности, Валерианом Балмашевым (отец Степана, убийцы министра-Сипягина), до такой степени сомнения, неуверенность в себе Нежданова, шаткость на том пути, на который он вступил, были словно списаны с моего друга народника; то же отчаяние, душевная приниженность до отвращения к себе, вызываемая опьянениями от неизбежных посещений кабаков ради сближения с народной аудиторией. Но Балмашев своевременно подвергся аресту, просидел месяцев 10 в остроге и вышел из этой тяжкой школы на волю убежденным революционером, как многие его сверстники и современники. То же самое должен был испытать и Нежданов, но мог ли Тургенев в условиях цензуры описать деяния полиции и переживания политиков в тюрьмах?» [116]116
Щепкина Е.Героиня романа «Накануне» в кругу своих современниц. – Т сб,вып. 2, с. 148.
[Закрыть]
А. В. Луначарский, позднее высоко оценивший «Новь», заметил: «Такие типы, как Нежданов, встречались на каждом шагу…» [117]117
Луначарский А. В. Статьи о литературе. М., 1957, с. 210.
[Закрыть].
Образ Соломина в романе до сих пор вызывает споры и порождает самые разнообразные толкования [118]118
Соломина относят и к представителям зарождавшейся в России буржуазии, и к рабочей интеллигенции, и к буржуазным просветителям, и к народникам Лавровского направления – см.: Буш В.Народничество и «Новь» Тургенева. – В кн.: И. С. Тургенев. Л., 1934, с. 261–263; Макогоненко Г. П.Политический смысл романа Тургенева «Новь». – Уч. зап. Ленингр. ун-та, 1939, № 47, вып. 4, с. 264; Румянцева Э. М.Из творческой истории романа И. С. Тургенева «Новь». – Уч. зап. Ленингр. пед. ин-та им. А. И. Герцена, 1957, т. 150, вып. 2, с. 158–159; Батюто А. И.Роман «Новь» и «процесс пятидесяти». – Т сб,вып. 2, с. 203–204.
[Закрыть]. Это в значительной мере вызвано тем, что в подготовительных материалах к «Нови» Тургенев не назвал ни одного реального прототипа Соломина [119]119
Некоторые современники Тургенева делали попытки отыскать возможных реальных прототипов Соломина. Так, например, «Случайный летописец» (подлинную его фамилию раскрыть не удалось) в статье «Как работал И. С. Тургенев» вспоминал «одного
[Закрыть].
Закономерен вопрос: имел ли образ Соломина какую-либо реальную почву в русской действительности конца 1860-1870-х годов? Откуда Тургенев мог черпать наблюдения, создавая своего «постепеновца снизу»?
Проблемы революционного и эволюционного путей преобразования России были в центре внимания русской интеллигенции 1860-1870-х годов, оппозиционно настроенной к политике русского самодержавия и не удовлетворенной крестьянской реформой. Среди людей, искренне веривших в возможность «легального переворота» [120]120
Терминология журнала «Вперед!»
[Закрыть]во имя народа и при помощи народа, было немало честных, демократически настроенных и преданных народу русских интеллигентов.
П. Л. Лавров вел на страницах журнала «Вперед!» борьбу за этих людей, стремясь привлечь их на сторону революции и считая их «заблуждающимися». Обоснованию невозможности в России «легального переворота» и необходимости революционного пути для коренного преобразования России посвящены опубликованные в этом издании статьи «Потерянные силы революции (Письмо к несогласному)» [121]121
Вперед! Цюрих, 1874. Т. 2, с. 224–249.
[Закрыть]и «Неизбежная вражда (Переписка двух приятелей)» [122]122
Вперед! Лондон, 1874. Т. 3, с. 1–44.
[Закрыть]. В обеих статьях представлен спор революционера и «легалиста». «Легалист» считает, что народная революция – «дело не нашего поколения», что нужно «подготовлять в народе самосознание, вырастить в нем самодеятельность, воспользоваться существующими порядками, существующими легальными формами, чтобы вырастить то поколение, которое, сознав свои силы, привыкнув к деятельности в узкой сфере, развернет эти силы и в сфере более широкой…» [123]123
Вперед! Цюрих, 1874. Т. 2, с. 224–225.
[Закрыть]Основными орудиями, необходимыми для перевоспитания народа, по мнению «легалиста», являются артель и школа [124]124
Ср. с характеристикой, данной Соломину народником-лавристом М. И. Янциным, отметившим, что Тургенев выдвинул в качестве своего идеала «тип интеллигентного человека из народа, который смотрит на дело так, что переворот в социально-экономических отношениях должен быть результатом предварительного воспитания народа путем школ, артелей и т. д. Тургенев почти нигде не заставляет Соломина <…> высказываться прямо в этом смысле, но это проглядывает из отношения Соломина к деятельности революционеров-агитаторов» (Лит Насл,т. 76, С. 322).
[Закрыть].
Связь идей «легалиста» с программой «общественного служения», изложенной Тургеневым в письмах к А. П. Философовой (см. выше, с. 487), и с деятельностью Соломина, организовавшего на фабрике у Фалеева больницу, школу, а позднее в Перми завод на общественных началах, – несомненна.
Соломин, в понимании Тургенева, – не обычный буржуазный «постепеновец», рассчитывающий на реформы «сверху», а «постепеновец снизу», народный деятель и просветитель. Подобными же «постепеновцами снизу» были и те «легалисты», искренне преданные народу, которые верили в возможность «легального переворота» во имя народа и при помощи народа [125]125
Об идейной близости Соломина к «легалистам» см.: Буданова Н. Ф. Тургенев и Лавров в 70-е годы (Непериодическое обозрение «Вперед!» как источник «Нови»). – В кн.: Тургенев и его современники. Л., 1977, с. 88–109. Возможно, что Лавров также воспринял Соломина как своеобразного «легалиста». С учетом материалов «Вперед!» проясняется смысл определения «уравновешенный революционер», данного Соломину Лавровым, а также замечание последнего, что «не Маркеловым, Неждановым и Машуриным дано поднять русское крестьянство на восстание» и что люди, подобные Соломину, «могут подготовить почву, но и им не под силу разбудить крестьян». Успех будущей революции Лавров связывал с типом революционера, «более оснащенного и деятельного», «более способного придать стремительности движению» (Лит Насл,т. 76, с. 202, 203).
[Закрыть].
Поддержанию иллюзии плодотворных результатов, якобы достигаемых легальным путем, способствовали опыты немецкого буржуазного деятеля Б. Шульце-Делича в деле создания кооперативных товариществ и ссудо-сберегательных касс [126]126
О нем см.: Муратов А. Б.«Гейдельбергские арабески» в «Дыме». – Лит Насл,т. 76, с. 90, 104; см. также: Т, ПСС и П, Письма,т. VII, с. 13–14.
[Закрыть], а в России – деятельность Н. В. Верещагина (1839–1907), организатора артельных сыроварен и школы молочного хозяйства (1868 г.) в Тверской губернии, имевших положительные результаты.
Народник Вл. Дебогорий-Мокриевич вспоминает, что идеей верещагинской сыроварни был увлечен его брат Иван, который решил у себя в деревне устроить «маслобойню на ассоциационных началах». Задавшись целью «работать в деревне среди крестьян, для поднятия их благосостояния, Иван находил нужным для успеха дела прежде всего завести у себя в Луке образцовое хозяйство, которое практически знакомило бы крестьян с рациональным возделыванием земли…» [127]127
Дебогорий-Мокриевич Вл.Воспоминания. 3-е изд. СПб., б. г., с. 44.
[Закрыть]Попытки Ивана организовать маслобойню и образцовое хозяйство успеха не имели и были встречены крестьянами равнодушно [128]128
Там же, с. 66.
[Закрыть]. Вл. Дебогорий-Мокриевич, описывая жизнь киевской молодежи 1871–1873 годов, отметил, что эти годы характеризовались «борьбой революционного мировоззрения с другими мирными взглядами» [129]129
Там же, с. 71. В 1860-е годы одним из первых застрельщиков в деле организации ассоциаций были ишутинцы, использовавшие их в целях пропаганды социалистических идей (подробнее об этом см.: Виленская Э. С.Революционное подполье в России (60-е годы XIX в.). М.: Наука, 1965, с. 256–301).
[Закрыть].
Увлечение части интеллигенции легальными формами борьбы, в частности организацией школ, больниц, ассоциаций, артелей, получило отклик в художественной литературе [130]130
См., например, произведения Д. Л. Мордовцева «Знамения времени» (1869), И. В. Федорова-Омулевского «Шаг за шагом» (1870), К. Долгово «На новом пути» (Дело, 1871), С. И. Смирновой «Соль земли» (Отеч Зап,1872), К. М. Станюковича «Без исхода» (1873). См. также: Егоров Б. Ф.Роман 1860-х – начала 1870-х годов о «новых людях». Тарту, 1963.
[Закрыть]. Позднее многие «легалисты» разочаровались в этой форме борьбы, придя к выводу о ничтожности достигнутых результатов.
В Соломине, этом «постепеновце снизу», нашли отражение идеи буржуазно-демократического просветительства и либерального народничества. Вероятно, Тургенев не встречал тип Соломина «в чистом виде», однако в основе этого образа лежали жизненные наблюдения. Об этом свидетельствует прежде всего запись «Якушкина!» в черновых заметках к роману (с. 422). Елизавета Мардарьевна Якушкина [131]131
О ее муже, В. И. Якушкине, враче, связанном с революционными и демократическими кругами, см.: Чернов Н.Об одном знакомстве И. С. Тургенева. – Вопросы литературы, 1961, № 8, с. 188–193.
[Закрыть], соседка Тургенева (ее имение, Старухино находилось в семи верстах от Спасского), занималась просветительской деятельностью среди крестьян и пользовалась большим уважением писателя [132]132
В 1877 г. Тургенев рекомендовал E. И. Бларамберг, гостившей в Спасском, непременно познакомиться с Якушкиной (см. письмо к Е. И. Бларамберг от 15 (27) августа 1877 г.).
[Закрыть].
С записью «Якушкина!» очевидно связана и другая запись в «Заметках», поясняющая и углубляющая первую: «когда не Павлы будут готовы, а Дутики» (с. 421). По мысли Тургенева, русский народ в своей массе (не сознательные Павлы, а темные, невежественные Дутики) не созрел для революционной пропаганды, и потребуется длительное время для его воспитания и просвещения.
О характере общественной деятельности Е. М. Якушкиной (1836–1893), незаурядная личность которой приобретает особенный интерес в связи с творческой историей романа «Новь», дает отчетливое представление посвященная ей статья Е. Ардова-Апрелевой «Одна из немногих» [133]133
Рус Вед,1908, № 38 и 45, 15 и 23 февраля. О ней см. также некролог Л. Л. Толстого (Рус Вед,1893, № 69, 12 марта, с. 3) и в воспоминаниях Е. М. Гаршина (ИВ,1883, № 11, с. 394–396).
[Закрыть]. Якушкина безвыездно жила в своем имении Старухино, «отдавая свое время, свои средства, все свои помыслы старухинским крестьянам, которые были некогда в крепостной зависимости у ее богатого властного отца» [134]134
Рус Вед,1908, № 45, 23 февраля, с. 3.
[Закрыть]. Якушкина открыла в Старухино народную школу, организовала для крестьян ссудо-сберегательное товарищество, устраивала для народа еженедельные образовательные чтения, сдавала крестьянам в аренду землю по самой низкой цене. Все эти новшества встречали сопротивление местных властей и соседей-помещиков, среди которых она пользовалась репутацией «заразы уезда» и «дамы вредной» [135]135
Там же, № 38, 15 февраля, с, 2.
[Закрыть].
Пример деятельности Якушкиной убедительно показывает, что даже легальная просветительная работа в народе преследовалась местными властями, в глазах которых просветители, подобные Якушкиной, стремившиеся вывести народ из невежества и темноты, были опасными и вредными людьми. Этот факт бросает свет и на образ Соломина: становится понятным, почему казалось бы мирный путь, избранный Соломиным, также чреват опасностями (см., например, диалог Марианны и Соломина в главе XXX романа).
Идеи просветительства не были чужды в 1870-х годах и народнической среде, которая не была однородна по своему составу. Наряду с «бунтарями» (бакунинско-ткачевское направление) и пропагандистами-лавристами здесь встречались люди, ограничивавшиеся легальной, просветительской работой среди народа. Об этом свидетельствуют материалы «Процесса 50-ти». Так, например, во время следствия у народника Цвиленева было найдено письмо, неизвестный автор которого, очевидно близкой народническим кругам, предлагал народникам ограничиться «внимательным изучением массы и отдельных единиц ее, прививать отдельным единицам сознание и критику, но ни в каком случае не тенденциозную и поджигательную, и вносить в массу элементы человеческой культуры и затем всё предоставить переработке самого народа и истории» [136]136
Батюто А. И.Роман «Новь» и «процесс пятидесяти». – Т сб,вып. 2, с. 205.
[Закрыть]. Программа, намеченная в этом письме, близка к программе «легалиста» в упоминавшихся выше статьях журнала «Вперед!» Интересно, что это письмо было переслано Тургеневу неизвестным лицом «с пометой, что оно должно принадлежать Соломину» [137]137
Тургенев, в свою очередь, переслал это письмо В. Рольстону 7(19) апреля 1877 г., очевидно, как доказательство, что Соломины существовали в жизни и не выдуманы им.
[Закрыть].
VI
Полемика вокруг последнего романа Тургенева началась еще до его появления в печати. Летом 1876 г. у Тургенева в Спасском побывал А. В. Половцов. Результатом этого визита, во время которого состоялась беседа о «Нови», явился фельетон «У Ивана Сергеевича Тургенева», напечатанный в газете «С.-Петербургские ведомости» (1876, 29 июля (10 августа), № 207). Находясь под свежим впечатлением общения с писателем, Половцов отмечал, что Тургенев в «Нови» «относится к различным явлениям русской общественной жизни с тем же ясным и оригинальным критическим взглядом, который его всегда отличал» [138]138
См.: Мостовская Н.Из журнальной полемики вокруг «Нови» до публикации романа. (Забытые воспоминания А. В. Половцова). – Т сб,вып. 2, с. 188.
[Закрыть]. Благожелательное отношение Половцова к Тургеневу и его роману тотчас вызвало возражение со стороны демократической критики. Полемическим ответом на его фельетон была статья Н. К. Михайловского «Вперемежку», подписанная псевдонимом Г. Темкин, в которой говорилось, что Тургенев «не тот„большой человек“ <…> который должен рассказать нашу историю, воспеть наши горести и радости…» (Отеч Зап,1876, № 8 отд. II, с. 220). При этом Михайловский прозрачно намекнул на то, что одно из основных определений творчества Тургенева, данное в известной статье Добролюбова, явно устарело и уже не может быть использовано при оценке «Нови». «Когда-то было сказано, – продолжал Михайловский, – что г. Тургенев – человек „чуткий“, что всякое нарождающееся явление он немедленно схватывает и облекает в художественные образы. Было это сказано очень верно в свое время» (там же, с. 220). Отказывая Тургеневу в праве называться передовым писателем, Михайловский по существу дела осудил «Новь» еще до ознакомления с нею.
В защиту Тургенева от нападок Михайловского выступил С. А. Венгеров в статье «Письма о текущей литературе. Корифеи». Возражая против главного обвинения Михайловского, Венгеров писал: «…относительно Тургенева можно сказать, что его ни в коем случае не следует считать в окончательной отставке» (Новое время, 1876, № 254, 11 (23) ноября. Подписано псевдонимом «Фауст Щигровского уезда»). В следующем же номере газеты «Новое время», в принадлежавших перу В. П. Буренина «Литературных очерках», отмечалось также, что публика с нетерпением ждет от Тургенева нового романа и новых художественных типов.
К концу 1876 г. с «Новью» познакомились П. В. Анненков, вся редакция «Вестника Европы» и видные деятели либерального направления – К. Д. Кавелин и А. В. Головнин. У них отношение к роману было подчеркнуто положительным. Так, например, Анненков писал M. M. Стасюлевичу 17 (29) ноября 1876 г.: «…я давно не испытывал такого чувства, как при чтении этой „Нови“. Не говоря уже о жгучем ее интересе, о широкой картине нравов, которую она развертывает, о бесконечном мастерстве, с каким автор подходит к каждому лицу романа, но при чтении „Нови“ почти на всякой странице как будто загораются слова: быть большому трусу, потопу и колебанию в русской земле. Да, публика наша почти позабыла те времена, когда иной роман составлял для нее событие, – заставлял всех говорить только о себе, ругаться и божиться собой: „Нови“ суждено возвратить эти времена» (Стасюлевич,т 3, с. 334–335). Меньше чем через месяц, считаясь с возможностью неблагоприятной реакции на «Новь» «в кабинетах и подвалах литературных», Анненков писал Стасюлевичу: «Пожалуй, там сможет показаться роман и диффамацией целого поколения, между тем как он, по-моему, есть поэтическая и драматическая защита его <…> с мужественной откровенностью, не утаивающей никаких темных или сомнительных сторон дела. Это и есть художнический способ заявлять свое уважение к поколению, но надо понять это, что еще вопрос…» (там же, с. 336). 5(17) января 1877 г., «перечитав первую часть романа», Анненков признавался Стасюлевичу, что «мало хвалил его перед автором». «Мне открылась в нем, – продолжал Анненков с энтузиазмом, – вполне лучезарная фигура Марианны <…> Не совсем осиротела та земля, из которой поэт может извлекать такие типы. А вот подите – пожалуй, даже и после создания Марианны и Соломина станут упрекать еще Тургенева в неблагорасположении к молодому поколению и в непонимании его» (там же, с. 337).
Как видно из переписки Тургенева, редакционным кружком «Вестника Европы», а также Кавелиным и Головниным с особенным удовлетворением был воспринят образ Соломина и, в частности, его критическое отношение к «безумным» устремлениям революционно народнической молодежи. «Очень Вы меня порадовали тем, что сказали о „Соломине“, – писал Тургенев Стасюлевичу 24 ноября (6 декабря) 1876 г. – Значит, я попал в точку. Я Вам когда-нибудь покажу формулярный список этого Соломина <…> главным эпитетом, характеризующим Соломина, выставлено наверху большими буквами слово: трезвый.Вот как Вы угадали!» А 17 (29) декабря 1876 г. Тургенев писал Кавелину: «Что Соломин мне удался – вот что меня радует больше всего. Это было самое трудное». Как видно из того же письма Тургенева, Кавелину, как и большинству критиков «Нови», показались лишними вставные эпизоды с Фимушкой и Фомушкой. Отвечая на это замечание Кавелина, Тургенев признавался: «Я просто не устоял перед желанием нарисовать старорусскую картинку в виде d’un repoussoir <контраста> или оазиса, как хотите» (там же).
С выходом в свет январской книжки «Вестника Европы» за 1877 г. обсуждение романа вступило в новую фазу и приобрело исключительно бурный характер. «Новь» была встречена целым потоком критических статей и заметок прежде всего в газетах. Достаточно сказать, что только 6(18) января 1877 г. критические разборы «Нови» появились одновременно в «Голосе», «Новом времени» и «С.-Петербургских ведомостях». В дальнейшем нередки были случаи, когда одна и та же газета возвращалась к обсуждению романа по нескольку раз.
Среди значительной части русского общества 1870-х годов Тургенев имел репутацию писателя, давно утратившего былые прочные связи с русской жизнью, не способного уловить новые веяния в ней и потому вынужденного повторять самого себя. Некоторые особенности романа «Новь» и, в частности, характер Нежданова, напоминавший излюбленный Тургеневым тип рефлектирующего «лишнего человека» эпохи 1840-х годов, как будто подтверждали эту точку зрения на его творчество. С другой стороны, подавляющее большинство критиков Тургенева, располагавшее к моменту выхода в свет романа еще весьма смутными представлениями о народничестве, оказалось не в состоянии дать ему подлинно объективную оценку. К этому следует добавить, что у многих представителей как демократического, так и либерального лагеря были давние расхождения с писателем в связи с романами «Отцы и дети» и «Дым». Критическое отношение Тургенева к крайним «правым» и «левым» течениям общественно-политической мысли, выразившееся в этих романах, характерно и для «Нови». Все эти обстоятельства предопределили преимущественно негативный характер первых откликов на роман Тургенева в периодической печати.
Наиболее резкими были отзывы о «Нови» в газете А. А. Краевского «Голос». Первый из них принадлежал музыкальному критику Г. А. Ларошу [139]139
Авторство Г. А. Лароша установлено в статье Г. В. Степановой «Первые отклики печати на роман „Новь“». – Т сб,вып. 2, с. 192–194.
[Закрыть]. Развязно утверждая, что «Новь» это лишь «почтенные зады передового когда-то учителя, повторяемые с примесью какой-то старческой, порою несколько утомляющей болтливости», Ларош недвусмысленно отдавал предпочтение произведениям о революционном движении, созданным Крестовским, Достоевским, Лесковым и другими представителями антинигилистического направления в литературе. «Подпольные герои „Нови“, – писал Ларош, – не возбуждают к себе никакого художественного сочувствия <…> ни на йоту не прибавляют к запасу понятий об особенностях этого мира, полученных нами из предшествовавших его роману произведений других беллетристов» (Голос, 1877, № 6, 6(18) января). Особенное негодование Лароша вызвали сатирические портреты Калломейцева и Сипягина, которые были охарактеризованы им как «сомнительного вкуса шарж», увлекший Тургенева «за пределы всякой художественной и даже обыкновенной правды».
Вслед за Ларошем под псевдонимом «Волна» выступил на страницах «Голоса» беллетрист «Русского вестника» Б. М. Маркевич, издевательски назвавший «Новь» «огромным романом», наполненным «всякими современными повивальными бабками и тупицами из кадетов». В новом романе Тургенева он усматривал стремление автора к дешевой популярности и не без злорадства утверждал, что «Тургенев сослужил России всю службу, какую он мог сослужить ей. Почтим его за это душевною благодарностью, а из русских пророковон еще с „Дыма“ вышел» (там же, № 9, 9(21) января). После появления в печати второй половины романа Маркевич в том же «Голосе» обвинял Тургенева в «беспощадности к матушке Руси православной», что, по его мнению, сказалось в рассуждениях Паклина, а еще раньше – в речах Потугина. Процитировав из заключительной главы романа высказывания Паклина о неурядицах русской действительности, Маркевич напоминал демагогически: «Помните, что говорит про родину свою Потугин в „Дыме“?
„– Я ее страстно люблю – и страстно ненавижу!.. “ У Паклина – Потугина „Нови“ <…> осталась уже, как кажется, только вторая часть этой profession de foi…» (там же, № 36, 5(17) февраля).
Аналогичным образом была встречена «Новь» в реакционном издании кн. В. П. Мещерского – журнале-газете «Гражданин». Предвосхищая злопыхательские суждения о «Нови» в катковском «Русском вестнике», В. Оль, автор первой статьи о романе в журнале «Гражданин», писал, что изображаемые Тургеневым нигилисты «уже порядочно надоели»; что «в свое время они сыграли свою посильную роль, но теперь окончательно вышли из моды» («Новые главы „Анны Карениной“ и первая часть „Нови“». – Гражданин, 1877, 30 января (11 февраля), № 4). Подвергая критике тургеневские приемы изображения народнической молодежи и ее антагонистов, Сипягина и Калломейцева, автор этой статьи писал: «Краски, которыми автор очерчивает людей двух направлений, далеко не равны по своей силе. На деятелей смотрится со стороны положительной, хотя и признаются некоторые их слабости, а на консерваторов исключительно со стороны отрицательной. Мы невольно удивляемся, как <…> Тургенев мог остановиться на подобном приеме, уже давно практикуемом нашими тенденциознымироманистами».
В «Дневнике» князя В. П. Мещерского вторая часть романа была охарактеризована еще резче – как «гадость» и «мерзость», а сам Тургенев представлен человеком, лишенным чувства патриотизма. Так, например, имея в виду неждановское стихотворение «Сон», Мещерский отмечал: «…Написал оное сам Тургенев. Это его мысль по возвращении из России домой в Баден <…> И оттого-то так омерзительно это стихотворение <…> Для Тургенева русского это отвратительно. Для Тургенева Бадена и Парижа – это понятно» (Гражданин, 1877, № 5, 7(19) февраля, с. 142, 143).
В изданиях либеральной окраски суждения о «Нови» отличались большей сдержанностью лишь по форме. В. П. Буренин, выступивший в газете «Новое время» со статьей «Новый роман И. С. Тургенева» (подписана псевдонимом Тор), находил, что роман «в первой его части далеко не представляет свежести, силы и художественной определенности прежних крупнейших произведений знаменитого беллетриста <…> в новом произведении г. Тургенев с большим старанием и искусством подражает самому себе» (Новое время, 1877, № 308, 6(18) января). Не отрицая отдельных удач романиста, к которым относил изображение Сипягина и Марианны, Буренин вместе с тем отмечал, что главная фигура, Соломин, «не вытанцевалась у г. Тургенева и в ней очень мало жизненных черт». Следующая статья Буренина – Тора, посвященная второй части романа, была снабжена многозначительным эпиграфом из Лермонтова: «Я кончил – и в душе невольное сомненье». Здесь Буренин писал: «…роман знаменитого писателя представляет собою частью настоящую художественную правду, а частью ловкую подделку» (Новое время, 1877, № 337, 4(16) февраля. «Литературные очерки. „Новь“ И. С. Тургенева», с. 1).
Газета «Русское обозрение» восприняла «Новь» как не имеющий никакого общественного значения и к тому же запоздалый отклик на нечаевское дело. Явления вроде нечаевщины, – отмечал М. Л. Песковский в статье «Ложные идеи, ходульные герои и типы русской жизни», – «до того мелки, ничтожны, просто глупы, что невозможно даже придавать им политический характер, невозможно считать их общественными явлениями в обширном смысле». Поведение тургеневских героев определялось в этой статье как «детская игра в революцию» (Рус Обозр,1877, № 2, 8(20) января, с. 14, 16).
Отрицательные оценки романа, высказанные в момент появления его первой части, как правило, приобретали еще более суровый оттенок после ознакомления с романом в целом. Так, В. В. Марков, критик газеты «С.-Петербургские ведомости», в статье «Новый роман И. С. Тургенева» сначала весьма осторожно упрекал Тургенева лишь в связи с образом Нежданова, квалифицируя этот последний как «новое воспроизведение русско-гамлетовского типа», едва ли уместное в изменившихся общественно-политических условиях (СПб Вед,1877, № 6, 6(18) января). Спустя месяц тот же Марков писал: «В художественном отношении роман – решительно слаб и бледен; почти всё отзывается в нем деланностью, искусственностью <…> недостатки формы не искупаются в нем интересом или новизною идеи, положенной в его основание» (там же, № 34, 3(15) февраля). «Общий вывод о последнем романе Тургенева», предложенный читателям в третьей статье Маркова, был уже безоговорочно отрицательным. «Тургенев сказал свое слово, но в нем нет озарения, какого многие ожидали, – отмечал критик. – <…> Тургенев обманул общие ожидания, как художник, так как в романе его нет ни богатства поэтических красок, ни рельефности и правды характеров, ни даже увлекательного, живого рассказа…» Возвращаясь к характеристике Нежданова, Марков уже без всяких оговорок расценивал изображение этого героя как «новую вариацию устарелого типа сороковых годов», как «самоподражание», которое «вышло неудачным, да и слишком несвоевременным». Столь же категоричными и суровыми были суждения критика о других главных героях романа. Анализируя образ Соломина, критик утверждал, что это «лицо еще более придуманное и деланное, нежели <…> личность Марианны <…> Этот мнимый представитель новой России, – продолжал Марков, – лишен плоти и крови и неуловим для нас как призрак, как тень». В заключение своего отзыва Марков писал о Тургеневе: «Художественные его силы, по-видимому, упали; наблюдения его над русским обществом оказываются или поверхностными, или запоздалыми» (там же, № 43, 12(24) февраля).
Не менее отрицательным было отношение к роману в журнале «Пчела», где творческая неудача, якобы постигшая Тургенева, объяснялась его долгим пребыванием за границей, лишившим писателя возможности непосредственного и глубокого изучения русской действительности. В заключительной части «Журнальных заметок» о «Нови» (автор – В. Чуйко) об этом говорилось прямо: «Вся „Новь“, выступающая в романе, очевидно, не была наблюдаема, или круг наблюдений был до крайности сужен: до такой степени фигуры этих молодых людей бледны, не типичны, фальшивы не только в концепции, но и в выполнении; язык, которым они говорят, не их язык; обстановка, в которой они живут, не их обстановка; характеры не поняты, искажены» (Пчела, 1877, № 5, 30 января (11 февраля), с. 74).
В газете «Русский мир», поместившей статью о романе лишь после выхода в свет второй его части, «Новь» пренебрежительно называлась «длинным фельетоном», свидетельствующим о полном отказе Тургенева от художественного творчества. Осуждая буквально всех героев романа, анонимный автор «Русского мира» с особой неприязнью отнесся к попытке Тургенева нарисовать в лице Соломина образ положительного общественного деятеля. Видя в Соломине тип преуспевающего самодовольного буржуа, «попросту говоря, кулака и маклака», неизвестно по какой причине «сочувствующего хождению в народ», критик вопрошал: «Ликовать ли нам, что нашим детям предстоит попасть в загребистые лапы Соломиных? <…> если бы действительно русская жизнь подготовляла в будущем господство Соломиных, тогда… тогда лучше в Камчатку уйти!» ( Рус Мир,1877, № 35, 6(18) февраля. Подписано буквой W).