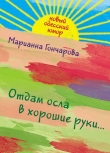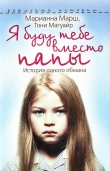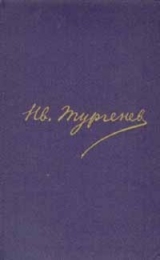
Текст книги "Том 9. Новь. Повести и рассказы 1874-1877"
Автор книги: Иван Тургенев
сообщить о нарушении
Текущая страница: 34 (всего у книги 42 страниц)
Вопрос о месте фантастического, о дани так называемой «демонологии» в творчестве русских и западноевропейских писателей затронут, в связи с «Рассказом отца Алексея» и «Призраками» Тургенева, также в «Литературном обозрении» «С.-Петербургских ведомостей» за май (подпись: П.); где высказывается мысль, что в противоположность писателям «реальной школы», в частности Вальтеру Скотту, у Шиллера, Диккенса, Жуковского и Тургенева эта тема разрабатывается так, что создается впечатление, «как будто они верят в существование привидений, призраков и вообще появление, под видом теней или звуков, сверхъестественных сил…» (СПб Вед,1877, № 159, 11 июня).
В «Нашем веке» рассказ получил безоговорочно положительную оценку как реалистическое произведение, лишенное какого бы то ни было мистического начала: «В „Рассказе отца Алексея“, в его теперешнем виде, вовсе нет ничего мистического, усмотренного в нем иными рецензентами. Это не более как психологический или, вернее, психиатрический этюд. Темой его является одностороннее помешательство сына священника Якова, помешавшегося в том, что его постоянно преследует чёрт. Рассказ ведется от лица отца, видящего в болезни сына наваждение злого духа. Написан рассказ с обычным мастерством г. Тургенева; язык в высшей степени типичен» (Наш век, 1877, № 69, 10 мая).
«Рассказ отца Алексея» почти не привлекал внимания дореволюционных и современных исследователей. Можно отметить лишь несколько упоминаний о нем в общих работах, посвященных творчеству Тургенева.
В современной литературе о Тургеневе рассказ обычно рассматривается в ряду его поздних полуфантастических произведений – «Сон», «Песнь торжествующей любви», «Клара Милич (После смерти)», – анализ которых увязан с характеристикой исторической обстановки и общей эволюции мировоззрения писателя-реалиста, творчество которого в целом было чуждо мистики и который в этих повестях и рассказах в особой художественной манере разрабатывал психологические темы [352]352
См., например, вступительную статью к восьмому тому «Собрания сочинений И. С. Тургенева» (Т, СС,т. 8, с. 547–555).
[Закрыть]. Наряду с этим выдвинуто, но недостаточно аргументировано положение о романтическом характере «таинственных» повестей и рассказов Тургенева и в частности «Рассказа отца Алексея» [353]353
Шаталов С. Е.«Таинственные» повести И. С. Тургенева. – Уч. зап. Арзамасск. гос. пед. ин-та, 1962, т. V, вып. 4, с. 57–61.
[Закрыть]. Это положение отчасти уточняется в последующих посвященных этим произведениям работах, где обосновывается мысль о соприкосновении Тургенева с романтизмом в некоторых аспектах изображения человеческих судеб и характеров при реалистической структуре его метода в главном, определяющем плане и признается наличие в последние годы у писателя, несмотря на рациональное решение основного философского вопроса бытия, отдельных мистических настроений (прежнее ощущение зависимости человека от неподвластных ему «недобрых» сил приобретает порой роковую окраску) [354]354
Курляндская Г. Б.«Таинственные повести» И. С. Тургенева (Проблемы метода и мировоззрения). – Третий межвузовский тургеневский сборник (Уч. зап. Курск. гос. пед. ин-та, т. 74). Орел, 1971, с. 5–8.
[Закрыть]. Автор специальной статьи о «Рассказе отца Алексея» Е. В. Тюхова, отталкиваясь от параллели между рассказом Тургенева и «Дневником писателя» Достоевского, приведенной в комментариях к предшествующему изданию ( Т, ПСС и П, Сочинения,т. XI, с. 533), и развивая ее далее, приходит к выводу, что «гуманистические стремления и религиозные сомнения тургеневского героя, его трагическая судьба характерны для шестидесятников и даже слишком очевидно отправляют нас к мученикам сознания больших романов Достоевского», в частности, сопоставляет Якова и Ивана Карамазова. Отмечая различие между Достоевским и Тургеневым как художниками и мыслителями, исследовательница видит их общие достижения в проникновении в сферу подсознания [355]355
Тюхова Е. В.«Рассказ отца Алексея» Тургенева и Достоевский. – Пятый межвузовский тургеневский сборник. Тургенев и русские писатели. (Науч. труды Курск. гос. пед. ин-та, т. 50 (143)). Курск, 1975, с. 65–81.
[Закрыть].
Кроме французского перевода «Рассказа отца Алексея», опубликованного в «La République des Lettres», известен также немецкий перевод, выполненный П. Линдау, редактором журнала «Gegenwart». Рассказ был выслан Тургеневым Линдау в ответ на просьбу поддержать своим участием вновь задуманный им ежемесячник «Nord und Süd». Отправляя ему «Рассказ отца Алексея», Тургенев писал 13 (25) апреля 1877 г.: «…Ваше желание с радостью исполню. Посылаю Вам при этом маленький, но очень мрачный рассказ. (Настоящее название: „Рассказ отца Алексея“. Возможно, следует предпочесть „Сын попа“). После опубликования французского перевода я еще кое-что добавил и вписал. То, что Вы сами хотите переводить меня, мне весьма приятно. Я еще помню Ваш поистине классический перевод „Сна“» (перевод с немецкого). Перевод рассказа П. Линдау напечатал не в «Nord und Süd», а в «Gegenwart» («Was Vater Alexis erzählt». Von Iwan Turgenjew. Übersetzt von P. L. – Die Gegenwart, 1877, N 19, 12 Mai, S. 299–304).
Новь
Источники текста
Подготовительные материалы к роману «Новь» (Заметка о замысле романа, «Формулярный список лиц новой повести», две редакции конспекта романа – «Краткий рассказ новой повести» и «Рассказ новой повести», Разные заметки). 41 л. Хранятся в отделе рукописей Bibl Nat,Slave 76; описание см.: Mazon,р. 79–80; фотокопия – ИРЛИ,P. I, оп. 29, № 339. Опубликовано: Revue des études slaves, 1925, т. V, вып. 1–2, p. 85–112 (вторая редакция «Рассказа», не полностью; разные заметки опубликованы впервые: Т, ПСС и П, Сочинения,т. XII, с. 340–342).
«Новь», роман Ивана Тургенева. Черновой автограф в 3-х тетрадях. 492 листа авторской пагинации. Хранится в отделе рукописей Bibl Nat,Slave 89, 90, 91; описание см.: Mazon,р. 86–88; фотокопия – ИРЛИ,P. I, оп. 29, № 320–322.
«Новь». Наборная рукопись – беловой автограф. 298 листов авторской пагинации. Хранится в Отделе рукописей ГПБ,ф. 795, № 25; описание см.: Отчет ИПБза 1883 г. СПб., 1885, с. 259; Заборова Р. Б.Рукописи И. С. Тургенева. Л., 1953, с. 20–21.
Корректура (гранки) «Вестника Европы» с авторской правкой. 41 л. (между л. 31 и 32 – телеграмма Тургенева к M. M Стасюлевичу от 3 (15) января 1877 г.). Хранится в ГПБвместе с наборной рукописью (см. выше); описание см.: Заборова Р. Б.Рукописи И. С. Тургенева, с. 20–21.
«Орловский вестник», 1876, 24 декабря (5 января 1877), № 100 (конец второй главы романа от слов: «Господин Нежданов дома?» и вся третья глава).
BE,1877, № 1, с. 5–136; № 2, с. 465–580.
Т, Новь, 1878– Новь. Роман в двух частях И. С. Тургенева. М.: изд. Ф. И. Салаева, 1878.
Т, Соч, 1880,т. 5., с. 193–500.
Т, ПСС, 1883,т. 5, с. 219–568.
Впервые опубликовано: BE,1877, № 1 и 2, с подписью: Иван Тургенев – и с пометой: с. Спасское-Лутовиново, 1876; перепечатано: Лейпциг, В. Гергард, 1877 (Русская библиотека, т. 37–38).
Печатается по тексту Т, ПСС, 1883с учетом списков опечаток, приложенных к книжкам 1 и 2 «Вестника Европы» (1877) и к изданию 1880 г., а также опечаток, указанных Тургеневым в письмах к М. М. Стасюлевичу (см.: Т, ПСС и П, Письма,т. XII, кн. 1, № 4094, 4100, 4103, 4110, 4112, 4117, 4119, 4128, 4142, 4173, 4178 и 4188), и с устранением явных опечаток, не замеченных писателем.
В текст Т, ПСС, 1883внесены следующие исправления по другим источникам:
Стр. 133, шмуцтитул.Эпиграф помещается после заглавия «Новь» (по письму Тургенева к Ф. И. Салаеву от 22 июня (4 июля) 1877 г.). Ранее ошибочно печатался после обозначения: «Часть первая».
Стр. 138, строка 5:«застарелой дурной привычке» вместо «застарело-дурной привычке» (по всем другим источникам).
Стр. 145, строки 21–22:«индивидуй!» вместо «индивидуум!» (по всем другим источникам и по письму Тургенева к M. M. Стасюлевичу от 1 (13) декабря 1876 г.).
Стр. 149, строка 22:«Озаряя» вместо «озирая» (по всем другим источникам).
Стр. 154, строка 1:«Оттого-то я и повторяю» вместо «Оттого-то я повторяю» (по всем другим источникам).
Стр. 164, строка 9:«фигюрируют» вместо, «фигурируют» (по всем источникам до Т, Соч, 1880).
Стр. 165, строки 36–37:«русые густые волосы» вместо «русые и густые волосы» (по наборн. рукоп., BE, Т, Новь, 1878и Т, Соч, 1880).
Стр. 169, строка 22:«топотал» вместо «топал» (по черн. автогр., наборн, рукоп., BE).
Стр. 169, строки 40–41:«азиатщина» вместо «азиятщина» (по черн. автогр., наборн. рукоп., BE, Т, Новь, 1878, Т, Соч, 1880).
Стр. 171, строка 28:«грачиный гам» вместо «гам грачиный» (по всем другим источникам).
Стр. 179, строка 10:«к обедне в церковь» вместо «к обедне» (по черновому автографу).
Стр. 190, строка 40:«переночуете» вместо «ночуете» (по черн. автогр., наборн. рукоп., BE).
Стр. 201, строки 33–34:«а всякий это чувствует по себе» вместо «а всякий чувствует по себе» (по всем другим источникам):
Стр. 203, строка 1:«За раскрытыми дверями» вместо «За закрытыми дверями» (по всем другим источникам).
Стр. 209, строка 5:«опять мгновенно глянула» вместо «мгновенно глянула» (по всем другим источникам).
Стр. 211, строка 1:«пачки» вместо «пучки» (по черн. автогр., наборн. рукоп., BE, Т, Новь, 1878).
Стр. 221, строка 43:«подоконнике» вместо «подоконнице» (по черн. автогр., наборн. рукоп., BE).
Стр. 227, строка 17:«дать их ему на дом» вместо «дать ему на дом» (по черн. автогр., наборн. рукоп., BE).
Стр. 230, строка 6:«с красными коленками и локтями» вместо «с красными коленками или локтями» (по корректуре BEи BE).
Стр. 231, строки 41–42:«прилизанный человечек» вместо «прилизанный человек» (по черн. автогр., наборн. рукоп., BE, T, Новь, 1878);
Стр. 245, строки 12–13:«должо́н он сказать» вместо «должен он сказать» (по наборн. рукоп., BE, T, Новь, 1878).
Стр. 247, строка 27:«вздумал» вместо «выдумал» (по черн. автогр. и наборн. рукоп.).
Стр. 248, строка 8:«зарабатывали» вместо «заработывали» (по черн. автогр. и наборн. рукоп.).
Стр. 248, строка 30:«это» вместо «эта» (по черн. автогр. и наборн. рукоп.).
Стр. 261, строка 35:«помолчал» вместо «молчал» (по черн. автогр., наборн. рукоп., BE, T, Новь, 1878).
Стр. 264, строки 2–4:«что она негодовала бы, если б не удивлялась, и удивилась бы еще более, если б частью не презирала, частью не сожалела…» вместо «что она негодовала бы, если б частью не презирала, частью не сожалела…» (по всем другим источникам).
Стр. 265, строка 35:«скользили по ее фигуре» вместо «скользили по фигуре» (по всем другим источникам).
Стр. 299, строка 8:«вы сию минуту упомянули» вместо «в сию минуту упомянули» (по черн. автогр. и наборн. рукоп.).
Стр. 308, строка 44:«нам свидеться» вместо «свидеться» (по черн. автогр., наборн. рукоп., BE, T, Новь, 1878).
Стр. 324, строка 35:«в стекла окон» вместо «в стекло окон» (по черн. автогр. и наборн. рукоп.).
Стр. 338, строки 41–42:«какое-то печальное» вместо «как-то печальное» (по черн. автогр. и наборн. рукоп.).
Стр. 347, строка 14:«Как в тот раз» вместо «Как тот раз» (по черн. автогр. и наборн. рукоп.).
Стр. 363, строки 7–8:«повторил угрюмо Маркелов» вместо «повторял угрюмо Маркелов» (по наборн. рукоп., BE, T, Новь 1878, Т, Соч, 1880).
Стр. 364, строки 35–36:«одно из заподозренных мною лиц» вместо «одно из заподозренных лиц» (по наборн. рукоп., BE, T, Новь, 1878).
I
Первую запись о замысле романа «Новь», сделанную Тургеневым в июле 1870 г., отделяют от окончания черновой рукописи (июль 1876 г.) целые шесть лет. «Идея у меня долго вертелась в голове, я несколько раз принимался за исполнение – но наконец написал всю штуку, как говорится, с плеча», – писал Тургенев Я. П. Полонскому 22 января (3 февраля) 1877 г. Быстрому созданию черновой рукописи (сам писатель на титульном листе чернового автографа определил этот срок как «5 месяцев и 25 дней») предшествовал длительный начальный период работы над романом, который можно разбить на следующие этапы:
1) 1870–1872 гг. Предварительные наброски к роману: Заметка о замысле (1870), «Формулярный список лиц новой повести» (1872), первая редакция конспекта романа (1872).
2) 1873–1874 гг. Собирание дополнительных материалов для романа.
3) 1875 г. Вторая редакция конспекта романа. Недатированные странички с разными заметками.
Подготовительные материалы к роману, хранящиеся в Парижской национальной библиотеке и в основной своей части опубликованные А. Мазоном [43]43
Mazon A.L’élaboration d’un roman de Turguénev: «Terres vierges»; – Revue des études slaves, 1925, t. 5, fasc. 1–2, p. 85–108.
[Закрыть], дают наглядное представление о начальном периоде работы над романом.
Первым документом в творческой истории «Нови» является заметка о замысле романа, помеченная: «Баден-Баден. Пятница,29/17 июля 1870, без четверти10»:
«Мелькнула мысль нового романа. Вот она: есть романтики реализма~ Русский революционер» (с. 399).
Здесь же намечены: тип «красивой позерки»,«тип девушки тоже несколько изломанной, „нигилистки“, но страстной и хорошей», и некоторые другие персонажи будущего романа.
Фабула романа в тот момент не была еще ясна Тургеневу; для него очевидно только то, что «№ 1 (Нежданов) должен кончать самоубийством. Нигилистка (не назвать ли ее Марианной?) сперва увлекается им и бежит с ним – потом, разубедившись, живет с № 2 <Соломиным>» (с. 400). Писатель с самого начала предполагал внести в роман «элемент политически-революционерный» (там же).
Помещенный на оборотной стороне листа этой заметки перечень действующих лиц романа с точным обозначением фамилии, имени, отчества и указанием года рождения и возраста каждого лица к моменту начала действия романа – 1868 г. – сопровождается в ряде случаев пояснениями автора, касающимися биографии его героев, или краткими характеристиками (например, о Машуриной сказано, что она «ниг<илистка> pur sang» [44]44
чистокровная (франц.).
[Закрыть]).
Несколько ниже этого перечня расположен список тех же действующих лиц с их зашифрованными характеристиками (см. с. 400–401). А. Мазон расшифровал эти записи на основе тщательного изучения «Формулярного списка лиц новой повести» и других подготовительных материалов, куда Тургенев позднее включил эти характеристики, расширив и углубив их [45]45
См.: Revue des études slaves, 1925, t. 5, fasc. 1–2, p. 90. Вызывает сомнение лишь расшифровка характеристики Остродумова как «тип будущего», так как в рукописи отчетливо написано «туп», что, очевидно, означает «тупец» (ср. с «Формулярным списком», с. 408). Добавим также, что помета «озлобл<енный>», вписанная ниже упоминания фамилии Маркелова, несомненно, относится к нему и является одной из характерных черт этого персонажа (там же).
[Закрыть]. Составление перечня действующих лиц романа отнесено А. Мазоном к февралю 1872 г., так как именно этим временем сам писатель датирует «Формулярный список лиц новой повести», созданный им, по-видимому, вскоре после «перечня» и на его основе.
«Формулярный список» содержит одиннадцать подробных характеристик основных действующих лиц романа, сопровождаемых биографическими справками. Большой интерес здесь представляют и те авторские определения персонажей, которые не воспроизведены дословно в окончательном тексте романа, но помогают отчетливее уяснить сущность образов. Таковы, например, пояснения, относящиеся к Марианне: «Энергия, упорство, трудолюбие, сухость и резкость, бесповоротность – и способность увлекаться страстно»; Сипягину: «Во время эмансипации находил, что напрасно крестьянам дают землю, потом, однако, перешел на сторону Милютина»; Машуриной: «Способна на всякое самоотвержение <…> Нечаев делает из нее своего агента» (см. с. 405, 406 и 408). Ценны здесь и авторские указания на реальные прототипы героев романа.
Февралем 1872 г. сам Тургенев датировал также первую редакцию «Рассказа новой повести», представляющую собой конспект романа. Следует отметить, что внешняя сюжетная линия романа в дальнейшем не претерпела значительных изменений, в то время как наблюдения писателя над русской действительностью 1870-х годов (вплоть до 1876 г.) определили конкретное историческое содержание произведения: роман о революционерах «вообще» стал романом о народниках и о «хождении в народ».
Первые упоминания Тургенева о работе над «Новью» содержатся в его письмах конца 1872 г. 17 (29) октября он сообщал Я. П. Полонскому о задуманном романе, а 21 декабря 1872 г. (2 января 1873 г.) писал С. К. Кавелиной: «…я сам понимаю и чувствую, что мне следует произвести нечто более крупное и современное – и скажу Вам даже, что у меня готов сюжет и план романа, ибо я вовсе не думаю, что в нашу эпоху перевелись типы и описывать нечего – но из двенадцати лиц, составляющих мой персонал, два лица [46]46
Очевидно, Нежданов и Соломин.
[Закрыть]не довольно изучены на месте – не взяты живьем; а сочинятьв известном смысле я не хочу – да и пользы от этого нет никакой, ибо никого обмануть нельзя. След., нужно набраться материалу. А для этого надо жить в России <…> И выходит изо всего этого, что мне надо стараться помочь горю хоть временными пребываниями на Руси, что я и намерен привести в исполнение. Но достаточны ли будут эти наезды? Это скажет мне моя литературная совесть. Коли да – напишу мой роман; коли нет – ну и аминь!»
В дни кратковременного пребывания в России в 1872 г. (немногим больше месяца) Тургеневу удалось сделать некоторые дополнительные наблюдения для задуманного им романа. Н. А. Островская приводит в своих воспоминаниях рассказ Тургенева о том, как летом 1872 г. в деревне писатель встречал «опростившуюся» девушку, которая нанялась в кухарки, «чтобы сблизиться с простым народом и на себе испытать его жизнь» [47]47
Т сб (Пиксанов),с. 104; ср. с фразой Марианны о том, что она могла бы «в кухарки пойти» (глава XXVII).
[Закрыть].
Упоминания о работе над романом встречаются и в письмах Тургенева 1873 г. (см., например, письма к Ю. Шмидту от 10 (22) января 1873 г., M. M. Стасюлевичу от 26 января (7 февраля) 1873 г., М. В. Авдееву от 26 апреля (8 мая) 1873 г.).
Этим романом писатель намерен был завершить свою «литературную карьеру», распрощаться с читателями, рассеять «недоразумения», возникшие между ним и молодежью со времени «Отцов и детей». «Что же касается до новой повести, – писал Тургенев Стасюлевичу 26 января (7 февраля) 1873 г., – то имею Вам сказать, что она разрастается до исполинских размеров – величиною она превзойдет всё, что я до сих пор написал <…> Так как я на этой повести имею намерение раскланяться с читателями, то я хочу положить в нее всё, что у меня на душе, благо сюжет попался – как мне кажется – подходящий».
Роман должен был стать, по замыслу писателя, одним из самых значительных его произведений; некоторым героям романа Тургенев надеялся придать «нечто от базаровской широты» (письмо к Ю. Шмидту от 24 апреля (6 мая) 1873 г.). Позднее, в письме к M. E. Салтыкову Тургенев также сближал будущую «Новь» с «Отцами и детьми». «Оттого мне и не хотелось бы исчезнуть с лица земли, не кончив моего большого романа, который, сколько мне кажется, разъяснил бы многие недоумения и самого меня поставил бы так и там – как и где мне следует стоять», – писал он 3(15) января 1876 г.
Роман (Тургенев часто называет его «повестью») был обещан Стасюлевичу для «Вестника Европы». В письмах к Стасюлевичу за 1873 г. Тургенев постоянно отодвигал срок окончания романа (первоначальный – июль 1873 г., когда писатель собирался приехать в Россию «с готовой повестью под мышкой», – см. письмо к М. М. Стасюлевичу от 26 января (7 февраля) 1873 г.).
Работа подвигалась туго главным образом из-за недостатка свежих русских впечатлений. Так, например, Тургенев писал А. Ф. Писемскому 17(29) марта 1873 г., что «нельзя, решительно нельзя писать русские вещи, рисовать русскую жизнь, пребывая за границей», а в письме к Ю. Шмидту от 24 апреля (6 мая) 1873 г. выражал желание «подышать русским воздухом».
По первоначальному замыслу в заглавии романа, очевидно, должно было отразиться намерение писателя «распрощаться с читателями». В письме к Авдееву от 26 апреля (8 мая) 1873 г. Тургенев благодарил его «за приятельский совет насчет заглавия <…> будущей повести» и сообщал: «…если ей суждено явиться – в чем я начинаю сильно сомневаться, – то не под прежде придуманным мною заглавием, которое, в сущности, есть не что иное, как претензия.
Вот уже точно можно сказать, пародируя Лермонтова: „Какое дело нам“… в последний раз или не в последний ты пишешь?»
Медленно шла работа над романом и в начале 1874 г. «Начатая мною большая вещь не подвигается вовсе: за границей положительно нельзя писать русских вещей», – жаловался писатель Авдееву 19(31) января 1874 г. Подобные жалобы звучат в это время и в других письмах: «…большой затеянный мною роман <…> решительно стал ни тпру, ни ну– как лошадь с норовом» (Стасюлевичу от 10(22) февраля 1874 г.); «Большой роман положен под сукно» (А. Ф. Онегину от 8(20) марта 1874 г.) и т. д.
Пребывание Тургенева в России с 7(19) мая по 20 июля (1 августа) 1874 г. подняло его творческое настроение. «Я очень доволен нынешним своим визитом в Россию – но в то же время я убедился, что, если я хочу сделать что-нибудь дельное, современное, большое, словом, если я хочу окончить задуманный – и начатый – мною роман, я непременно должен <…> вернуться на зиму в Петербург», – писал Тургенев П. В. Анненкову 12(24) июня 1874 г. О впечатлениях писателя от поездки на родину дает яркое представление его письмо к Ж. Этцелю от 27 августа (8 сентября) 1874 г.: «Я отправился в Россию, чтобы сделать некоторые наброски, необходимые для окончания чертовски большого романа, который я начал 3 года назад и который никак не поддается завершению. Сначала всё шло очень хорошо (я имею в виду поездку, а не роман) – я наполнялся водой, как цистерна – правда, водой мутноватой и даже грязной, но всё это отстоялось бы впоследствии, – я усиленно работал над моими набросками – и вдруг, трах! явилась эта дурацкая болезнь <…> Из-за этого я ничего и не сделал, и меня это несколько тяготит».
В 1870–1872 гг. Тургенев сделал основные подготовительные наброски к роману, а в 1873–1874 гг. собирал дополнительный материал к нему, характеризующий время революционного хождения в народ русской интеллигенции.
Наряду с поездками Тургенева в Россию существовали и другие источники, в которых писатель мог черпать сведения по интересующей его теме.
В 1870-х годах в России слушался ряд политических процессов (нечаевский – 1871 г., долгушинцев – 1874 г., В. М. Дьякова, А. И. Сирякова и др. – 1875 г.), велись массовые аресты участников «хождения в народ» в 1874–1875 годах и связанные с ними позднейшие процессы «50-ти» и «193-х» [48]48
См.: Батюто А. И.Роман «Новь» и «процесс пятидесяти»; Буданова Н. Ф.Роман «Новь» и процесс долгушинцев ( Т сб,вып. 2, с. 182–185, 195–209).
[Закрыть]. Тургенев читал опубликованные в русской и заграничной прессе материалы этих процессов, а также брошюры и прокламации народников [49]49
См. письма к П. Л. Лаврову от 28 августа (9 сентября) 1875 г, и 1(13) февраля 1876 г.
[Закрыть], в письмах к друзьям он интересовался слухами о предстоящих арестах. Личное знакомство писателя с адвокатами, выступавшими на политических процессах – А. И. Урусовым, К. К. Арсеньевым, В. Д. Спасовичем и некоторыми другими, – открывало Тургеневу возможность ознакомления с подробностями судебных дел, не попавшими в печать.
Важным источником информации о народничестве были также дружеские связи писателя с революционерами-эмигрантами, особенно с одним из идеологов народничества – П. Л. Лавровым, издававшим в 1873–1876 гг. за границей журнал «Вперед!», в котором большое внимание уделялось революционному движению в России. Тургенев был подписчиком этого журнала, с интересом его читал и положительно отозвался о его программе в письме к Лаврову от 1(13) июля 1873 г. Писатель, не разделяя революционной и социалистической программы Лаврова, с сочувствием относился к его деятельности. Тургенев, вспоминал позднее Лавров, «…не высказывал надежды на то, чтобы наша попытка расшевелить русское общество удалась; напротив, тогда, как и после, он считал невозможным для нас сблизиться с народом, внести в него пропаганду социалистических идей. Но во всех его словах высказывалась ненависть к правительственному гнету и сочувствие всякой попытке бороться против него <…> Он никогда не верил, чтобы революционеры могли поднять народ против правительства, как не верил, чтобы народ мог осуществить свои „сны“ о „батюшке Степане Тимофеевиче“, но история его научила, что никакие „реформы свыше“ не даются без давления,и энергического давления, снизу на власть; он искал силы, которая была бы способна произвести это давление, и в разные периоды его жизни ему представлялось, что эта сила может появиться в разных элементах русского общества» ( Революционеры-семидесятники,с. 25–26).
Тургенев с интересом расспрашивал Лаврова о жизни русской революционной молодежи в Цюрихе, «о группе молодых девушек, живших отшельницами и самоотверженно отдававших свое время, свой труд, свои небольшие средства» изданию журнала «Вперед!» (там же, с. 24). Некоторые из них – С. И. Бардина, Л. Н. Фигнер, Е. Д., М. Д. и Н. Д. Субботины, В. С. и О. С. Любатович и др. – позднее стали участницами известного «процесса 50-ти». Тургенев даже намеревался посетить в июне 1873 г. «цюрихскую колонию», чтобы изучить жизнь революционной молодежи, но эта поездка расстроилась [50]50
См. письма к Лаврову от 20 мая (1 июня) и 28 мая (9 июня) 1873 г.; см. также письмо Лаврова к Е. А. Штакеншнейдер от 4(16) февраля 1873 г. (Гол Мин,1916, № 9, с. 135). Члены «цюрихской колонии» знали о предполагаемом приезде Тургенева и желании его «познакомиться с заграничными студентками, с целью запастись материалом для замышляемого романа», но встретили это намерение писателя отрицательно, не желая «смотрин» (Фигнер,т. 5, с. 61).
[Закрыть].
В 1874 г. произошла известная полемика между вождями революционного народничества – П. Н. Ткачевым и П. Л. Лавровым, обменявшимися брошюрами, в которых была изложена политическая программа обоих направлений [51]51
См.: Ткачев П. И.Задачи революционной пропаганды в России. (Лондон), 1874; < Лавров П. Л.>. Русской социально-революционной молодежи. По поводу брошюры: Задачи революционной пропаганды в России. Лондон, 1874.
[Закрыть]. Эта полемика имеет отношение к творческой истории романа «Новь».
В противоположность Лаврову, отстаивавшему идею «всенародной социальной революции», требующей длительной подготовки путем пропаганды революционных идей в народе, Ткачев, будучи сторонником бланкистской, заговорщической тактики, считал, что народ в любой исторический момент готов к революции и может ее совершить; задача революционеров, по мнению Ткачева, состояла прежде всего в призыве народа к немедленному восстанию. В 1875 г. Ф. Энгельс откликнулся на эту полемику статьями «Эмигрантская литература» [52]52
Энгельс Ф.Эмигрантская литература. Статьи III и IV–Volksstaat, 1874, № 117 и 118, 6 и 8 октября; 1875, № 36 и 37, 28 марта и 2 апреля; см. также: Маркс К. и Энгельс Ф.Сочинения. 2-е изд. М.: Госполитиздат, 1961. Т. 18, с. 518–536.
[Закрыть], в которых он высмеял ребяческие представления Ткачева о революции, охарактеризовав его самого как «зеленого, на редкость незрелого гимназиста» [53]53
Маркс К. и Энгельс Ф.Сочинения, т. 18, с. 522.
[Закрыть].
Тургенев был знаком с обеими брошюрами и принял в этой полемике сторону Лаврова. «В Вашей полемике против Ткачева Вы совершенно правы, – писал он Лаврову 23 ноября (5 декабря) 1874 г.; – но молодые головы вообще будут всегда с трудом понимать, чтоб можно было медленно и терпеливо приготовлять нечто сильное и внезапное…» Полемика 1874 г. обогатила представление Тургенева о различных направлениях в среде русской революционной молодежи и повлияла на изображение народников в «Нови», которые по характеру своей деятельности (прямая пропаганда крестьянского бунта) близки к бакунинско-ткачевскому направлению в народничестве.
Наконец, ценный материал для знакомства с русской революционной молодежью сообщила Тургеневу летом 1874 г. известная общественная деятельница А. П. Философова, приславшая писателю портфель с бумагами (письма, дневники, стихотворения и пр.) В. Г. Дехтерева, И. И. Дитятина и других «новых людей». Существенны для понимания романа письма Тургенева к Философовой, в которых писатель изложил свою программу общественного служения народу, особенно необходимого, по его мнению, в пореформенный период. Тургенев, характеризуя «новых людей», подобных Дехтереву, упрекал их в «скудости мысли, в отсутствии познаний – и, главное: в бедности, в нищенской бедности дарования» (письмо к Философовой от 18(30) августа 1874 г.). Дехтерев послужил прототипом сатирического образа Кислякова в «Нови», в уста которого писатель вложил строчку «социалистического» стихотворения Дехтерева «Люби не меня, но идею» [54]54
Почти дословно совпадает с подлинной фразой из стихотворения Дехтерева, приведенной Тургеневым в письме к Философовой от 6(18) августа 1874 г. О Дехтереве как прототипе Кислякова упоминает Лавров (Революционеры-семидесятники,с. 28).
[Закрыть]. Писатель понимал, что по тем представителям «новых людей», с документами которых его познакомила Философова, нельзя судить о революционной молодежи в целом. «Нет, – писал ей Тургенев 6(18) августа 1874 г., – <…> это еще не новыелюди; я знаю таких между молодыми, которым гораздо более приличествует подобное наименованье». И далее в письме от 18(30) августа 1874 г.: «Я бы мог назвать Вам молодых людей с мнениями гораздо более резкими, с формами гораздо более угловатыми – перед которыми я, старик, шапку снимаю, потому что чувствую в них действительное присутствие силы, и таланта, и ума» [55]55
Возможно, что одним из таких, по мнению Тургенева, «настоящих» новых людей был Г. А. Лопатин, с которым писатель часто встречался в 1870-е годы в Париже и которого, по свидетельству Лаврова, он «очень полюбил» (см.: Лавров П. Л.Г. А. Лопатин. Пг.: Колос, 1919, с. 42; см. также отзыв о Лопатине в письме Тургенева к Лаврову от 23 ноября (5 декабря) 1874 г.).
[Закрыть].
Программа скромной и незаметной, но необходимой просветительской деятельности среди народа, изложенная Тургеневым в письмах к Философовой от 11(23) сентября 1874 г. и 22 февраля (6 марта) 1875 г., помогает уяснению идейного смысла романа «Новь» и образа Соломина [56]56
Связь этих высказываний с образом Соломина впервые отметил П. Л. Лавров (Революционеры-семидесятники,с. 30).
[Закрыть]. По мнению Тургенева, в России пора Базаровых прошла, и для «предстоящей общественной деятельности не нужно ни особенных талантов, ни даже особенного ума – ничего крупного, выдающегося, слишком индивидуального; нужно трудолюбие, терпение; нужно уметь жертвовать собою безо всякого блеску и треску – нужно уметь смириться и не гнушаться мелкой и темной и даже низменной работы». Далее Тургенев пояснил, что «низменная работа» – это «учить мужика грамоте, помогать ему, заводить больницы и т. д.» «Мы вступаем в эпоху только полезныхлюдей… и это будут лучшие люди <…> Народная жизнь переживает воспитательный период внутреннего, хорового развития, разложения и сложения; ей нужны помощники – не вожаки, и лишь только тогда, когда этот период кончится, снова появятся крупные, оригинальные личности». К этой же мысли Тургенев возвратился в письме к Философовой от 22 февраля (6 марта) 1875 г., где он писал, что в России давно пора «бросить мысль „о сдвигании гор с места“, о крупных, громких и красивых результатах» и что следует удовлетвориться «скромной полезной деятельностью».
К началу 1875 г. относится вторая, развернутая и дополненная, редакция «Рассказа новой повести», в которой нашли отражение многие наблюдения писателя за три предшествовавших года. Эту недатированную редакцию обычно относят к 1874 году [57]57
См.: Т, Сочинения,т. IX, с. 446; Т, СС,т. IV, с. 503.
[Закрыть]. Представляется, однако, более вероятным датировать ее началом 1875 г., в связи со скандальной историей о взятке, полученной Б. М. Маркевичем как чиновником Министерства народного просвещения при сдаче в аренду «С.-Петербургских ведомостей» [58]58
Подробнее об этом см. в кн.: Дельвиг А. И.Полвека русской жизни. М.; Л.: Academia, 1930. Т. 2, с. 544–549.
[Закрыть]. Эта «история» произошла в конце 1874 г. и получила шумную огласку в начале 1875 г. [59]59
Тургенев узнал о взяточничестве Маркевича в начале 1875 г. – ср. его письма к Я. П. Полонскому от 25 декабря 1874 г. (6 января 1875 г.), М. В. Авдееву от 30 декабря 1874 г. (11 января 1875 г.) и А. С. Суворину от 14(26) февраля 1875 г.
[Закрыть]
Очевидно, появившаяся во второй редакции конспекта романа запись: «Клеврет ренегата!» с добавлением на полях: «Маркевич. Фраза Фета» [60]60
Определение «ренегат» несомненно относится к M. H. Каткову, изменившему либеральным воззрениям своей молодости. Тургенев называет Каткова «ренегатом» в ряде писем 1869–1871 гг. Возможно, что фразу Фета о Маркевиче Тургенев слышал во время своего летнего пребывания в Спасском в 1874 г. и что именно ею навеяна следующая характеристика Каткова и Маркевича, данная Тургеневым в письме к П. В. Шумахеру от 5(17) июня 1874 г.: «Катков имеет особую способность – присущую, впрочем, всем ренегатам – воспитать себе клевретов, которые за него с азартом лезут в грязь».
[Закрыть], – вспомнилась Тургеневу именно в связи с этой «историей» и тогда же у него появилось желание ускорить работу над романом.
«История с Маркевичем, – писал Тургенев А. С. Суворину 14(26) февраля 1875 г., – меня не удивила: в этой гадине соединились все условия происхождения, воспитания и пр. и пр., чтобы выработать из него тип „клеврета в новейшем вкусе“ [61]61
Ср. с «клевретом ренегата». Эта фраза, по совету Анненкова, была изъята писателем и заменена в беловом автографе романа (глава XIV) выражением «прирожденный клеврет», сохранившимся и во всех последующих изданиях романа.
[Закрыть]<…> Мне иногда потому только досадно на свою лень, не дающую мне окончить начатый мною роман, что две, три фигуры, ожидающие клейма позора, гуляют, хотя с медными – но не выжженными еще лбами. Да авось я еще встряхнусь». Указание на то, что Калломейцев служит в Министерстве народного просвещения (а именно там служил Маркевич и оттуда был уволен в 24 часа за взятку), появилось впервые также во второй редакции «Рассказа». Следует, наконец, отметить, что в первой редакции «Рассказа» и других черновых материалах нет никаких упоминаний о Ladislas’e. Характерные черты Маркевича должны были, по намерению писателя, воплотиться в образе Калломейцева (см. с. 407). Замысел ввести в роман Ladislas’a возник у писателя, вероятно, в начале 1875 г. в связи с «историей» Маркевича.
Вторая редакция «Рассказа новой повести» представляет собой более развернутый по сравнению с первой редакцией «Рассказа» конспект романа, с указанием реальных прототипов и событий, лежащих в его основе. Здесь, в частности, «Василий Николаевич» везде раскрыт как Нечаев [62]62
Намеки на нечаевское дело Тургенев сохранил и в самом романе, что позднее дало повод Г. А. Лопатину поставить в вину писателю, что он «смещал две ступени развития, резко различающиеся между собою по своим основным воззрениям на способ достижения новых порядков», – народническое и нечаевское движение (Из-за решетки. Женева, 1877, с. XV). Однако нет оснований преувеличивать роль нечаевского дела в творческой истории романа. Подобное преувеличение содержится, например, в содержательной статье Э. М. Румянцевой «Из творческой истории романа И. С. Тургенева “Новь“», автор которой считает, что Тургенев «показал в „Нови“ представителей различных социальных группировок молодежи, которые действительно участвовали в нечаевском движении» (Уч. зап. Ленингр. пед. ин-та им. А. И. Герцена, 1957, т. 150, вып. 2, с. 167), и, таким образом, относит революционную молодежь, изображенную в «Нови», не к народническому, а к нечаевскому движению.
[Закрыть], рядом с Кисляковым упомянут Дехтерев и т. д.
Авторские характеристики персонажей и пояснения к некоторым сценам приобрели во второй редакции «Рассказа» большую остроту и выразительность. Так, например, описывая поездку Сипягина, Калломейцева и Паклина в город в связи с арестом Маркелова, Тургенев замечает о Калломейцеве: «тоже советует – „действовать“ – и является уже Маркевичем „наголо“», а поведение Сипягина и Калломейцева у губернатора сопровождает резкой авторской оценкой: «Безобразие. Торжество, трусость, ярость (вспомнить рассказ И. Новосильцева, когда он узнал о покушении 4-го апр<еля>)» (с. 420).