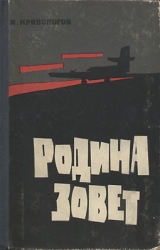
Текст книги "Родина зовет"
Автор книги: Иван Кривоногов
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 12 страниц)
А меня и Аноприка в этот же день повезли в арестантском вагоне по железной дороге. Мы не знали, в каком направлении нас везут. Что ждет нас впереди? Мы давно уже жили в ежедневном ожидании смерти. Временами я чувствовал какое-то оцепенение, когда смерть не пугала меня, а казалась даже желанной. Что могло быть страшнее того, что я уже перенес? Но оцепенение проходило, появлялась надежда. На какое-то время нас оставили жить. А если человек живет – у него появляются надежды, планы, мечты. Человек не может не мечтать и не надеяться. Из концлагеря тоже можно убежать. А может быть, война кончится. В тюрьме я слышал от военнопленных, что части Советской Армии успешно наступают, что в Европе все восприняли разгром немцев на Волге как начало [104] конца немецкой армии, что у Гитлера больше нет сил, чтобы предпринять новое генеральное наступление, подобное наступлению прошлого года, что немцам надоела война, что среди них растет недовольство, потому что увеличивается количество убитых и искалеченных, и на фронт посылают уже людей пожилых.
Снова тюремный железнодорожный вагон. Перестук колес. Мы с Аноприком покачиваемся в такт вагону. Изредка поезд недолго стоит на больших станциях и полустанках. Наконец останавливается совсем. За дверью протопали тяжелые сапоги конвойных, дверь отперли и вывели нас из вагона.
Это был Страсбург.
Со связанными назад руками мы шли по улицам, подгоняемые конвоирами. Наш изнуренный вид, арестантская одежда, перестук колодок по камням мостовой привлекали внимание прохожих. На тротуарах останавливались женщины, смотрели на нас: кто с любопытством, а кто и с сожалением.
И снова тюрьма. Громадные железные ворота, глухая каменная стена, по верху которой натянута колючая проволока. Ворота пропустили нас и захлопнулись с тяжелым гулом. Небольшой двор. Со всех сторон многоэтажные здания. И окна, окна, окна… Каждое с решеткой.
Опять захолонуло сердце. Надолго ли?
Сдав документы дежурному надзирателю, конвойные ушли, а нас повели на второй этаж и впустили в большую камеру, полную разноязычных узников.
Были тут и русские. От них мы узнали, что здесь формируется этап для отправки в концлагерь.
Старший по камере занес нас в список «жильцов» и показал место, где расположиться. Начались расспросы: откуда родом? За что осужден в концлагерь? Оказалось, что почти всех русских отправляют за побеги из лагерей военнопленных. «Значит, по всей Германии русские ищут путей избавления из плена, не смиряются, не боятся ни пуль, ни сыскных собак. Бегут – и все», – с удовлетворением подумал я.
Потекли томительные дни ожидания. Утром уборка камеры, прогулка во дворе, где нас заставляли бегать и приседать, завтрак и т. д. Поверки в этой тюрьме производились несколько раз в день. Заключенные [105] все прибывали и прибывали. В камере становилось тесно.
Федя Аноприк старался держаться ближе ко мне. Он чувствовал себя виноватым, о случившемся не заговаривал, боялся смотреть мне в глаза. Я старался держаться с ним ровно, но в душе не мог простить и найти оправдания.
Каждое утро мы ждали, что вот-вот нас построят и повезут. Недели через две такой день настал. После завтрака в камеру вошел надзиратель со списком в руках и начал выкрикивать фамилии. Один за другим заключенные выходили и вставали в строй. Дошла очередь и до меня.
Вскоре в ворота въехали две крытые машины.
В несколько минут мы промчались по улицам Страсбурга и вынеслись за город. По натужному реву моторов можно было догадаться, что машина едет все время в гору. С каждым поворотом подъем делался все круче и круче. Вдруг мотор тяжело вздохнул последний раз, как будто отдавая последние силы, машина осела, прокатилась по ровному месту и остановилась. Дверцы открылись, и нам приказали выходить.
Мы оказались у громадных ворот концлагеря. [106]
Карный блок
Машины рванули с места и покатили обратно по извилистой дороге. Минуты через две они скрылись за поворотом. А мы остались перед воротами лагеря, открывшимися, чтобы впустить нас. Когда первые ряды вошли в ворота, раздалась команда: «Mьtzen ab!» Кое-кто из заключенных сорвал с себя головной убор, но большая часть не поняла, что значит эта команда. Тогда эсэсовцы набросились на нас с яростными криками и стали бить по головам палками и резиновыми жгутами. Теперь уже все догадались, что требовалось сделать.
Колонну остановили недалеко от ворот, возле первого барака. Из барака вышел офицер, а с ним человек в странной одежде с крестом на спине, намалеванным масляной краской, с лампасами на штанах, в бескозырке без ленточек. Офицер стал пересчитывать нас. Как ни старались мы стоять ровно, эсэсовцу все не нравилось. Он крикнул что-то человеку с крестом на спине, и тот стал равнять строй. Пересчитав нас, офицер ушел. А человек с крестом на спине обратился к строю на немецком, французском и русском языках. Мы узнали, что это лагерный переводчик из заключенных. На груди у него был пришит красный треугольник и номер на белой тряпочке. Он держал в руках блокнот и карандаш и записывал каждого. Русских было всего три человека, и меня очень удивило, [107] что нас он расспрашивал больше других. Я еще раньше заметил, что бил он в основном немцев, а нас не тронул. Узнав, за что мы попали в лагерь, он сказал по-русски:
– Ну, с вами мы еще поговорим. Вы будете жить в моем бараке.
В это время в ворота лагеря вошла колонна заключенных. На них была странная одежда, какой я ни разу не встречал ни в лагерях, ни в тюрьмах Германии, – полосатые куртки, полосатые брюки, полосатые шапки вроде бескозырок и башмаки с деревянными подметками. Они шли строевым шагом, настолько четко, что сотрясалась земля. В воротах раздалась команда: «Mьtzen ab!» Вся колонна в один миг сняла и хлопнула о бедра свои бескозырки.
Колонна удалилась от нас. Снова послышалась какая-то команда, и мы увидели, как все заключенные дружно надели головные уборы.
Мы осторожно спросили у переводчика, что за одежда у заключенных. Он, усмехаясь, ответил:
– Подождите, и вы наденете такую же.
А потом объяснил, что это форма концлагеря Натцвиллер.
– Из этого лагеря еще никто не убегал, – продолжал свои пояснения переводчик. – Советую не пробовать. Остальное увидите и узнаете сами, – закончил он, видя, что к строю приближается человек с черным треугольником на груди.
Переводчик сказал, что это староста лагеря, которому мы будем подчиняться.
Лагерь Натцвиллер располагался на высоте тысячи двести метров. От вершины горы спускались вниз широкие террасы, на каждой из которых стояло по два барака – блока, как их здесь называли. От них к следующей террасе вела каменная лестница. Так весь лагерь и состоял из утрамбованных площадок и лестниц, соединяющих их. В самом низу, где стояли последних два барака, шло несколько рядов колючей проволоки под высоким напряжением. Через два метра – еще ряды столбов, опутанных проволокой. На расстоянии ста метров одна от другой торчали пулеметные вышки.
Нас гнали сейчас с лестницы на лестницу к девятому блоку. В бараке приказали раздеться, остригли [108] и велели вымыться под холодным душем. Потом выдали новую одежду. Русским достались желтая форма неизвестно каких времен, парусиновые ботинки на толстой подметке и полосатые бескозырки.
Нас троих направили в блок № 7.
В большом помещении барака народу было немного – значит, команды еще не вернулись с работы.
Староста блока выдал нам тряпочки с номерами и красные треугольники и приказал пришить их на левой стороне груди. Потом показал нам место в шкафу, где стояли закрепленные за нами миски, и привел в другое помещение, где были трехъярусные нары. Мне досталось место в середине.
Едва мы успели оглядеться, в блок вошла рабочая команда, и в бараке стало тесно. Заключенные толкались, задевали друг друга, около умывальника создалась очередь. Блоковый и штубовые пытались установить порядок. Им помогал тот самый переводчик, который разговаривал с нами в воротах лагеря. Мы уже знали, что звали его Кондрат и что это зверь, а не человек.
Но вот все уселись за стол. Блоковый и Кондрат резали хлеб и потом на листе фанеры разносили пайки по столам. Принесли чай в железных бачках и стали разливать его в миски.
В блоке воцарилась тишина. Каждый заключенный терпеливо ждал, когда ему дадут пайку хлеба и нальют чаю. Если кто-нибудь осмеливался заговорить, на голову его обрушивался удар резинового жгута. Я тоже тихонько сидел за столом, оглядывая своих товарищей. Рядом со мной притулился чернявенький парнишка, лет восемнадцати. Получив свою пайку хлеба, он дрожащими руками разломил ее на крошечные кусочки и каждый такой кусочек с каким-то благоговением клал в рот и жевал медленно, сосредоточенно, чтобы продлить удовольствие. На его худощавом бледном лице разлилось выражение блаженства.
Когда после ужина заключенные стали мыть свои миски, я подошел к нему и спросил:
– Ты как сюда попал?
Парнишка оказался словоохотливым. Он тут же мне рассказал, что зовут его Коля Дергачев, что сам он из Макеевки. Когда немцы оккупировали территорию [109] Донбасса в 1942 году, ему было шестнадцать лет. Семья не успела эвакуироваться и осталась в Макеевке. Его младший братишка где-то нашел пистолеты. Ребята их тщательно припрятали, но немцы дознались и после допроса Колю отправили в Германию и отдали на работу к бауэру. Но мальчишка-комсомолец не мог примириться с тем, что его заставляют работать на хозяина, да еще бьют. В одну из темных ночей он убежал. На другой же день его поймали, избили и отправили работать в литейную большого металлургического завода.
– Однажды немец ни за что избил моего товарища по работе, – волнуясь, рассказывал Коля.-Я не выдержал и дал ему в морду. Что здесь началось! Думал, убьют меня. Били – сколько душе угодно, а я вот… жив, – и глаза его вдруг озорно заблестели.
– А в сентябре мы подготовили побег, – продолжал Коля, – но только двоим удалось перелезть через ограждение: мне и еще одному хлопцу. Остальных захватили. По дороге к ближайшему полустанку мы надрали в поле моркови и насовали ее во все карманы и за пазуху. Это был наш провиант. Подошли к полустанку. Скрываемся, ждем. Остановился товарняк, идущий к востоку. Мы забрались в какой-то вагон, набитый бочками. Притаились. Ехали целые сутки. А на вторые сутки наш вагон отцепили и загнали в тупик. Делать нечего – пришлось вылезать. Здесь нас и схватили, несколько дней держали в карцере, избили и отправили в тюрьму. Дальше Страсбургская тюрьма. Из нее – прямой путь сюда. А отсюда, – с горьким вздохом закончил Коля, – один путь: в крематорий.
Мне очень понравился этот парень со смелыми, чистыми глазами. И с этого дня как-то сама собой завязалась наша дружба. Коля во всем советовался со мной, и я, как старший товарищ, помогал ему, чем мог. Я чувствовал, что дружба моя вселяет в него какие-то надежды, угасшие было за несколько месяцев каторжной жизни.
А надежда в наших условиях значила многое. Очень многое… Нередко даже возвращала человека к жизни.
Каждый день в лагере похож на предыдущий. [110]
В числе многих сотен других заключенных я вскакивал по команде, заправлял свою постель, тщательно разглаживая одеяло, чтобы не было ни морщиночки, ни складочки, бежал раздетый к умывальнику, где обычно стояла большая очередь. Умывание проходило под наблюдением штубового – ответственного за отделение в блоке. Надевать рубашку не разрешалось. Пока дождешься своей очереди – продрогнешь.
В барак приносят чай в бачках. У кого остался от ужина хлеб, тот завтракает. Но таких, кто умеет до утра оставить кусочек хлеба, очень немного. Почти все пьют пустой чай.
После «завтрака» нас выгоняют на улицу. В бараке остаются те, кто назначен на сегодня убирать помещение. Если на улице холодно, или ветрено, или дождливо, мы прыгаем и машем руками, стараясь согреться.
Ровно в шесть часов раздаются удары лагерного колокола: начинается построение. Кто побывал в немецких концлагерях, хорошо знает, что значили для нас эти построения! Сколько часов простаивали мы каждый день в любую погоду!
Сначала заключенные строились у крыльца своего барака. Потом нас вели на площадку между бараками. Весь лагерь выстраивался по таким площадкам. Начиналась поверка. Сначала нас несколько раз пересчитывал блоковый. Больных и умерших за ночь укладывали в конце строя, чтобы их тоже можно было пересчитать. Подходили немцы и снова пересчитывали нас два-три раза. Затем они шли на доклад к первому блоку, где помещалась шрайбштуба, то есть канцелярия. Комендант здесь принимал доклады ответственных за блоки. Если счет не сходился, немцы возвращались к своим блокам и снова пересчитывали нас по нескольку раз и снова уходили на доклад. Только после этого начиналось распределение по рабочим командам. А больных и слабых, которые уже не могли ходить, отправляли в санчасть и по баракам.
В первые дни меня назначили в команду «Каменолом», работа в которой считалась одной из самых тяжелых. По утрам нас выводили из лагеря. К колонне пристраивались конвоиры с собаками и вели к месту работы, которое располагалось километрах в двух от [111] лагеря. Лопатами и кирко-мотыгами мы срывали гору. На тачках и вагонетках возили землю и сваливали ее вниз, делая какую-то площадку. Капо (бригадир из заключенных) говорил, что на ней будут строить бараки.
Коля Дергачев уже научил меня, как надо «работать глазами», то есть больше отдыхать и меньше получать палок. Если конвоир или капо смотрят в твою сторону – шевелись быстрее, а как только они отвернутся или отойдут – стой и наблюдай за ними, чтобы сохранить силы.
Я уже знал из собственного лагерного опыта, как нужно работать, и старался делать все, чтобы палок получать как можно меньше, а отдыхать как можно больше.
Погода на высоте тысячи двести метров менялась через каждые полчаса: то дождь, то туман, то снег, то солнце. По временам нас обволакивало молочной влажной пеленой. Одежда не просыхала, ботинки промокали в первые же часы работы. А капо, завернувшись в плащ, ходил между нами с резиновой палкой в руках и зорко следил, чтобы мы не останавливались, не отдыхали.
В полдень нам привозили «обед» – по литру супу без хлеба. И снова работа до вечера.
Через несколько дней во время завтрака в барак вошел переводчик Кондрат и зачитал мой номер. Я отозвался и вышел.
– Собирайся, пойдешь в карный блок, – объявил мне Кондрат.
Коля Дергачев ахнул за моей спиной.
– Оттуда не вернешься, – прошептал он.
Я уже кое-что слышал о карном блоке, и меня вдруг охватила какая-то отчаянная злоба.
– Ну и пусть замучают еще одного коммуниста! – вырвалось у меня.
Кондрат внимательно посмотрел на меня и спросил:
– Ты коммунист?
– Да, – ответил я, не намереваясь больше ничего скрывать.
Меня окружили товарищи, а Федя Аноприк, стоявший рядом, объяснил, что я лейтенант и коммунист, [112] служил на границе и в плен попал раненый и обожженный.
– Ну, пошли, – оборвал его Кондрат, и мы вышли из толпы заключенных, сочувственно смотревших мне вслед.
Кондрат дорогой начал меня расспрашивать, что произошло со мной в плену, почему я попал в концлагерь. Таить мне больше было нечего. Кондрата я презирал, как фашистского пособника, и с какой-то тайной гордостью рассказывал ему свою историю.
Карный блок – это лагерь в лагере, барак № 10, обнесенный колючей проволокой и всегда запертый на замок. Здесь свои порядки, свой режим.
Кондрат позвонил у ворот. Из барака вышел человек с засученными рукавами, впустил нас и запер ворота.
«Что тут происходит?» – подумал я, чувствуя, как по спине пробегает предательский холодок.
Посредине барака, выстроившись в линию, стояли человек восемь заключенных – немцев и поляков. Меня поставили с краю. У стола на табуретах сидели двое эсэсовцев. Блоковый и штубовый под их наблюдением осматривали заключенных, выворачивали их карманы и вытряхивали на пол все содержимое. Плохо было тому, у кого что-нибудь находили: окурок сигареты, бумажку, тряпочку. Его били резиновым жгутом, не считая ударов, заставляли поднять с пола этот предмет и выбросить его в ведро, потом ставили в строй, спрашивали, за что попал в концлагерь, и снова били.
Если же у человека ничего не находилось в карманах, блоковый или штубовый ставили его перед собой и одним ударом ладони по лицу старались сбить его с ног. Если им это не удавалось, они повторяли удары до тех пор, пока заключенный не падал. Ему приказывали встать и снова повторяли свои приемы, как будто пробуя крепость и силу своих рук. Обессилевшего человека, который не мог уже сам подняться, обливали холодной водой и приводили в чувство. Сильно избитых тащили к умывальнику и там обливали на цементном полу.
Другим приказывали взобраться на табурет и присесть на корточки, в руки давали ботинки на толстой [113] деревянной подошве или просто полено и заставляли держать это на вытянутых руках в течение целого часа. Если человек хоть на мгновение опускал руки, его били до тех пор, пока он снова не вытягивал руки вперед. Заключенный падал с табуретки, теряя сознание. Его окатывали холодной водой и снова ставили на табурет.
Наконец эта процедура надоела эсэсовцам. Они отдали какие-то распоряжения блоковому и ушли из барака. Очередь доходила до меня. Передо мной остался один человек. Я стоял и думал: «Что же мне сейчас будет? Чем меня будут бить? Если так бьют немцев и поляков, то мне не спустят только за то, что я русский».
В это время к блоковому подошел Кондрат и что-то зашептал ему на ухо. Блоковый взглянул в мою сторону и согласно кивнул головой.
Я похолодел.
Вот и моя очередь. Блоковый сел к столу и поманил меня к себе. Как ни страшно было, но идти нужно. Я подошел. Блоковый показал на табуретку, стоящую возле стола, и сказал по-немецки: «Sitz!»
Потом выпроводил всех из этого помещения и велел позвать Эмиля. Вошел молодой парень. Я видел его раньше у нас в бараке. Его звали тогда Володей, он был русским, но хорошо знал немецкий язык и иногда исполнял роль переводчика. Почему его назвали Эмилем? Но мне было не до того, чтобы решать эту загадку. Блоковый усадил меня на табурет и велел рассказать все о себе от начала войны до настоящего момента. Где по-русски, где по-немецки я опять рассказал свою историю. Эмиль помогал мне. Когда я кончил, блоковый негромко сказал:
– Я француз. Был офицером во французской армии. В лагере пятый год. Ненавижу немцев.
Потом он сказал мне, что я буду жить вместе с Володей-Эмилем, убирать штубы{2} и помогать кое-кому из стариков политических – французов, люксембургцев и других.
– Будешь застилать их постели. За это они что-нибудь дадут. Они получают посылки. Я, чем смогу, [114] тоже помогу, – закончил он и велел нам обоим взяться за швабры.
В этот день я не переставал удивляться и многого еще не мог понять. Кто же такой Кондрат? Почему он так свирепо бьет заключенных? Что он сказал блоковому обо мне? Что происходит здесь в карном блоке? Во всем этом я разобрался только много времени спустя…
Я понял со временем, что обстановка переменилась, что был уже не 41 год. Заколебалась почва под фашистской Германией в связи с активными действиями и победами Советской Армии. Это чувствовали все гитлеровские холуи и задумывались о своей судьбе. Думаю, что и Кондрат понимал, что наши роли могут перемениться, и на всякий случай заботился о смягчении удара для себя. В то время он еще не старался делать это явно, но все-таки хотел иметь человека, который мог бы сказать о его мягком отношении к коммунистам. Так я понял его потом, так думали о нем другие заключенные.
Весь первый день мы с Володей на работу не ходили, не спеша прибирали барак. Перед обедом сходили на кухню и принесли в бачке суп для штрафников, а вечером чай.
Но дальше дело пошло хуже. Я был тоже штрафником, у меня ниже красного винкеля был теперь пришит черный кружок, и я должен был ходить на работу вместе с другими обитателями карного блока.
Уже на следующее утро по звонку я вместе со всеми, вышел на площадку перед бараком на поверку. К строю подошел капо штрафной команды, рыжий, веснушчатый детина. На его груди зеленый винкель. Это значит, что в лагере он отбывает наказание за бандитизм. У него ухватки матерого бандита. Он размахивает перед строем резиновым жгутом и рычит: «Ну, сегодня я вам покажу!» И, действительно, показал. Да и не только сегодня!
Команда штрафников работала только на территории лагеря. Вот рыжий капо подвел нас к тачкам. Каждый выбрал тачку и с нею снова встал в строй.
Через весь лагерь сверху вниз проходила дорога. По ней и погнал нас капо на одну из верхних площадок. Недалеко от лагерных ворот он дал команду: [115]
«Бегом!» И мы побежали по крутой дороге, неловко наезжая тачками друг на друга.
А капо подгонял нас.
За воротами лагеря работала одна из команд, срывающая гору. Мы подъехали к ней, набрали полные тачки песку и мелкого щебня и повезли их обратно в лагерь. Капо опять подал команду «Бегом!» и начал подхлестывать нас резиновым жгутом. Колонна тачечников растянулась по дороге, сбегающей вниз. Капо остановил передних, подогнал отстающих, и мы снова побежали вниз по дороге. Споткнешься, упадешь – в это время на тебя наезжает следующая тачка, рассыпая песок. А рыжий капо опять бьет упавших, чтобы поднимались быстрее и догоняли ушедших вперед. И мы снова бежим с тачками вниз по дороге.
Песок и щебень капо велел высыпать на площадке, где только что построили два новых барака, и снова погнал нас по дороге.
Так целый день мы и бегали с тачками в гору и с горы и к вечеру так устали, что бегать уже не могли, а едва двигались с полными тачками, несмотря на то, что капо, не переставая, хлестал резиновым жгутом.
В течение нескольких дней мы возили песок и щебень, а когда площадка между бараками была утрамбована, нас перевели на другую работу.
Лагерь расширялся, возводилось новое проволочное заграждение, строились пулеметные вышки. Мы носили столбы, рыли ямы, голыми руками натягивали колючую проволоку и приколачивали ее к столбам, переносили тяжелые щиты, из которых сколачивали вышки, перетаскивали мотки колючей проволоки.
Промокшие насквозь под дождем и туманом, едва передвигая ноги с налипшей на ботинки глиной, мы медленно спускались по раскисшей дороге от центра лагеря вниз, таща на себе тяжелые ноши. Шли, падали, поднимались под хлесткими ударами резинового жгута. Каждый день после работы мы приносили с собою к бараку застреленных и умерших, складывали их в штабель – все равно они должны были присутствовать на поверке. И мы уже почти не реагировали, если на наших глазах умирал человек, забитый до полной потери сил. Все внимание было сосредоточено на том, чтобы получить меньше ударов, чтобы как-нибудь [116] сохранить силы. В эти дни, пока я работал в команде штрафников, я перестал думать о побеге. Мне казалось, что убежать отсюда просто невозможно. Я чувствовал, как во мне угасают силы и надежды, я находился в каком-то оцепенении, пока один случай не вывел меня из этого состояния.
Как– то в один из рабочих дней наша штрафная команда натягивала колючую проволоку. Проглянуло солнце и обогрело нас, дрогнувших под дождем и ветром с самого утра. Недалеко от дома коменданта лагеря, на его огороде, работала одна небольшая команда. Вдруг оттуда раздались крики, послышалась пулеметная и автоматная стрельба. Мы подняли головы и остолбенели. С горы бежал человек -босой, в одной нательной рубашке, которая вздымалась за ним белым парусом. По нему стреляли со всех сторон. За ним неслась овчарка.
Мы замерли и ждали, что он вот-вот упадет под пулей или на него наскочит собака. А он бежит невредимый, достигает запретной зоны под пулеметной вышкой, где проволока натянута в один ряд и, как рыба, с полного разбега пролетает через нее. Часовой с вышки стреляет по нему почти в упор – и не попадает, с горы бьют из автоматов – мимо. Собака мечется около проволоки. А он бежит и бежит по направлению к лесу. И в наших сердцах поднялась такая волна восторга и радости, что все мы готовы были закричать.
От нашей команды отделились двое охранников с автоматами. Один с собакой кинулся наперерез бегущему, другой присел и начал с колена стрелять по нему короткими очередями. Вдруг бегущий упал, перевернулся, вскочил и, хромая, снова бросился бежать. Он достиг опушки и скрылся с наших глаз. Но к лесу со всех сторон устремились автоматчики с целой сворой собак. Из леса доносился лай и автоматные очереди. Потом все стихло.
…Был конец рабочего дня. Прозвенел лагерный колокол, извещающий о сборе рабочих команд в лагерь. Началась общая поверка. В это время в лагерь внесли убитого, разодранного собаками беглеца и пронесли вдоль всего притихшего строя. По клочьям одежды мы узнали в нем русского… [117]
Его дерзкий побег всколыхнул весь лагерь. Вечером за ужином даже штрафники, которым, казалось, уже не на что было надеяться, возбужденно переговаривались о случившемся. Я заметил тогда, что никого не смутила расправа немцев над этим человеком, хотя комендант объявил всему лагерю, что то же самое повторится с любым безумцем, который затеет побег. Эти люди видели слишком много страшного, испугать их трудно. Все говорили с завистью и восхищением об отваге русского человека.
После этого случая люди стали как-то теснее друг к другу, начали сплачиваться в группы и вести тайные разговоры, строить планы. [118]
Будни концлагеря
Через несколько дней команда штрафников закончила свою работу по расширению лагеря. Новая оградительная полоса была готова: столбы поставлены, проволока натянута. Нам приказали ломать прежнее заграждение. Мы вырывали столбы, колючую проволоку сматывали и отвозили на тачках за пределы лагеря. На расчищенной нами площадке начали строить два новых барака и крематорий. До этого крематорий находился в двух километрах от лагеря. Там же были и газовые камеры. В этом направлении часто водили и возили живых и уносили умерших в длинных ящиках с ручками. Лагерное начальство, очевидно, решило, что уничтожать людей будет сподручнее, если крематорий задымит в самом лагере.
Штрафников заставили выстилать булыжником площадки перед новыми бараками и крематорием, засыпать их щебнем и песком, утрамбовывать и укатывать. Эмиль оказался опытным каменщиком. Он попросил капо отпустить меня и еще двоих русских ребят ему в помощники. Капо согласился, и через несколько дней я освободился от тачки. [119]
Перед самым обедом мы с Эмилем бежали на кухню и приносили в карный барак бачок с супом. Иногда нам доставалось по лишнему черпаку баланды. В этот день мы считали себя счастливыми.
Так проходили дни, недели, месяцы…
Я так и не мог найти никакого способа избавиться от карного блока. А между тем, в лагере произошли большие события.
Однажды ночью мы проснулись от возни и криков, раздававшихся за стеной. Оттуда слышались удары палок и хлест резиновых жгутов. Эмиля-переводчика вызвал к себе блоковый. Мы лежали в темноте, стараясь понять, что же там происходит.
Я встал и тихонько подошел к двери. В соседнем помещении допрашивали и избивали русских. Их крики невозможно было слушать, очевидно, били не на живот, а насмерть.
В штубу к нам на минутку заскочил Эмиль.
– Раскрыта большая группа побега, – взволнованно зашептал он. – Организатор – майор Сокира. Кто-то их предал. Приводят все новых и новых. Бьют – сил нет смотреть.
Он опять ушел туда. Мы лежали молча.
Всю ночь шел допрос… Стихло только к утру, когда нам возвестили подъем. Быстро заправив постель, я выбежал в столовую. Там стояли русские заключенные: их было двадцать два человека. Шесть из них закованы в наручники. Их лица посинели и распухли. У некоторых были в кровь разбиты головы.
В барак вбежали эсэсовцы и всех избитых выгнали на улицу.
Когда мы с Володей вышли за чаем, весь лагерь уже знал, что произошло ночью в карном блоке. Повсюду только и говорили о случившемся.
По звонку нас, как обычно, построили. В это утро эсэсовцев в лагере было много, как никогда. Они бегали вдоль строя с собаками, кричали и пересчитывали нас, не скупясь на удары.
Наконец команда разошлась по работам. Пока наши штрафники ездили наверх за песком, у нас с Эмилем было несколько свободных минут. Мы вышли на дорогу, идущую позади бараков, и что же увидели… По склону горы лицом к колючей проволоке на расстоянии [120] десяти метров друг от друга стояли русские, со связанными назад руками.
Они стояли, покачиваясь от изнеможения, готовые вот-вот упасть. А с вышек смотрели на них дула пулеметов.
– Смотри, – сказал мне Эмиль, – третьим стоит майор Сокира. Высокий, чернявый. Кондрат говорит, что у коменданта он держался здорово. Никого не назвал. А Илья Резников не выдержал и выдал остальных, показал на Сокиру как организатора.
Только вечером, когда закончились работы и заключенных разогнали по баракам, в карный блок привели и их. Шестнадцати товарищам развязали руки и разрешили расположиться на нарах. Остальные шесть человек в наручниках простояли в штубе до самого отбоя. Потом им разрешили прилечь, но скованные наручниками руки не позволяли лечь ни на спину, ни на живот. Им пришлось всю ночь ходить по штубе. Они только стонали, стараясь не будить нас, временами присаживаясь на краешек нар. Так прошла их первая мучительная ночь. А утром во время завтрака мы из своих рук кормили и поили их водой.
Как только прозвонил колокол на построение, в барак вбежали эсэсовцы и вывели шестерых. Против карного блока их поставили по команде «смирно» и приказали стоять целый день.
И они стояли вплоть до нашего возвращения в барак после работы…
Так прошли один за другим несколько дней. Эсэсовцы то и дело навещали карный блок, избивая штрафников и особенно шестерых товарищей. Их приготовили к повешению, но фашисты не торопились приводить в исполнение приговор и каждый день придумывали для них новое наказание. Руки товарищей были так крепко зажаты наручниками, что под кольцами кожа содралась, раны загноились и было видно разлагающееся мясо. Но они держались мужественно, поражая нас своей стойкостью. Они не раскаивались в своем поступке, не жаловались нам на свои страдания, старались сдерживать стоны и только временами повторяли одно: «Скорее бы, скорее пришел конец!» Один из них не перенес мучений и в субботу умер. У нас сердца разрывались от жалости и сочувствия, [121] но избавить их от страданий мы не могли. Мы кормили их хлебом, подносили к их губам ложки с супом, подбодряли, как могли.
В воскресенье стало известно, что сегодня состоится повешение пяти русских заключенных – организаторов побега.
Один из пяти оказался моим земляком-горьковчанином. Он сказал мне свое имя и фамилию, просил передать родным (если я останусь жить) обстоятельства его гибели. Я много раз повторял его адрес, но так и не донес его до конца войны. Помню только, что звали его Жора, что он был сильным и красивым парнем.








