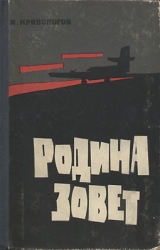
Текст книги "Родина зовет"
Автор книги: Иван Кривоногов
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 12 страниц)
И не успели мы съесть поданные нам женщиной кусочки хлеба, как нас в одно мгновение со всех сторон окружили немецкие солдаты с автоматами и какие-то люди в гражданской одежде с винтовками. «Конец», – мелькнуло у меня в голове.
Нам скрутили руки, обшарили наши карманы, взяли оружие и повели по улице села в школу, где у немцев, по-видимому, размещался штаб. Разговаривать с нами никто не стал. Нас обоих втолкнули в одну из просторных комнат, где было уже много наших бойцов и офицеров, и развязали руки. Здесь мы увидели Олюшенко и Щербакова, наших разведчиков. Они вида [37] не подали, что знают нас. Мы легли на пол рядом с ними и тоже молчали. В комнате никто не разговаривал.
Через какое-то время пришли люди в гражданском, очевидно сельские полицаи, и сняли с меня хромовые сапоги, бросив взамен драные опорки. Они ушли, оставив дверь открытой.
Во дворе стояла кухня, возле которой все время крутились пьяные немецкие солдаты. Наши военнопленные, видимо, уже знали порядок, заведенный здесь, и один за другим вышли во двор.
В комнате остались мы с сержантом Молотковым.
– Володя, – зашептал я ему (мы теперь называли друг друга только по имени), – мне выходить нельзя. Каждый немец, каждый полицай будет спрашивать, где я обгорел. Иди и узнай, нет ли какой-нибудь возможности убежать.
Володя ушел, а я остался лежать на грязном полу. Лежу один и думаю. Какие только мысли не приходят в голову! Вспоминаю родной город и Волгу, где купался еще босоногим парнишкой, стареньких родителей, ту ночь, когда по горной тропинке провожал Марусю… Что стало с ней? Жива ли она? Успела ли убежать от немцев? В трудную минуту мы оказались далеко друг от друга, и я не смог прийти к ней на помощь. А теперь у меня впереди самое страшное, самое позорное, что может постигнуть солдата, – плен. И это тогда, когда враги стремительной лавиной идут по моей земле. Нет, нет! Надо бежать!
Я поднялся с пола и, придерживаясь за стены, подошел к окну, которое выходило во двор. Повсюду бродят солдаты с автоматами. Вдруг хлопнул выстрел. Пленные бросились в разные стороны. «Володя…» – похолодел я.
А во дворе еще выстрел, еще и еще. Значит, добивают пленных. Я ждал, что сию минуту придут за мной, чтобы и меня пристрелить. Ну, так мне все равно, чтобы со мной ни сделали. Пусть расстреляют, пусть растерзают на кусочки, – я-то знаю, сколько немецких солдат мы положили огнем своих дотов! Долго враги будут помнить нашу линию обороны! От этой мысли мне стало как будто легче, даже веселее на душе. [38]
По лестнице кто-то поднимался. Я приготовился ко всему и смотрел на дверь с вызовом. Но на пороге показался Володя Молотков.
– Кого расстреливают? – бросился я к нему.
– Повара на немецких кухнях пробуют, как стреляют наши винтовки.
– Хорошо, что ты жив, – обрадовался я. – Ну, как, что ты узнал?
Володя опустился на пол.
– Ничего, – проговорил он тоскливо. – Кругом кишат немцы. Отсюда удрать не удастся. Придется ждать удобного момента. Только вам, Ванюша…
– Тебе, – поправил я.
– Тебе нельзя сейчас выходить во двор. Немцы уже спрашивали, где обгорелый танкист. Если достану чего поесть, принесу.
Немцы приняли меня за танкиста – значит, где-то наши танкисты здорово им вложили.
К вечеру во двор въехали две крытые брезентом машины, груженные нашими военнопленными. Нас вывели и начали вталкивать в эти же машины. Я шел позади толпы пленных и не сумел так же быстро, как другие, влезть в машину. Солдат ткнул меня прикладом пониже спины так, что я мешком свалился в кузов.
Это был первый удар в плену. Я до сих пор его помню. Дальше мне приходилось каждый день терпеть их и все я, конечно, запомнить не мог, а вот этот помню…
Машины тронулись. Тесно прижавшись друг к другу, пленные сидели под брезентом. Здесь же раненые. Дорога неровная. На ухабах грузовик подбрасывает и кидает из стороны в сторону. Раненые стонут.
Мы молчим и не смотрим друг другу в глаза. У всех одно и то же чувство мучительного стыда от того, что мы вышли из войны в такой опасный и ответственный для Родины момент. Как подумают о нас родные? Сумеем ли мы когда-нибудь искупить свою вину?
Вот и граница, река Сан, мост, который несколько дней тому назад был нейтральным. Немцы долго не могли овладеть им. Здесь стояли насмерть пограничники, а мы из своих дотов десятками и сотнями уничтожали [39] врагов. Теперь враги свободно проезжают по мосту, а мы едем пленными в немецких машинах.
Дорога идет по немецкой территории, вдоль границы. Нам хорошо видна вся передняя линия нашего опорного пункта. Развороченные глыбы бетона, всхолмленная земля. Сколько наших товарищей погребено под тяжелыми бетонными плитами! Вот с выбитыми амбразурами дот, который защищал Володя Молотков. Я ищу глазами то место, где был мой дот и вижу его останки: груда серого камня. Соседний дот Феди Скрипниченко. «Милый, веселый, резвый Федя. Кто и когда узнает о твоем подвиге?» – думаю я.
– Смотрите, как разорили, гады, – показывая на доты, говорит незнакомый боец. – Видно, тут наши дрались до последнего.
Мы с Володей переглянулись.
Машина катилась все дальше и дальше.
Нас привезли в городок Санок, выгрузили и загнали в какой-то сарай, который оказался конюшней, заперли на замок и поставили у дверей автоматчиков. Здесь было много красноармейцев и гражданских галичан, попавших в плен потому, что они напялили вымененные на хлеб красноармейские гимнастерки и брюки. Они держались от нас отдельно. Особенно избегали меня. Бинт с лица и головы у меня сполз, обгорелая кожа сочилась кровью. То ли они этого боялись, то ли другого чего, только всякий раз, когда я проходил мимо них, они, ругаясь, бросались от меня в сторону.
Вечером нас вывели на поверку. Галичане в армии не служили, строиться не умели, бегали, разыскивая своих земляков, и создавали страшный беспорядок. Ну, а немцы, как любители порядка, били всех подряд палками по головам. Как ни старался я избегнуть этого, мне все же достались три удара по голове. Я ткнулся в чью-то спину, но Володя тут же поддержал меня и помог встать в строй. Кровь лилась из ран и ссадин, в голове шумело, я едва стоял на ногах.
После поверки нас начали кормить. Сунули каждому по бумажному стаканчику и велели пятерками подходить к бачку, который подвезли к самой конюшне. У бачка, засучив рукава, стоял немец-повар с черпаком и плескал каждому в стаканчик жидкую гороховую [40] похлебку. Он так быстро действовал черпаком, что половина мутной жидкости проливалась на землю. Голодные галичане держали стаканчики обеими руками, стараясь, чтобы ни капли не пролилось на землю, и задерживали остальных. Повар бил их черпаком, а двое солдат, стоявших по бокам,-палками. Получившие свою порцию бежали в конюшню и, если в их стаканчики что-либо попадало, жадно съедали баланду.
Я отказался от пищи и проскользнул из строя прямо в конюшню.
К моему удивлению, Володя себе и мне принес по полному стаканчику похлебки.
В несколько глотков мы опрокинули стаканчики. После трех дней голода эта баланда показалась нам удивительно вкусной. Володя перевязал мне голову, и мы, прижавшись друг к другу, заснули прямо на земляном, густо унавоженном полу конюшни.
На следующий день рано утром распахнулись двери, ослепив нас ярким солнечным светом. С палками в руках к нам вбежали несколько солдат, что-то громко закричали, размахивая палками, показывая на открытую дверь. Пленники мгновенно вскочили на ноги, но никто не хотел выходить первым. Немцы до хрипоты орали: «Los!» Сначала мы думали, что они кричат «рус», но потом поняли, что «los» – это «вперед». Мы с Володей и несколько красноармейцев первыми бросились к двери и встали на то место, где строились вечером. К нам стали пристраиваться и остальные. И, конечно, последним попало больше, чем первым.
На сей раз нас построили двумя группами – в одной стояли красноармейцы, в другой – люди, одетые в гражданскую одежду, И вдруг среди последних мы увидели младшего лейтенанта Евсюкова и старшину Ильина. Они стояли, понурив головы. Не знаю, видели они нас или нет, – они не поднимали глаз. После поверки нас снова загнали в конюшню, а их отвели куда-то в другое место. Больше мы их не видели.
В это утро завтрака нам не дали. В обед тоже никто не отпер двери конюшни, и только к вечеру какой-то украинский церковный комитет решил покормить военнопленных. Несколько монашек принесли в корзинах нарезанный ломтями хлеб. Нас выстроили [41] и стали отбирать украинцев. Я живо смекнул, в чем дело, и шепнул Володе:
– Нужно пристроиться к украинцам.
Я подошел к строю украинцев. Володя за мной. Появился переводчик и спросил наши фамилии и имена.
– Иван Григорьевич Корж, из Киева, – назвался я.
– Белоус Николай Никитич, с Черниговщины, – сказал Володя.
Переводчик, наверное, понял по нашему говору, что мы не украинцы, но оставил нас в строю.
Монашки начали раздавать пленным большие ломти хлеба. Сначала они оделили украинцев, остальной хлеб роздали русским, но ломти уже пришлось разламывать на несколько частей.
Так мы превратились в украинцев. Чтобы не забыть об этом, я стал называть Володю Николаем.
На следующее утро после поверки нас опять загнали в крытые брезентом машины и повезли. Ехали мы долго по ухабистым дорогам. Но вот машины въехали в улицы какого-то города. Я узнал Перемышль. Нас ввезли во двор большого здания и приказали высаживаться из машины.
Во дворе стояло несколько колонн военнопленных. Нас пристроили к одной из них, несколько раз считали и пересчитывали, снова угощали палками. Долго мы стояли в строю, изнемогая от жары и слабости. Наконец колонна за колонной начали выходить со двора. Процессия растянулась вдоль всей улицы.
Мы шагали по каменистой мостовой. Рядом со мной Володя Молотков, Олюшенко и Щербаков. Сбоку шли солдаты с винтовками и штыками. Почти каждый вел на поводке овчарку.
Снова переходим мост через реку Сан, которая разделяет город на две части. «Прощай, Родина! Доведется ли снова увидеть тебя? Но если я останусь жив, я по-прежнему твой верный сын. Я всегда буду думать о тебе, любить тебя и стремиться к тебе».
Так я мысленно обращался назад, к Родине, а сам шаг за шагом уходил все дальше на чужбину, на долгую каторгу.
Колонна вышла за город и растянулась по полю. Люди шли, опустив головы, еле переставляя ноги. Голодные, [42] полураздетые, многие с загноившимися ранами, некоторые босиком, шли они по колючей, усыпанной щебнем дороге. Никто не разговаривал, каждый думал про себя тяжелую думу. А солнце пекло, раскаляя камни на дороге. Становилось трудно дышать, в горле пересыхало, мучила жажда, а мы все шли и шли…
Многие спотыкались и падали. К упавшему тут же подбегал немецкий солдат и бил его палкой, заставляя подняться и идти вперед. Мы молча помогали товарищу подняться и вели его под руки дальше. Если же человек все-таки не поднимался, солдаты выволакивали его из строя и на глазах у всех пристреливали или прокалывали штыком и сбрасывали с дороги в кювет.
Так начался наш путь в фашистскую Германию, путь, усеянный трупами и обильно политый нашей кровью.
Колонна вошла в какое-то село. Крестьяне выбегали из домов, держа в руках большие ломти хлеба и картошку, и бросали их в колонну. Пленные жадно ловили куски хлеба и картошины, сбивались в кучу. Налетали немцы и прикладами и палками разгоняли пленных, натравливая на них собак, расстреливали в упор.
С помощью товарищей я все время держался на ногах и старался идти в середине колонны. Ваня Олюшенко чувствовал себя бодрее, чем мы, и в селах старался первым выскочить из колонны и поймать летевший из рук крестьянина кусок хлеба, лепешку или картофелину. Все, что ему удавалось раздобыть, он аккуратно делил на четыре части: себе, мне, Володе и Щербакову.
Мы вчетвером шли все время рядом. Мысль о том, что при первой же возможности надо бежать, не покидала нас.
– Запоминайте дорогу, – шепнул я товарищам.
Как ни трудно было идти, как ни палило нас солнце, мы старались запомнить названия и расположения сел, мимо которых нас проводили, дорожные знаки, повороты, присматривались, где что растет на полях.
Только поздно вечером колонна наконец остановилась. Нас ввели во двор большого хозяйства, приказали [43] сесть на землю и через переводчика объявили, что здесь мы будем ночевать.
– Бежать не пытайтесь, – добавил переводчик. – Собаки все равно догонят. Тогда расстрел на месте.
Немцы с собаками окружили нас кольцом…
Всю ночь мы поочередно дежурили, выбирая момент, когда можно будет бежать. Но немцы тоже не спали. Они ходили с собаками возле нас. То и дело слышалась трескотня автоматов. Это стреляли в пленных, подходящих близко к забору. Пули попадали и в остальных, плотной кучей сидящих посередине двора.
Убежать этой ночью не удалось.
Утром нас подняли, построили, пересчитали и погнали дальше. И снова одеревеневшими ногами мы медленно ступаем по каменистой, нагретой солнцем дороге. По столбикам-указателям, стоящим вдоль дороги, определили, что идем в сторону города Ярослава, расположенного километрах в тридцати пяти от Перемышля. Шаг за шагом мы приближались к нему. Прошли по его окраинам и снова вышли в поле.
Через несколько часов по колонне прошел слух, что мы приближаемся к лагерю. И действительно, вскоре с левой стороны дороги, в негустом леске, показались вышки. На них торчали фигуры солдат с пулеметами. От вышки к вышке в несколько рядов тянулась колючая проволока. Это и был лагерь. Шагая вдоль ограды, я увидел среди пленных, стоящих по ту сторону проволоки, сержанта Торощина, курсантов Иванисова и Тернова. Они тоже увидели меня. Мы обменялись взглядами, помахали друг другу руками, и я навсегда потерял их из виду, уходя с колонной дальше.
На душе стало еще тяжелее: значит, им тоже не удалось прорваться на восток, и теперь никто уже не сможет рассказать своим, как мы воевали в первые тринадцать дней войны.
Через несколько минут справа от дороги на голом поле показался точно такой же лагерь – такие же башни с пулеметами и ряды колючей проволоки. Только этот лагерь был очень больших размеров.
Метрах в двухстах от ворот лагеря с Щербаковым случился солнечный удар. Он вдруг покачнулся и начал [44] падать. Молотков и Олюшенко подхватили его и помогли дойди до ворот лагеря.
Колонну ввели на территорию лагеря, остановили, нас стали отсчитывать сотнями, больных отдельно. С той минуты мы больше не видели Щербакова. Каждую сотню отводили в какие-то длинные шаткие помещения, построенные наподобие шалашей. Прямо в землю врыты стропила, на них положены жерди, поверх которых набросана солома. Внутри постройки по обеим сторонам была тоже раскидана солома.
Нам через переводчика объяснили, когда и где строиться на поверку. Мы бросились в свой шалаш и повалились на солому. [45]
Все дальше в Германию
Разбудил нас немецкий солдат. Он вбежал в «шалаш» и заорал: «Los!» Мы уже знали, что означает это слово, быстро выскочили из «шалаша» и, стараясь не толкаться, встали в строй. Строили нас по пять человек в ряд. Двадцать пятерок в сотне. Чего уж проще? Но немцы проверяли и пересчитывали нас по нескольку раз и продержали в строю почти целый день.
После поверки из сотни отобрали четверых и повели за получением пайка. Остальных распустили по «шалашам». Мы сидели на соломе и ждали, когда придут наши товарищи. Они принесли несколько буханок хлеба. Каждую буханку, весом в один килограмм, делили на пять частей. Катастрофически быстро мы проглотили свои куски и почувствовали, что есть захотелось еще сильнее. Но ждать больше было нечего. Подходила ночь. Долго еще в темноте вокруг меня ворочались и вздыхали люди. Каждого томила унизительность его положения и полная неизвестность, у многих горели загноившиеся раны.
Утром следующего дня к нам опять вбежал солдат. Размахивая палкой, он громогласно возвестил подъем. Снова длительная поверка, с издевательствами и побоями.
Наконец процедура закончилась, и нас распустили. Вот теперь мы с Володей Молотковым и Ваней [46] Олюшенко решили внимательно осмотреть все лагерные ограждения, чтобы выяснить, нельзя ли как-нибудь убежать. Зашли за «шалаш», осмотрелись.
Огромное поле обнесено двумя рядами колючей проволоки. Видны свежие скважины для артезианских колодцев. Ровными рядами стоят низкие «шалаши». Возносятся над лагерем наблюдательные вышки. На вышках установлены мощные прожекторы, торчат дула пулеметов, ходят часовые. Ясно, что убежать отсюда можно только при какой-нибудь случайной оплошности охраны. И мы стали ждать.
Мысль о побеге не давала нам покоя. Ночами мы по очереди выбирались из «шалаша» и смотрели, не погасли ли прожекторы, не ушла ли охрана. Но часовые неизменно маячили на вышках, их силуэты четко выделялись в молочно-белом свете прожекторов.
Наступило воскресенье. На утренней поверке переводчик объявил, что сегодня в лагерь приедет передвижная православная церковь.
– Являться на богослужение всем, – строго добавил переводчик.
Долго ждать церемонии не пришлось. Через полчаса в ворота лагеря въехала грузовая машина. Борта ее были открыты и обтянуты золотистой шелковой материей. Дно кузова устлано коврами. На них сидели церковные служители в блестящих ризах. Они держали на коленях большой золоченый крест, подсвечники и иконы разных размеров. Когда машина остановилась, служители начали устанавливать в ней иконы, зажигать свечи в подсвечниках, укреплять крест. Машину окружили солдаты с пулеметами и автоматами. Очевидно, немцы учитывали, что в толпе пленных есть комсомольцы и коммунисты. Мало ли что может им прийти в голову!
Когда в «церкви» все было готово, пленных согнали к машине. Среди икон и блестящих подсвечников появился поп в золотом облачении. Чисто выбритый, подстриженный в кружок, он был совсем не похож на косматых православных батюшек, которых я видел в детстве в деревне. Он возвышался над нами откормленный, довольный собою, с красным ожиревшим лицом. А мы стояли перед ним голодные, оборванные, больные, избитые, стояли и слушали его «проповедь». [47]
Он призывал народ обрести веру во всемогущего бога, быть смиренными и покорными, бороться против коммунистов. Мы подумали даже, что это не поп, а наряженный в ризы пропагандист. Но были среди пленных люди, в основном галичане, которые бросались на колени, протягивали к попу руки, жарко молились, прося православную церковь помочь им.
Заканчивая обедню, поп обратился к толпе пленных с призывом жертвовать деньги на православную церковь.
– Все равно вам теперь советские деньги не нужны, – утешал священнослужитель.
Набожные люди потянулись к нему, торопясь передать чудом сохраненные деньги.
Я толкнул Володю в бок, и мы, не дожидаясь конца церемонии, отошли от «церкви», но видели издали, что, собрав порядочную сумму денег, «православная церковь» подняла борта и выехала за ворота лагеря. А по спинам пленных опять заходили солдатские палки и приклады. Да, действительно, православным теперь ни советские, ни новые деньги не нужны. Тысячи душ ежедневно забирал к себе на иждивение немецкий «бог».
Снова поплелась неторопливо наша лагерная жизнь. Пищу мы получали один раз – в двенадцать часов дня. Съешь баланду и пайку хлеба, проверят тебя и убирайся в свой «шалаш». Больше делать нечего.
Недели через две нас стали партиями угонять из этого лагеря в глубь Германии. В одну из таких партий попала и наша сотня.
Рано утром после поверки роздали нам по пайке хлеба, выстроили и вывели из лагеря. Снова длинная колонна пленных растянулась по шоссейной дороге.
Примерно через час мы подошли к железнодорожной станции. Здесь на путях стоял эшелон. Прямо перед вагонами нам дали по кружке горячего чаю на дорогу, втолкнули в товарные вагоны и задвинули двери. Поезд стоял еще долго, но двери вагонов держали запертыми, и нас никуда не выпускали.
В вагоне теснота. Всем не хватает места на нарах. Эти места берутся с боем самыми сильными. Остальные стоят, крепко прижатые друг к другу. Толкотня, ругань. [48]
Вдруг, перекрывая шум, раздался в вагоне громкий голос:
– Так дело не пойдет. Сидеть должны больные и слабые.
К нарам протискивался высокий плотный человек в командирской фуражке, в гимнастерке с разорванным воротом. На него заворчали, но он уже сгонял усевшихся на нарах пленных.
– Остальные будут стоять, по очереди прислоняясь к стенкам вагона. Так всем будет лучше.
Как– то само собой получилось, что все подчинились его властному голосу.
Через несколько минут в вагоне устанавливается относительный порядок.
Те, кто стоит около окошечек, затянутых колючей проволокой, видят суетливую жизнь маленькой польской станции. Поспешно снуют женщины с озабоченными, тоскливыми глазами. Мужчин в гражданском совсем не видно. То тут, то там появляются зеленые мундиры немецких солдат и офицеров. Твердым шагом они ступают по перрону, по пристанционным путям. Изредка появляются солдаты в черных мундирах. Мы уже знаем, что это войска СС. Женщины стараются незаметно проскочить мимо них, солдаты и даже офицеры почтительно сторонятся.
Наконец раздался пронзительный гудок паровоза, поезд тронулся. Он повез нас в сторону заходящего солнца. Три раза дневной свет, проникающий к нам через оконца и щели старого рассохшегося вагона, сменялся полной темнотой. Нам казалось, что мы объехали уже всю Германию. За это время ни разу не открывались двери. В вагоне стояло нестерпимое зловоние от дыхания нескольких десятков людей, которые к тому же естественные надобности отправляли прямо здесь же, на полу.
Как ни тесно было в вагоне, товарищи и знакомые отыскивали друг друга и держались группами. Под перестук колес велись разговоры. Один из бойцов в уголке рассказывает другим, как его часть дралась на границе до последнего патрона, что от его роты осталось только трое раненых бойцов.
– Мы отходили по горящей земле, – слышу я от другого. – Колхозники подожгли пшеницу. Огненный [49] вал катился перед нами. Мы ступаем, а из-под сапогов вырываются огненные змейки. Сейчас, говорят, будет город П. Приходим, а городишка-то и нет. Зола теплая, только обгорелые деревья протягивают к нам обугленные ветки.
Я вижу, как сами собой сжимаются его кулаки и играют желваки под острыми скулами.
Паек, выданный на три дня, давно съеден. Молоденький парнишка, с отросшей белесой косичкой на шее, шепчет соседу:
– У меня вот мать хлеб пекла – разломишь, а от него дух такой вкусный по всей избе пойдет! А он теплый, и корочки хрустят. И есть не хочешь, а все-таки попробуешь.
Мне кажется, что запах ржаного, только что вынутого из печи хлеба распространяется по вагону, и рот мой наполняется слюной. Когда нас привезут? Хоть бы ломтик лагерного хлеба! Его можно есть долго, откусывая по крохотному кусочку и тщательно высасывая.
Но вот поезд остановился, двери распахнулись. Нас высадили на маленькой станции, в тупике. Рядом лес. В него вползает дорога.
Нас повели по этой дороге. Лесок оказался небольшим. Поднявшись на взгорок, мы вышли в поле. День разгорался жаркий. Солнце пекло непокрытые головы, во рту пересыхало. Но палками и прикладами нас гнали все дальше и дальше.
Из– за кустов, стоявших подле дороги, показались вышки. «Лагерь, лагерь», -прошелестело по рядам. Дорога шла вдоль колючей проволоки. Мы проходим мимо? Нет, первые ряды завернули вправо и вошли в ворота. Что за заминка там, впереди? Ничего не видно. Но вот наши ряды приближаются к воротам. Немцы выравнивают пятерки, чтобы легче было считать. А поодаль, коридором метров на десять, стоят солдаты с тонкими и длинными палками. Каждую пятерку пропускают через этот коридор, и солдаты со рвением хлещут пленных, бьют по чему попадет: по голове, по лицу, по спине.
Вот здесь-то мы по-настоящему почувствовали, что такое фашистская Германия и каковы ее порядки.
Мы с Володей шли в одной пятерке, но, пробежав [50] этот коридор, потеряли друг друга. За воротами немцы; наводили порядок в колонне, снова палками выравнивали пятерки. Здесь мы получали «добавку». В суматохе мы с Володей не сразу отыскали друг друга. Я даже не справился, здорово ли ему досталось, только с испугом спросил:
– А где у тебя котелок?
Он схватился за ремешок, на котором обычно висел котелок, но котелка не было.
– Отшибли, гады! – произнес он беспомощно.
Это была страшная потеря для нас. Котелок мы выменяли у галичанина за пайку хлеба и всегда становились рядом при получении баланды, чтобы нам наливали на двоих. Теперь у нас осталась только крышка от котелка. В ней не поместится и одна порция. Значит, теперь мы будем оставаться без «супа», на пайке сухого хлеба. Володя чуть не заплакал от досады.
Я поспешил его приободрить:
– Ничего. Мы их насмерть сотнями били. Пускай потешатся над нами. Все равно не возместят потерянное.
Когда вся колонна прошла через коридор, нас построили и повели в глубь лагеря. Переводчик объявил нам:
– Близко к проволоке не подходить. Часовой с вышки будет стрелять без предупреждения.
Против каждой сотни вколотили в землю кол с дощечкой, на которой был написан номер. Подали команду: «Садись!» Мы сели. В каждой сотне выбрали переводчика, который стал старшим среди нас. Через переводчика нам объявили, что здесь, на этом самом месте, мы будем жить и строиться для поверки. Мы невольно оглянулись вокруг себя. Большое поле, обнесенное в несколько рядов колючей проволокой и обставленное знакомыми уже нам вышками – все это и составляло лагерь № 326, в который нас привезли.
На ровном поле ни одной постройки, ни одного барака. Только загоны, где отдельно держали пехотинцев, летчиков, моряков, танкистов. За проволоку было согнано уже много пленных, говорили, что около двенадцати тысяч. Теперь вся эта масса народа копошилась в земле, рыла для себя ямы и землянки, чтобы [51] укрыться от непогоды, рвала и щипала траву, чтобы подложить под голову, собирала палочки, веточки, чтобы сделать хоть какую-нибудь крышу над головой. Весь лагерь был изрыт такими кротовыми норами. И все же многие валялись прямо на земле, в полном изнеможении.
Страшно было смотреть на этих людей, почти потерявших человеческий облик, худых, обросших, в рваной перепачканной землей одежде, с потухшими глазами. Нам казалось, что у них не осталось уже никаких надежд, никаких желаний, ни капельки воли к сопротивлению. И это пугало нас больше всего.
Мы с Володей несколько дней лежали на земле, не строя себе никаких укрытий. Володя где-то раздобыл рваный, без подкладки пиджачок, им мы укрывались от непогоды. В эти дни мы жили только одной мыслью: если не убежим – нам придет конец. По нескольку раз днем и ночью мы обходили лагерь вдоль ограды, выискивая места, где проволока натянута реже, слабее свет прожекторов, где ленивее часовые, но всякий раз вынуждены были отбегать, слыша предостерегающий оклик наблюдателя.
Однажды ночью на одной из вышек погас прожектор. Ночь была темная, дождливая, лучше не выберешь для побега. Но едва мы приблизились к проволоке, с вышки застрочил пулемет.
Мы бросились в темноту и поползли в сторону по раскисшей земле.
Подул сильный ветер, началось длительное ненастье. Холод пронизывал до костей. Тогда мы поняли: если хотим живыми уйти отсюда, надо строить землянку. У нас на двоих была одна металлическая ложка, консервная банка, которую где-то раздобыл Володя, и крышка от котелка. Этим инструментом мы начали скоблить землю. С каждым днем все больше и больше углублялись в землю и мрачно при этом шутили, что роем себе могилу. В этой шутке была и доля правды. Каждое утро из обвалившихся землянок вытаскивали десятки трупов. Перекрытие делать было не из чего, и люди расширяли землянки в стороны. От дождей земля набухала и обваливалась, засыпая сонных жителей норы.
В первые дни Олюшенко отбился от нас, и мы его [52] видели только на построениях. Он пристраивался спать, где придется, и почти все время рыскал по лагерю в поисках какой-нибудь еды. Парень он был здоровый, сильный, и больше нас с Володей страдал от голода. Но почти ничего съестного раздобыть ему не удавалось. Даже траву и ту пленные давно выщипали до последней иголочки.
Через несколько дней Олюшенко вернулся к нам. Теперь нас стало трое. И мы начали расширять и углублять наш окопчик. Тесно в нем было. Ложились на дно, плотно прижавшись друг к другу. Если один из нас хотел повернуться, то должен был разбудить всех, и мы как по команде переворачивались на другой бок. Окопчик укрывал нас от ветра, но не спасал от дождя. Нужно было делать какое-то перекрытие. Но из чего, если даже молоденький сосновый лесочек, росший на территории лагеря, многотысячная толпа пленных выдрала вместе с корнями. Нам удалось только отыскать две палки и несколько веточек с осыпавшейся хвоей. Вот из этого материала мы и соорудили «крышу». Укрепили палки, на них уложили ветки, а сверху стали примащивать сучочки, щепочки, пучочки сухой травы и присыпали все это землей. Мы учли, что если даже наше перекрытие обвалится, мы отделаемся только легким испугом.
Теперь наши головы были укрыты от дождя. Темными сентябрьскими ночами, лежа без сна в землянке, мы слушали, как осыпается с нашей крыши намокшая земля. Липкие комышки падали на лица, насыпались в уши, попадали в глаза, в рот, за воротник. По нескольку раз в ночь нам приходилось вставать и стряхивать с себя землю.
Кормили нас один раз в сутки, в полдень, плескали в котелки и банки по литру жидкой баланды, сваренной из нечищенной и немытой картошки, свеклы, капустных листьев, и давали кусок хлеба в двести граммов. Зато по три раза на день выгоняли на поверку и долго держали на холоде и дожде.
В одной стороне лагеря, недалеко от пулеметной вышки, были устроены навесы, под которыми располагалась кухня, отгороженная от лагеря колючей проволокой. Оттуда пищу носили в бачках к сотням. Недалеко от кухни оставляли телегу с овощами. Двадцать [53] счастливцев беспрерывно возили телегу на себе: от склада к кухне – с овощами и обратно – пустую. Мы завидовали им. Они по пути могли припрятать для себя капустных листков и сырой картошки и потом съесть их. За этой же изгородью находились и мусорные ящики, куда выбрасывали гнилые овощи. Голодные люди старались поближе подойти к мусорным ящикам в надежде схватить горсть очисток или подгнившие листки капусты. Но едва пленные приближались к ящику или телеге с овощами, немцы открывали по ним огонь с пулеметных вышек. Люди разбегались, убитые падали, раненые расползались в стороны. За один такой выход к мусорным ящикам люди погибали десятками, но проходило несколько дней, и голодные снова подбирались к ящикам…
Ваня Олюшенко часто наведывался к кухне. Иногда ему удавалось схватить горсть грязных очисток. Он тут же с жадностью их проглатывал. Попадал он и под обстрел, но пока все обходилось благополучно. Я уговаривал его не ходить к кухне. Но разве голодного уговоришь отказаться от попытки достать пищу? Мы с Володей убедили друг друга, что сейчас для нас самое главное – сохранить жизнь, не рисковать, сберегать силы, исподволь присматриваться к товарищам, чтобы сколотить со временем надежную группу для побега. Поэтому мы старались не попадать под палки немецких солдат, не приближались к пулеметным вышкам, не ходили к мусорным ящикам за горстью очисток.








