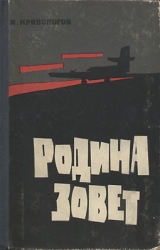
Текст книги "Родина зовет"
Автор книги: Иван Кривоногов
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 12 страниц)
Ох, и доставалось же Михаилу в эти дни! Сейчас только удивляешься, как мог человек выдержать такое! Днем он работал вместе со всеми, а вечером заучивал немецкие названия, вычерчивал мысленно схему расположения приборов и все думал, думал, думал… От нервного напряжения он совсем перестал спать и слабел на глазах. Я боялся, что, если мы в ближайшее время не улетим, план наш сорвется – Михаил может свалиться от истощения, и тогда его не поднимешь.
Однажды нас вели возле аэродрома. Мы тащили масксетку. Валил мокрый снег, на наши деревянные колодки он налипал так, что невозможно было идти. Михаил Девятаев выбился из сил, бросил сетку и лег на нее. Конвоир начал его пинать и бить прикладом, но Михаил не поднимался. Я подошел к нему и хотел ему помочь, но конвоир дал мне несколько пинков и отогнал меня от Девятаева. Я успел ему шепнуть:
– Мишка, вставай! Убьют, и наше дело пропало.
Он с трудом встал и поплелся дальше.
День шел за днем. А подходящий момент все не наступал.
Однажды нашу команду повели в самый конец аэродрома к морю. Там стоял тяжелый бомбардировщик «Дорнир-217». Погода была пасмурная, дул сильный ветер и падал снег. Нас подвели к самолету и приказали снимать и скатывать маскировочную сетку, затем погрузить ее в самолет. Видимо, самолет куда-то перебазировался. Подъехала автомашина, и из нее вышли два немецких летчика. Они залезли в самолет и завели моторы, чтобы погреть и проверить их. Взглянув друг на друга, мы поняли, что подходящий момент настал. Подавая в самолет маскировку, Михаил и сам забрался внутрь. За ним полезли Володя Соколов, Петя Кутергин и Володя Немченко. Я оставался возле [154] самолета, ожидая, когда они убьют летчиков. Наш конвоир залез в кабину машины, и вместе с шофером курил.
Сердце мое бешено колотилось. Все мускулы напряглись. Я крутился возле машины, не переставая наблюдать за кабиной самолета. Через целлулоидные стекла летчики были хорошо видны. И если бы наши начали их дубасить сумками, в которых были камни и железки, я увидел бы это и, открыв дверцу автомашины, ударил бы клюшкой конвоира, выхватил у него винтовку, а затем расправился бы с шофером. Но шофер мог дать газ и умчать, а поэтому я подошел к Михаилу Емецу и спросил:
– Миша, в случае чего поможешь?
Он догадался, в чем дело, без колебаний ответил:
– Что за вопрос? Конечно.
Я велел ему встать с левой стороны машины и в случае надобности схватить за руль. Сам зашел с правой стороны и ждал, держа свою клюшку наготове.
Остальные продолжали работать, ни о чем не подозревая. Напряжение нарастало.
Вдруг летчики выключили моторы, и наши ребята выскочили из самолета. Я накинулся на Михаила:
– Почему не начинали?
Он объяснил мне, в чем дело. Все равно мы не смогли бы улететь, потому что к шасси самолета надуло целую косу снега. Чтобы сдвинуть самолет с места, нужно было расчистить снег, а это заняло бы много времени. Рядом работали команды заключенных и стояли зенитные орудия, около которых было много солдат. Нас могли увидеть во время нападения.
Пришлось согласиться с ним.
Временами мы видели на аэродроме самолеты разных марок, у которых работали моторы, но до них было или далеко, или конвоиры вели нас другими путями.
В один из дней около ангара, где нам предстояло работать, мы увидели «Хейнкель-111». На нем летал лихач-итальянец, мастерски управлявший машиной. Мы знали, что на его самолете испытывали новое оружие.
Подошел летчик, поговорил с мастером. Нам приказали размаскировать самолет. Подъехала заправочная [155] машина. Запустили моторы. Летчик долго прогревал их. Мы стояли здесь же. Знаками распределили, кому кого убивать. Петя Кутергин встал возле конвоира, Володя Соколов – рядом с мастером. Немченко подошел к кабине автомашины, нацеливаясь на шофера. Нам с Михаилом достался летчик.
Девятаев уже влез в дверку самолета, намереваясь подползти к летчику, но тут один из заключенных, не посвященный в наши планы, поймал Михаила за ногу и потянул к себе:
– Зачем полез? Увидят немцы – убьют.
Я стал отталкивать парня, пытаясь подойти к дверце. Он напустился на меня:
– Я тоже хочу погреться.
А сам, между тем, продолжал тянуть Михаила за ногу.
Вдруг летчик приглушил моторы. Девятаев попятился назад из самолета. Пришлось и мне отойти от дверки. Момент был упущен.
В конце января погода испортилась, полеты прекратились. Дул ветер, выпадал и таял снег, стоял густой туман. Прозябая до костей, мы каждый день убирали камни, оставшиеся после недавних бомбежек. Временами нас посылали отремонтировать или поправить маскировку бункера – и снова камни. Кормили очень плохо, а били здорово. Мы приуныли. Михаил на наших глазах изводился и терял силы и самообладание, стал угрюмым, раздражительным. Мы всеми силами старались поддерживать его.
В лагере я пристроился по утрам носить бачки из раздатки в барак. За это получал добавку и то, что оставалось на дне бачка. Михаил каждое утро приходил ко мне в барак, и я передавал ему или немного мятой картошки, или несколько картошин. В очередь со мною носил бачки Володя Немченко. Он также кое-что приносил Михаилу.
Как– то утром Михаил пришел ко мне весь избитый и рассказал следующее: был в лагере некий Костя, здоровенный детина и страшный подхалим. Он служил когда-то на флоте. Вечером Костя начал откровенничать среди товарищей.
– Мне все равно, где родина, – говорил он, – лишь бы были деньги да вино. [156]
Михаил дал ему в зубы. Тот закричал. Ворвались эсэсовцы. Михаила били всю ночь, обещая забить до смерти. Его избивали в течение десяти дней. Еще не было случая, чтобы заключенный выдерживал это наказание, которое называлось в лагере: «Десять дней жизни». Но Михаил выдержал. По вечерам он добирался до нашего барака. Здесь мы, чем могли, помогали ему.
Однажды он с трудом доплелся до нас, привалился к стене и долго молчал, стиснув зубы. Потом проговорил хрипло:
– Закурить бы!
Я видел, что ему очень плохо. Пошел в барак французов и сменял на две сигареты свой теплый свитер, доставшийся мне несколько месяцев тому назад после умершего соседа по нарам.
Михаил накурился до головокружения, но несколько приободрился. Я был рад этому.
Прошло еще несколько дней, а удачного момента для побега все не было. Мы нервничали.
У нас появилось новое осложнение – мы опасались предательства. Вместе с Михаилом из Саксенгаузена приехал вздорный и мелочный парень Димка. Очевидно, чувствуя, что Михаил – человек действия и большого мужества, Димка старался держаться поближе к нему. Он оказался вместе с нами и в аэродромной команде и следил за каждым шагом Девятаева.
Однажды между ними произошла размолвка, которая могла окончиться весьма плачевно для всех нас. Димка где-то достал десяток картофелин и попросил Михаила сварить их. В штубе у печки хозяйничали заключенные немцы, русских они не допускали близко. Девятаев отдал одному из них сварить картофелины, но обратно получил только пять штук. Димка обозлился на Михаила, накричал, стал грозить:
– Сообщу, что ты летчик!
Мы жили в таком нервном напряжении, что решили попытать еще одно, очень рискованное средство.
Охрана лагеря состояла из эсэсовцев и солдат-зенитчиков, которых назначили конвоировать рабочие команды. Одного из зенитчиков, худощавого, невысокого солдата, мы давно заприметили, он хорошо относился к заключенным. Мне частенько приходилось разговаривать [157] с ним. Убедившись, что никто не может нас подслушать, он расспрашивал меня о Советском Союзе, о Коммунистической партии.
Когда в Германии утвердился фашистский режим, руководителей посажали в тюрьмы, силы коммунистов распылили. Многие временно отошли от активной деятельности, но остались верны принципам коммунизма. Таким, очевидно, был и наш солдат-зенитчик. Само собой разумеется, он ни разу не ударил ни одного заключенного. Видя среди нас особенно оголодавших и слабых, он приносил свой хлеб и суп, поднимал их настроение, ободрял, вселял надежду. Русских заключенных называл «товарищ». Мы так и не узнали его имени, а звали его, как и он нас, просто «Товарищ». Он потихоньку сообщал нам известия с фронтов, при этом всегда говорил:
– Подержитесь еще немного. Скоро конец.
Однажды Товарищ пропал. День его нет, другой, третий. Только через месяц он появился снова. Вечером все русские уже знали, что он отсидел в карцере за то, что отказался вступить в эсэсовские войска. Наше доверие к нему неизмеримо возросло после этого.
Вот к нему-то мы и решили обратиться за помощью.
Наша команда ремонтировала бункер возле аэродрома. Неподалеку стояли самолеты, приготовленные к полету. Михаил то и дело поглядывал на них. Он теперь с уверенностью говорил, что сумеет даже завести немецкий самолет. Но близко к ним нас давно не подводили.
Девятаеву пришла в голову мысль, которую он тут же выложил нам:
– А что, если попросить Товарища подвести нас ближе к самолету и предложить ему улететь вместе с нами в Советский Союз.
Мысль показалась приемлемой. Но кто знает, как могло обернуться дело, – решалась судьба целой группы.
Девятаев сказал:
– Ванюшка, иди ты к нему. Это будет надежнее. В случае чего… ты один…
Я кивнул в знак согласия.
Товарищ стоял в стороне от нас, облокотясь на винтовку. Я подошел к нему и, мешая немецкие и русские [158] слова, начал осторожный разговор. Потом прямо спросил: не хочет ли он улететь с нами в Советский Союз.
– Через два-три часа мы будем у нас. Вам обеспечена полная безопасность.
Он как– то засветился весь:
– О Советский Союз! Побывать там – это моя мечта.
Но тут же померк:
– Улететь с вами не могу. У меня большая семья: четверо детей, отец, мать, жена. Их всех уничтожат. Потерпите и вы. Скоро вас освободит Советская Армия.
Но мы не могли больше терпеть…
Как– то рано утром, еще до построения на поверку, ко мне в барак пришел Михаил и заявил:
– Ванюшка! Сегодня хорошая погода. Мы должны улететь сегодня или никогда!
В нешироком коридоре барака собрались все товарищи и участники побега. Михаил еще раз тихо сказал всем:
– Сегодня мы должны улететь.
Позвонил лагерный звонок, мы пожали друг другу руки и вышли из коридора на улицу. Через полчаса нас повели на работу.
Было 8 февраля 1945 года.
Утро ясное, солнечное, день предвещал быть хорошим. Мы бредем по глубокому снегу к ангару, где обычно начинался наш рабочий день.
– Сегодня или никогда! – возбужденно шепчет Михаил. – Слышишь, Ванюшка?
– Слышу.
Мы останавливаемся. Кому не нужны были сумки с котелками, те сняли их с плеч и положили рядом, но наша пятерка сумок не снимала. Я тоже взял свою неизменную клюшку с кольцом.
Мастер– немец в этот день почему-то не вышел на работу. С нами был один конвоир-солдат, злой как собака. Он все время орал на нас, подгоняя в работе. Но мы сегодня и сами работали быстро -расчищали взлетную площадку. Нам видно было, как одни самолеты улетали, другие прилетали, третьи готовились к полету. Время шло в этот день как никогда быстро.
Михаил все время наблюдал за тем, что делалось на аэродроме. Он видел, как три самолета, стоявшие [159] в отдалении, приготовили к полету, заправили, прогрели моторы. Летчики ушли обедать. Михаил тихо сказал мне:
– Ванюшка! Пошли Володю Соколова к конвоиру. Пусть скажет, что мастер вчера велел отремонтировать вон тот бункер, с правой стороны, недалеко от самолетов.
Когда Володя подошел к солдату и сообщил ему об этом, тот сначала заорал на него, но потом все же повел нас очень неохотно к бункеру, подгоняя прикладом. Он досадовал, что оттягивается время его обеда. Мы с Михаилом шли сзади и обсуждали шепотом и знаками план действий. Солдат пинал нас по пяткам, чтобы не отставали.
У бункера все принялись за работу. Кто поправлял сетку, кто сдвигал проволоку, кто разравнивал бугорки земли. В общем, мы старательно делали вид, что действительно ремонтируем бункер. Остальные пять человек копошились возле нас, ни о чем не подозревая.
Солдат зашел в капонир, привалился к столбу, державшему маскировочную сетку, и начал закуривать.
…Кровь бросилась мне в голову, застучало в висках. Сейчас должно все решиться. Делая вид, что поправляю маскировку, я зашел сзади конвоира, встал и примерился. Михаил Девятаев стоял в двух-трех метрах и наблюдал за моими движениями. Я посмотрел на него, он на меня, – мы поняли друг друга.
«Начинай!» – моргает он мне.
Времени терять нельзя… Но я еще медлю и снова бросаю взгляд на Михаила. Его лицо искажается нетерпением. Ну! Обеими руками поднимаю клюшку и ударяю конвоира по виску. Он, как сноп, валится на снег. Еще несколько ударов – все… Готов! Хватаю его винтовку.
Пять человек, не посвященные в наши планы, стоят испуганные. Я держу винтовку, готовый любым путем удержать их, если они вздумают разбежаться. Рядом, в двухстах-трехстах метрах, работают команды заключенных – поляки, немцы, и никто не знает, что в эти минуты происходит возле нашего бункера.
Михаил и Володя Соколов тем временем побежали к самолету, чтобы запустить моторы. С винтовкой наперевес я жду их сигнала. Они подают знак, чтобы мы [160] шли к самолету. Выстраиваю всех по два человека и веду строем, держа винтовку наготове.
Вот тут– то начались наши испытания…
Еще издали я заметил, что Володя суетливо мечется около самолета. Из кабины выпрыгнул Михаил. На его лице крупные капли пота.
– На самолете нет аккумулятора. Мотор нельзя завести.
Секунду стоим в оцепенении. Нужно принимать срочное решение, чтобы не поддаться панике. Можно взять аккумуляторы с другого самолета, стоящего поодаль. Но ходить по аэродрому без конвоира – безумие! Снять шинель с убитого конвоира нельзя – она вся залита кровью. Что делать!
Недалеко от самолета стояла тележка со вспомогательными аккумуляторами. Быстро подкатили ее, подключили к бортовой сети самолета. Михаил снова полез в самолет, я передал винтовку Володе Соколову – и за ним. А Девятаев уже в кабине нажимает какие-то кнопки. Я с замиранием сердца смотрю на щит управления. Вдруг заметалась стрелка на каком-то приборе.
– Ура! Есть искра! – воскликнул Михаил. – Размаскировывай!
Я выскочил из самолета и подал команду:
– Размаскировывай!
Обычно заключенные работали не спеша, а тут в две минуты сорвали с самолета маскировку и чехол.
Михаил в это время завел левый мотор, а затем и правый. Как это ему удалось, сказать не могу, трудно было или нет – не знаю. Он летчик, и ему это знать лучше.
Как только моторы взревели, я подал команду:
– Всем в самолет!
Винтовку положил у дверки самолета, на случай, если подбегут летчики или кто-нибудь другой, и начал снимать зажимы, удерживающие самолет, вытаскивать колодки из-под шасси. Одну вытащил легко, а другую никак не мог. Тогда я отбежал к носу самолета, замахал руками и закричал Михаилу:
– Сдай назад!
Он не слышал меня, но понял отлично, сбавил газ, самолет осел, и я легко вытащил колодку, но при этом чуть не угодил под работающие пропеллеры. Лезу в самолет. [161] Пристраиваюсь с Петей Кутергиным возле Михаила. Володя Соколов лег на штурманский мостик, а Володя Немченко сел за пулемет, хотя стрелять из него он не мог. Емец, Адамов, Олейник, Урбанович разместились в фюзеляже самолета.
Пока прогревались моторы, мы сидели не шевелясь на своих местах. Но вот самолет тронулся с места, Михаил выруливает между бункеров на взлетную полосу. Мы катим по немецкому аэродрому на их бомбардировщике! Кто из работающих на аэродроме мог подумать, что на этом бомбардировщике катятся заключенные, обреченные на смерть люди!
Михаил выруливает на взлетную площадку. Стартер, ничего не подозревая, дает сигнал ракетой, разрешая взлет. Самолет мчится по бетонной дорожке. Мы грянули «Интернационал». Но что это? Взлетная площадка кончается. Впереди море. Ближе, ближе! Оно надвигается на нас.
Самолет не взлетает.
Песня обрывается.
Михаил сбавляет газ и круто разворачивает самолет в обратном направлении. Он прошел, накреняясь на одно колесо и задев плоскостью о землю, потом встал на оба колеса. Остановился.
Михаил кричит мне:
– Сними струбцинки с руля высоты, на хвосте такой красненький зажим.
Но как выскочишь из самолета, когда неподалеку рабочие команды, солдаты с овчарками, – а на нас полосатая одежда? На Володе Немченко были гражданские брюки. Правда, на них масляной краской намалеваны кресты. Но это ничего, могут не заметить. Посылаю его. Он снял полосатую куртку и в нательной рубашке вылез из самолета. Снизу кричит, что никаких зажимов нет. Поспешно взбирается в самолет.
Михаил снова рулит по взлетной полосе на место старта. Немцы уже бегут к самолету. Они в страхе расступаются перед несущимся прямо из них «Хейнкелем».
Мы кричим:
– Миша, немцы!
Михаил разворачивает самолет и приказывает нам нажимать на штурвал, чтобы преодолеть тросы руля [162] управления. Я уперся одной рукой в кабину, а другой на штурвал, Петя Кутергин помогал тоже. Михаил дал полный газ, и самолет снова помчался вперед по взлетной полосе мимо немцев и заключенных, теперь уже без всякого сигнала стартера, затерявшегося среди оторопелых фашистов.
Вдруг толчок, второй, третий. Самолет повис в воздухе, неимоверно быстро набирая высоту. Явление опасное – можно свалиться в штопор.
Михаил кричит нам:
– Нажмите!
Мы оба с Петей нажимаем на штурвал. Самолет пошел в резкое пикирование. Вот-вот мы врежемся в море. До воды не более пятидесяти метров. Михаил снова кричит нам.
– Отпустите!
Отпустили штурвал, самолет опять пошел вверх.
– Нажмите, нажмите немножко! – опять кричит он. – Вот так, так держите!
Наконец самолет выровнялся, Михаил напрягает все силы. Мы летим.
Пролетели над аэродромом, над нашим лагерем и вылетели в море. Немцы, видимо, так и не поняли, что произошло. Ни одна зенитка не ударила нам вслед.
Сначала летели к берегам Швеции. Потом Девятаев обнаружил по приборам, что бензину в баках много. Тогда он развернул самолет на девяносто градусов, и мы взяли курс прямо на Восток.
Летим над морем. Внизу большой караван судов. Над ним кружатся истребители, видимо охраняют.
– Эх, так бы и шарахнул бомбочку в них, – проговорил Михаил.
Но у нас не было бомб. Да и лучше нам было удрать поскорее. Вдруг спросят по рации, куда летим так низко и с выпущенными шасси? А у нас и ответить-то некому.
Летим без карты. Летчик ведет машину прямо на восток, но вижу – нервничает, кричит нам:
– Карту ищите! Она должна быть здесь, в кабине.
Карту нашли. Но это была карта Западной Европы, а нам надо Восточной. Ориентируемся по солнцу.
Вот показалась земля. Летим на разной высоте. То земля далеко и леса кажутся маленькими лоскутками, [163] то видны даже небольшие домики. Внизу вьется шоссе, колонны машин и солдат.
– Отступают фашисты, – кричит Михаил.
Вскоре внизу стали видны вспышки взрывов и пожары. Над нами появляется фашистский истребитель «Фокке-Вульф». Выпустив очередь по бомбардировщику, он почему-то отваливает в сторону. Михаил предупреждает:
– Сейчас должна быть линия фронта.
Вдруг пулеметные очереди, разрывы снарядов, осколки бьют по крыльям и фюзеляжу самолета. Фашисты с земли открыли огонь. Может быть, им передали с острова, откуда мы летим.
Наши, видя, что так низко летит фашистский самолет с выпущенными шасси, – тоже открыли зенитный огонь. Нужно садиться. Внизу рыхлое темное поле с пятнами снега.
Михаил кричит:
– Отпустите штурвал!
Самолет идет на посадку. Резкий удар. Нас подбрасывает. Подломились шасси. Несколько секунд тяжелый бомбардировщик ползет на «брюхе». И замирает. Девятаев глушит моторы. Мы выбираемся через запасную дверцу на крыло самолета. Вокруг поле, далеко за ним виднеются строения. Где сели? У своих или у немцев? Ничего не знаем.
Вдруг видим, к самолету бегут наши, советские автоматчики. Они готовились встретить фашистов и остановились оторопевшие, увидев исхудавших людей в полосатой одежде. А мы бежим им навстречу и кричим:
– Братцы! Свои!
Они подбегают к нам, протягивают нам руки.
– Русские! Наши!
Слезы текли по нашим лицам, а сердца готовы были кричать: «Здравствуй, Родина! Через тысячи смертей мы пронесли верность к тебе!»
Нас умыли, переодели, накормили досыта, впервые за многие-многие месяцы. Здесь мы узнали, что приземлились в районе города Вольдемберга, километрах в восьми за линией фронта. [164]
Среди своих
Шел март 1945 года. Советская Армия наступала, сметая со своего пути гитлеровские полчища. Мы всей группой перелетевших двигались к Берлину в составе 61-й армии Второго Белорусского фронта. Солдаты и офицеры части относились к нам с большим вниманием, расспрашивали о концлагерях, о нашем побеге, называли нас летчиками, хотя знали, что среди нас только один летчик Михаил Девятаев. Мы жили в эти дни с постоянным ощущением огромной радости освобождения, пользуясь братской заботой окружающих нас людей, Эти дни нельзя забыть, потому что они были полны острыми противоречивыми впечатлениями. Радость и гордость распирала грудь, бушевала кровь ненавистью к врагу, руки рвались к оружию, а сердце сжималось от боли при виде разрушенных городов и селений. Всюду развалины. Черные трубы угрюмо торчат над обломками. Они словно жалуются и упрекают кого-то, кто разрушил тепло и уют их домов, разогнал их владельцев.
Вот она, война, которую развязал германский фашизм. Против народа Германии, обманутого и ввергнутого в бойню, обернулись ее ужасы. Немцы еще надеялись ввести в действие новое смертоносное оружие, которое, как мы знали, испытывалось на острове Узедом, [165] – снаряды «ФАУ-1» и ракеты «ФАУ-2», но исход войны был уже решен окончательно. Всякое сопротивление приводило только к новым жертвам и разрушениям.
…После необходимой проверки рядовые нашей группы влились в соединение, которое сражалось на Одерском плацдарме. Мы, трое офицеров – я, Девятаев, Емец, – ждали подтверждения наших воинских званий и пока оставались вне действий. В те же дни получили письмо от Володи Соколова: «Ванюшка! Миша! Пишу из окопа под Одером. Свистят пули – напишу немного. Я уже старший сержант. Мой командир полка – Герой Советского Союза. Надеюсь, скоро буду и я».
Из семи человек, ушедших на передовую, остался в живых только Федор Адамов. От него я и узнал через много лет о судьбе наших товарищей. Всех их зачислили в одну роту 777-го стрелкового полка, обмундировали, вручили оружие. Адамов получил пулемет, остальные ребята – автоматы. Они участвовали в захвате города Альтдама. После тяжелого боя, Адамов помнит, все были еще живы. В середине апреля началась подготовка к форсированию Одера. Рота заняла свой рубеж, укрепилась. Все были вместе и видели друг друга. Под утро 14 апреля началась артиллерийская подготовка. В 6.30 утра был отдан приказ форсировать Одер. В числе первых ушли Петя Кутергин, Урбанович, Володя Соколов. Володя Немченко не мог стрелять: у него был только один глаз, – его определили в санитарную часть. Иван Олейник, разбивший колено при посадке самолета, остался в Штутгарте. Сам Федор Адамов прикрывал форсирование пулеметным огнем на правом берегу.
Бой длился до полудня. Федор Адамов был ранен. Володя Немченко делал ему перевязку.
С тех пор никого из друзей по перелету Федор не видел. Видимо, как он предполагает, Володя Соколов, Петя Кутергин и другие погибли при контратаке фашистов.
Федор Адамов целый месяц пролежал в армейском госпитале. 8 мая его в числе прочих выздоровевших раненых стали выписывать, выдали документы, но вдруг по радио сообщили, что войне конец. Тогда вернулся он на родину, в свой колхоз, стал работать шофером. [166] Сейчас у него большая семья, шесть человек детей; один уже учится в техникуме, другие – в школе, а малыши еще сидят дома.
Рассказ Феди Адамова немного прояснил для меня судьбу моих товарищей, и все-таки до последнего времени жила во мне какая-то надежда, что не все они погибли в чужой Германии, в бою за нерусскую реку Одер.
Но от этой надежды все отпадают и отпадают какие-то живые узелки. Так постепенно я узнал, что предположения Феди Адамова справедливы.
Недавно путем сложной переписки мне удалось отыскать довоенный адрес Володи Немченко. Я послал по этому адресу письмо, не надеясь, что он ответит мне, и все-таки немного ожидая этого. Ответила его двоюродная сестра. Оказывается, Володя так и не вернулся домой. Его мать и родственники ничего не знали о нем. Забрали немцы парнишку, увезли в неволю, и сгинул он навсегда с родных глаз. Мне стало окончательно ясно: погиб Володя где-то под Берлином в последние дни войны. Мое письмо было для его родных целым откровением. Они узнали тяжелую правду о страданиях и гибели дорогого им человека, но лучше правда, чем неизвестность и думы, думы, пустые, тянущиеся годами надежды…
Не вернулся домой и Володя Соколов. Только в этом году я напал на след его матери и младшей сестренки Риммы. Они живут на севере, в Мурманске. Римма мне сообщила, что последнее письмо от Володи они получили в мае 1941 года, он стоял тогда под Киевом, в Белой Церкви. В 1958 году мурманские журналисты сообщили им, что Володя с другими товарищами совершил побег из концлагеря на немецком самолете. «После звонка друзей-журналистов, – пишет Римма, – мама тяжело заболела, так что даже заговаривать с ней о Володе я боюсь». Теперь, по моим рассказам, они знают о последних годах Володиной жизни многое, почти все…
Вот так – не все, но уже и немало – узнали мы о товарищах по перелету спустя пятнадцать лет после войны. Весной же 1945 года, кроме коротенького письма Володи Соколова, мы ничего не имели от них.
В то время мы тоже рвались на передовую, досадовали, [167] что нас долго держат на пересыльном пункте, писали нетерпеливые письма в Верховное командование. Ответов не получали и продолжали двигаться на запад вместе со штабом армии.
На пересыльный пункт прибывали все новые и новые люди. Одни из них сами убегали из фашистских лагерей и тюрем, других освобождали части Советской Армии. В этой массе людей опознавались предатели и полицаи. Притаившись, они хотели скрыть свои прошлые злодеяния, свою службу фашистам, хотели забыть, что на их совести десятки замученных и убитых соотечественников. Их находили, разоблачали, они бросались на колени, вымаливая пощаду, унижались, лгали, истерически рыдали. Немногим удавалось уйти незамеченными, проскользнуть, избегнуть возмездия.
С первого же дня, как только мы очутились у своих, нас одолевало желание узнать, что произошло в лагере после нашего побега, что стало с оставшимися товарищами. Мы хорошо знали, что фашисты не оставляли безнаказанной ни одной попытки к побегу. А тут убежала целая команда, да еще русских заключенных, которых они и за людей не считали, называли свиньями. И не просто убежала, а убила конвоира, захватила военный самолет и улетела с секретного острова! Неслыханный случай! Позор на всю Германию! С этого острова еще никто не убегал, две попытки были жестоко пресечены. Больше никто не рисковал! И вдруг такой вызывающе дерзкий побег! Мы понимали, что наша дерзость могла дорого стоить нашим товарищам, – и это нас волновало. Но удовлетворяло другое – понесут наказание охранники, наши ненавистные и ближайшие враги. Это не сойдет с рук и командованию…
Кое– что нам удалось узнать о последствиях нашего перелета еще на пути к Берлину, в те же весенние дни 1945 года.
Как– то во время одного из переходов нашу колонну остановили на привал. Люди расположились у обочины дороги. Весеннее солнце уже прогрело землю. Одни растянулись на припеке, блаженно щурясь, другие сидели группами, курили, разговаривали, мечтали вслух. Где-то зазвенела гитара послышалась песня. Вокруг было тихо и покойно, и только отдаленный гул канонады [168] напоминал, что еще идет война, льется кровь, где-то бьются советские солдаты. Некоторые неугомонные ходили вдоль колонны, разыскивая знакомых. Изредка слышались радостные восклицания, взрывы смеха, шутки.
Мы с Михаилом Девятаевым все время были вместе. К нам пристал еще кое-кто. Составилась группа, как это всегда бывает, когда в одном месте собирается много людей. В тот день мы – в который уже раз! – рассказывали новым товарищам, как готовили побег, как захватывали самолет. Вижу, сквозь толпу усиленно проталкивается человек в полосатой одежде. Пробился ближе, улыбается какой-то особенной, торжествующей улыбкой.
– Ванюшка! Ребята! – кричит, а на глазах слезы.
Смотрим, Павлик Черепанов, наш хороший товарищ по Узедому, посвященный в первый план побега.
Радость наша была настолько сильной, что в первые мгновения мы только смотрели друг на друга и не могли вымолвить ни слова. А потом стали тискать друг друга в объятиях, заговорили все враз. И только уж когда улеглась немного наша внезапная радость, мы начали выпытывать Павлика обо всем, что произошло на Узедоме.
И он нам рассказал:
– Работали мы в тот день, как и обычно: возили песок, передвигали рельсы, рыли канавы. Было уже за полдень, после обеда. Вдруг поднялась какая-то суматоха. Подъехала легковая машина, из нее выскочили трое офицеров, подбежали к конвоирам, сначала пошептались, потом заорали, заметались, начали сгонять нас в строй, несколько раз пересчитывали, потом уехали.
Мы не понимали, что происходит, но догадывались: раз эсэсовцы так растерянно мечутся на машине от команды к команде, значит случилось что-то важное, необычное. Пополз слушок, что кто-то вроде убежал. Но в это просто невозможно было поверить. Куда бежать днем, на открытом месте, из-под охраны, через пролив… Ведь были же две попытки – провалились. Неужели нашелся еще один храбрец?
И все– таки, думаем, нашелся. Недаром конвоиры сегодня так злы, подозрительно оглядываются по сторонам, [169] держат наготове автомашины. Рабочий день еще не кончился, а нас привели в лагерь. Пришли и другие команды. Произошло что-то, действительно, очень серьезное. Не было случая, чтобы хоть одну из команд приводили в лагерь досрочно.
Долго мы в тот день стояли на аппельплаце. Нас пересчитывали снова и снова. И тут-то мы узнали, что не вернулась целая команда – десять человек, что русские захватили самолет и на нем улетели. Эта весть буквально потрясла всех. Мы, русские, были горды, что среди нас нашлись смельчаки, отважившиеся на такой полет. Конечно, мы знали, что многим здорово достанется, кого-то расстреляют. Может быть, всех заставят долго стоять на плацу или прикажут бегать и ходить гусиным шагом. Ну, лишат пищи! Что еще могут сделать? На что решатся? Так и хотелось крикнуть в строю: «Что смотрите, гады? Вот какие у нас люди!»
Мы чувствовали в те минуты, что, несмотря на ярость эсэсовцев, все мы, русские, словно бы выросли в их глазах, стали сильнее и страшнее. И действительно, ваш побег словно сломал немецкий язык. С нами вдруг заговорили по-русски: «Руссиш улетели! Руссиш улетели!»








