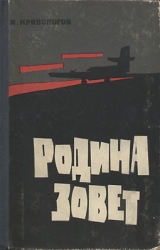
Текст книги "Родина зовет"
Автор книги: Иван Кривоногов
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 12 страниц)
Проверив несколько раз строй, немцы убедились, что десяти заключенных нет. Стали выпытывать, из какого они барака, кто их знает. Из каких бараков – они установили, но так и не нашли тех, кто знал вас. Все молчали.
В тот день всех, кроме русских, распустили по баракам. А мы стояли до самого отбоя без воды и пищи. Сначала думали, что будут расстреливать каждого пятого или десятого. Но немцы что-то медлили, видимо, опасались возмездия. На другой день нас снова поставили в строй и продержали еще день без воды и пищи. Этим и закончилось наказание. Перед общим строем немцы объявили: «Кто есть летчик? Выходи!» Вышел один поляк. Его увели. Больше он в лагере не появлялся. Мы же все восхищались вашей смелостью и завидовали вашей свободе.
Павлик рассказывал все это, захлебываясь, торопясь выложить все подробности, а мы с Михаилом мысленно переносились на Узедом, видели себя среди [170] товарищей, снова переживали все напряжение перелета.
– Как же ты сам-то вырвался оттуда? – наконец спросил я его. И мы узнали, что в одно апрельское утро заключенных построили, отобрали половину и погнали на станцию. А там затолкали в вагоны, заперли и повезли. Везли трое суток, не выпуская из вагонов, не давая есть и пить. Живые и мертвые валялись вперемешку на полу. Более крепкие кое-как держались на ногах. Конвоиры в вагоны не заходили, и тогда несколько русских решили бежать. У одного нашелся нож. Решили прорезать пол. По очереди работали, ковыряя тупым ножом твердое дерево. Вырезали отверстие, в которое мог пролезть человек. Прыгать надо было на ходу, прямо на шпалы. Ночью, выбрав момент, когда поезд замедлил ход, стали прыгать. Павлик прыгнул шестым. Удача. Немного только ушиб голову, бока и руки. Отдышался и, не найдя поблизости никого из прыгавших товарищей, побрел наугад на восток. Шел три ночи, а днем отлеживался в укромных местах. Впереди послышался гул артиллерийской канонады. Забрел в лесок, чтоб отсидеться до подхода фронта. Через сутки вышел из леска оглядеться и попал в руки советских разведчиков.
Так перед нами развернулась еще одна история человеческого мужества и стойкости. Мы не удивились, что Павлик именно так вел себя. Мы знали его в лагере как человека сильного и смелого. Он воевал с фашистами с первых дней войны, имел звание старшего лейтенанта, был награжден за боевые заслуги орденом Красного Знамени. В плен попал раненым в 1942 году. Но как только поджили раны, офицер-коммунист бежал из лагеря. Его схватили, посадили в тюрьму, потом отправили в Саксенгаузен, а оттуда, как опасного красного, перевезли на Узедом.
Павлик нам много рассказывал о товарищах, оставшихся на Узедоме, но нам хотелось знать больше. И мы жадно выискивали всякие сведения об этом лагере. Вскоре к нам присоединился еще один бывший узник Пеенемюнде – Николай Бойко, бежавший из вагона в ту же ночь, что и Черепанов. В лагере я знал его, но близко знаком не был. Он меня тоже знал. И наш побег принял близко к сердцу. Николай запомнил, [171] что в день нашего побега он работал в команде, которая бетонировала взлетную площадку на аэродроме. Почему-то долго не привозили обед. Заключенные все посматривали в ту сторону, откуда должна была появиться машина. Вдруг заметили: два самолета идут на посадку, а один выруливает на старт для взлета. Вот он дает газ, мчится на полной скорости до самой кромки берега и… не взлетает. Все видели, как он накренился на одно крыло и, чуть не перевернувшись, помчался обратно. Заключенные смотрели на самолет с явным злорадством – всякая неудача немцев радовала их. Но на летном поле происходило что-то необычное. Из остановившегося самолета вылез человек в белой рубашке, что-то осмотрел и снова залез в самолет. Еще секунда – и бомбардировщик дал газ, снова приближаясь к месту старта. Вот он развернулся и отошел на взлет. Словно бы делая невероятное усилие, оторвался от земли и полетел.
– Эх, не разбился! – с сожалением промолвил кто-то из заключенных.
Но самолет в воздухе вел себя очень странно: то начнет набирать высоту, то упадет чуть не до самой воды. Заключенные наблюдали за ним, надеясь и желая, чтобы он упал в море. Но самолет выровнялся и полетел. Вот он уже скрылся за горизонтом.
А часом позже команда узнала, что на самолете улетели десять русских.
Немцы пустили слух, что самолет сбит над морем и все беглецы погибли.
– Но этому никто не верил, – горячо убеждал нас Николай. – Не верили ни одному их слову. Мы были уверены, что вы долетите! Так и получилось.
Через несколько дней Николай Бойко взял в руки винтовку и ушел воевать. Мы больше ничего не слышали о нем, но можно быть уверенным, что дрался он неплохо, он шел за все расквитаться с фашистами.
Уже в те дни мы догадались, что наш побег не прошел безнаказанно и для фашистских охранников. Не случайно они в тот день метались по лагерю, а потом ходили какие-то растерянные, хмурые. Но наши товарищи не знали, какая расплата постигла их. И я узнал об этом только в 1960 году, узнал случайно сначала из статьи в «Литературной газете». В номере за 7 апреля [172] появилась небольшая заметка К. Лапина «300 асов Эдгара Меоса», где рассказывалось о необычной коллекции шестидесятилетнего техника Туртусского автобусного и таксомоторного парка Эдгара Ивановича Меоса. В его коллекции портреты и различные материалы о подвигах трехсот знаменитых летчиков, начиная с француза Блерио до портрета Девятаева. Случайно у Меоса завязалась переписка с немецким автором книги об асах первой мировой войны Гейнцем Новарром. Эстонский коллекционер попросил берлинца поискать в архивах какие-нибудь материалы о побеге Девятаева с товарищами из Пеенемюнде.
Гейнц Новарр нашел кое-какие документы, рассказывающие о том, как немецкое верховное командование отнеслось к побегу русских заключенных, помог Э. Меосу отыскать очевидцев этого события.
Э. И. Меос разрешил мне использовать в книге некоторые из этих материалов.
По свидетельству бывшего генерала ставки Гитлера Массова, о побеге русских военнопленных на бомбардировщике «Хейнкель-111» из лагеря Пеенемюнде прежде всего узнал сам Гитлер. Он сразу же вызвал к себе рейхсмаршала Геринга, с которым у него в последнее время были серьезные разногласия по использованию военно-воздушных сил, и между ними произошел крупный разговор. Гитлер приказал Герингу немедленно поехать в Пеенемюнде и произвести на месте следствие.
О приезде Геринга на Узедом вспоминает бывший полковник военно-воздушных сил гитлеровской Германии Вальтер Даль:
«Все летчики были выстроены на аэродроме (это было на пятый день после побега русских пленных на «Хейнкеле»).
Приехал рейхсмаршал в черном лакированном лимузине. На салют начальника авиабазы он ответил небрежным жестом руки. Вместе с ним прибыл высший гестаповский офицер группенфюрер СС Боулер, человек со свирепым выражением лица. Он игнорировал салют начальника авиабазы, стоял поодаль и ни с кем не разговаривал. Схватив начальника авиабазы за отвороты парадного френча, Геринг тряс его изо всех сил, истерически крича: [173]
– Вы дерьмоед! Кто разрешил вам брать пленных русских летчиков в команду аэродромного обслуживания?
Никогда в истории прусского милитаризма, со времен Фридриха Великого, ни один фельдмаршал так не оскорблял офицера, как теперь главнокомандующий люфтваффе рейхсмаршал Геринг… После этого он орал на летчиков:
– Вы сволочи! Вы дали украсть бомбардировщик каким-то вшивым большевикам! За это вы все поплатитесь…
Геринг бесновался как сумасшедший. Когда командир части попробовал что-то объяснить, маршал заорал на него:
– Придержите свой язык вы, пособник беглецов. С этой минуты вы, майор, лишены своего поста и разжалованы в рядовые. Вы и ваши дерьмовые летчики еще почувствуете мою руку. Раньше, чем зайдет солнце, все вы будете расстреляны. Мною будет назначен военный суд люфтваффе…
Повернувшись к начальнику авиабазы, Геринг прогремел:
– Где полковник Даль?
– Здесь, герр рейхсмаршал! – ответил я и вышел из строя.
– Почему вы, полковник Даль, не сбили мятежный «Хейнкель»? – заорал на меня Геринг.
– На это у меня были две важные причины, герр рейхсмаршал, – ответил я хладнокровно.
– Выкладывайте ваши так называемые «причины», Даль, – произнес Геринг, скривив недоверчиво рот.
– Во-первых, герр рейхсмаршал, я выпустил свои последние боеприпасы по «Хейнкелю», во-вторых, я не имел возможности его преследовать, так как вернулся на базу с последними каплями горючего.
Я в тот день возвращался с атаки на продвигающиеся советские колонны и вдруг услышал в шлемофоне:
– Ахтунг! Ахтунг! С пеенемюндского аэродрома бежал мятежный «Хейнкель-111» с русскими военнопленными летчиками. Курс полета – восток. Всем, всем, всем! Сбить бомбардировщик во что бы то ни стало! [174]
Действительно, через несколько минут я увидел «Хе-111»… Я выпустил по «Хейнкелю» очередь, отвернул и полетел домой, где узнал подробности побега. Должен еще сказать, что я всегда, без исключения, атаковал противника только с первого захода. Противника я никогда не преследовал.
– Майор, а вы проверяли самолет Даля после того, как он вернулся? – грозно спросил Геринг начальника авиабазы.
– Так точно, герр рейхсмаршал, у полковника Даля не было боеприпасов и бензобак был пустой, – солгал майор.
Геринг буркнул что-то невнятное себе под нос.
Началось короткое следствие, которое произвел на месте эсэсовец Булер. Сорвав с начальника авиабазы погоны и орденские ленточки, он объявил его арестованным и преданным военному суду. Та же участь постигла нескольких солдат из лагерной охраны и авиационной части. Майор был посажен под домашний арест, а солдаты – в карцер.
Закончив следствие, Геринг, кряхтя, полез в «Мерседес», крикнув своему водителю:
– Пошел! Увези меня прочь из этой навозной ямы!…
На следующий день в Пеенемюнде приехали эсэсовские военные судьи. Бывший комендант лагеря военнопленных, четыре эсэсовца охраны и несколько солдат были приговорены к расстрелу. Их тут же посадили в грузовики и увезли в неизвестном направлении».
Разматывая последовательно клубок событий, мы должны упомянуть и о том, что было дальше. Как свидетельствует генерал Массов, Гитлер, узнав о «цирке», устроенном Герингом в Пеенемюнде, был взбешен.
– Этот обожравшийся боров Геринг, – истерически кричал он, – окончательно сошел с ума. Летчики спасают рейх, а он собирается их расстреливать!
Гитлер дал немедленный приказ освободить из-под ареста начальника авиабазы и восстановить его в звании и должности. А Герингу пришлось, по приказу Гитлера, «за храбрость» повесить второй рыцарский крест полковнику Вальтеру Далю.
Вот они – очень интересные для нас свидетельства с другой, немецкой стороны! Мне нечего добавить [175] к этому! Вот результат нашего побега: нами убит один эсэсовский охранник, захвачен бомбардировщик, по приказу Геринга расстреляно несколько фашистов, в том числе комендант лагеря…
А кроме того, мы узнали о судорожных метаниях в ставке Гитлера за несколько месяцев до окончания войны.
В самые последние дни войны до нас стали доходить новые слухи о судьбе заключенных на острове Узедом. Когда советские войска подходили к острову, оставшихся в живых пленников фашисты согнали к берегу моря и стали грузить в баржи. Истощенных, обессилевших людей, как дрова, сталкивали в трюмы. На дне росла гора человеческих тел – мертвых, живых, разбитых, ушибленных. Кто был покрепче, успевал отползти в сторону. Крики и стоны не останавливали палачей. Они орудовали энергично, набивая трюмы доверху. Их подгоняли надвигающиеся громы орудийных раскатов, они торопились уйти от возмездия. Трое суток баржи водили по морю, трое суток люди в трюмах ожидали смерти без глотка воды, без куска пищи, без луча солнца. Немцы, видимо, не знали, что делать со своими жертвами: утопить в море, чтоб скрыть следы преступления, или вывезти на берег, чтобы не отягчать себя новыми преступлениями. На четвертые сутки баржи все-таки пригнали к берегу и оставшихся в живых заключенных перегнали в большой концлагерь неподалеку от города Барта. Но через день погнали дальше. И тут по дороге к Ро стоку настало для них долгожданное освобождение…
В стороне от дороги прошли советские танки. Конвойные заметались. Згим воспользовались пленники. Началась свалка. В немецких солдат полетели придорожные камни, пошли в ход палки. Повозки с пожитками фашистов и дорожные кухни были мгновенно перевернуты, опрокинуты, растоптаны. Защелкали винтовочные выстрелы, затрещали автоматы – это безоружные пленники выхватывали у солдат оружие и тут же обращали его против врагов, мстя за себя и погибших товарищей. Многотысячная масса людей рассыпалась по полю и прилегающему к нему леску. Убегающих фашистов тут же настигали и расправлялись с ними. [176]
Некоторые из них, наиболее дальновидные и хитрые, предвидя возможность такого конца, заранее запаслись гражданской одежкой. Тут же в кустах они срывали с себя обличающую их форму и натягивали другую одежду. Но это мало кому помогало – слишком хорошо пленные знали их звериное обличье.
Настал час расплаты и для Вилли Черного, страшного капо, на совести которого был не один десяток погубленных человеческих жизней. Его боялись больше свирепых эсэсовцев, и он гордился этим. Он знал, что возмездие для него будет суровым, и попытался убежать. Но за ним следили сотни глаз, и, когда он был схвачен, к нему потянулись десятки мстительных рук… Каждый хотел, чтобы от его удара закончил Вилли Черный свою черную жизнь…
Это произошло в последних числах апреля, когда Советская Армия билась уже на подступах к Берлину.
Конец войны мы, бывшие пленники, встретили недалеко от Берлина. Мы не видели, как над рейхстагом взвился красный флаг победы. Но мы сразу почувствовали, что война кончилась – стало тихо-тихо. Смолкла артиллерийская канонада, и как-то слышнее вдруг стало громогласное весеннее пение птиц. Люди кричали, бросали вверх шапки, обнимались, прыгали, как дети, пели, плясали… Но у многих по грубым обветренным лицам катились слезы…
Война окончилась только для мертвых… Раны в сердцах живых не скоро залечишь…
Нас становилось все больше и больше, прибывали освобожденные из разных лагерей Германии. Огромную массу людей разместили в тридцати пяти километрах от Берлина, на территории бывшего концлагеря Саксенгаузен. Среди нас было много женщин, девушек, молодых ребят, угнанных когда-то в Германию на работы и теперь с нетерпением ожидавших, когда их отправят на родину. Я смотрел на девчат, худеньких, заморенных, но таких счастливых сейчас, и вспоминал свою счастливую весну 1941 года, Марусю, скромную, милую, с длинной косой. Моя первая нежная любовь! Успела ли ты в тот страшный день отойти от границы? Прошла ли ты по тяжелым дорогам войны или осталась в оккупации? Что стало с тобой? Где ты? Доведется ли нам что-нибудь узнать друг о друге? [177]
…Вскоре эшелон за эшелоном стали отбывать на родину. Ранним июльским утром и мы с Михаилом дождались своей очереди. Гудок паровоза – и колеса начали мерно отстукивать километры. Каждый оборот приближал нас к Родине. По сторонам бежала обожженная войною земля. И вот наконец заветный полосатый столб!
Ближе!
Ближе!
Все!
Мы на Родине! [178]
Вместо эпилога
Я назвал свою книгу «Родина зовет» потому, что я сам и мои товарищи по заключению все время слышали этот властный зов. Он исходил из скупых фронтовых сводок, изредка проникавших в лагерь, от рокота советских самолетов, пролетавших над нами на выполнение задания, от голубого весеннего неба, от косяков перелетных птиц, от тревожных сновидений и полустертых воспоминаний. И этот зов был сильнее страха смерти. Послушные ему люди преодолевали лагерную охрану, ряды колючей проволоки и устремлялись на Восток, где страдала, боролась и побеждала их Родина-мать.
Проходят годы, но ничто не сотрет в памяти страшные картины фашистской неволи. Этого нельзя ни забыть, ни простить!!!
В разгар второй мировой войны я находился в самом центре Европы. Я видел своими глазами, сколько бедствий принес гитлеризм народам. Словно взрыв чудовищной силы, война смешала и разбросала людей по лицу земли, оторвала их от родины, от дома, от привычного труда, опрокинула их мечты и надежды, разрушила семьи. Вместе с русскими в фашистских лагерях томились и умирали французы, поляки, чехи, евреи, сербы, испанцы, немцы. Низведенные до положения истощенного и обессиленного рабочего скота, они горели в печах крематориев, задыхались в газовых камерах, умирали в грязных ревирах, падали под сапогами эсэсовских солдат. За три года и восемь месяцев, что я провел в фашистских лагерях, на моих глазах погибли сотни людей – повешенных, расстрелянных, забитых, умерших от голода и истощения, от болезней [179] и смертельных инъекций, которые делали немецкие врачи.
Разве это можно забыть или простить?!
Но я видел и великолепные проявления человеческого благородства и мужества. Там проверялась сущность человека. Если голодный хефтлинк мог отдать кусочек хлеба или картошину от лагерного пайка умирающему товарищу, он уже был достоин называться Человеком, это значило, что его так и не смогли превратить в животное. На тех, кто делал попытки бежать и потом шел на смерть, не склонив головы, мы смотрели как на героев, и сами зажигались их неистовой жаждой свободы.
В «черных» фашистских лагерях я обрел настоящих друзей. Многие из них погибли. Я скорблю о них, память о них храню в своем сердце. Других я потерял и не знаю, что с ними, где они. Где Ваня Олюшенко, Володя Подборонов, братья Истомины, Василий Лобенко, Павел Наруцкий – люди, бок о бок с которыми я жил и работал в разных лагерях Германии? Где сержант Торощин, бойцы Иванисов и Тернов, с которыми мы отражали первые атаки гитлеровцев на границе? Я еще надеюсь, что они найдутся, отзовутся на мой призыв, как нашлись для меня после войны Володя Молотков, Коля Дергачев, Михаил Емец, Йозеф Ульц…
Пожалуй, я расскажу, как это произошло.
Представьте себе, с каким чувством возвращается домой человек после четырехлетнего отсутствия и шквала войны, пронесшегося над ним и опалившего его, домой, где не знают, что он жив, домой, где мать четыре года заказывает панихиды об убиенном сыне.
…Мягкие пушинки снега медленно опускаются на влажный асфальт, тают, пропадают. С небольшим чемоданом в руке я стою на привокзальной площади в Горьком. Мелькают человеческие фигуры, но я вижу их как в тумане. Чувствую, что слезы катятся по щекам, стыжусь их и не могу остановить. Как-то мгновенно пронеслись в голове первый бой, длинная дорога, по которой мы шли пленными, низкие тучи Натцвиллера, лица товарищей в полумраке кабины бомбардировщика. Ради вот этой минуты возвращения я убил того, последнего для меня, фашиста на аэродроме… [180]
Я стоял и смотрел по сторонам. Город все такой же. И площадь та же, и вокзал, с которого я уезжал в последний раз. И я… Живой… Вернулся… чтоб жить, работать, ходить по родным улицам.
С вокзала до дома родителей я шел пешком. По длинной Советской улице… По знакомому высокому мосту, с которого видны обе реки… «Какая красота, – думал я, словно впервые видя и эти темные быстрые воды под мостом, и припорошенные снегом берега, и высокую гору, за которой скрывался город, и холодное ноябрьское небо надо мной. – Как же я раньше не замечал этой красоты!»
Сдерживая бьющееся сердце, я подошел к своему дому. Долго не решался постучать. Открыть дверь вышла соседка. Она меня не знала и, окинув равнодушными глазами, впустила в коридор. Я должен перейти еще через один порог… Стучусь и в ответ слабый, знакомый до боли голос матери: «Войдите!» Я вошел в комнату и остановился у порога. Мать стояла у печки. Какое у этой женщины усталое, морщинистое лицо и согнутая спина! Ее глаза вопрошающе смотрят на меня – она не узнает меня. Мне бы надо было крикнуть: «Мама! Это я – Ванюшка!», – а я не могу [181] шевельнуться, не могу слова проронить. Только стою и смотрю на нее. А она все тем же тихим голосом, но уже с беспокойством, спрашивает: «Вам кого?» Тут я не выдержал и, будто захлебываясь, по-детски отчаянно крикнул: «Мама!» Она выронила из рук полотенце, опустилась на кушетку, и я уже обнимал ее старенькие плечи, целовал ее лицо и повторял одно только слово: «Мама! Мама! Мама моя!»
А потом как-то внезапно закончились радостные встречи с родными, друзьями, знакомыми, отошли в сторону «охи» и «ахи» соседей, и деловая будничная жизнь подхватила меня и понесла, как и тысячи других солдат, вернувшихся домой. Потянуло к работе, к станку, к забытой профессии. Еще до армии я от старого и опытного мастера никелировщика Сергея Николаевича Захарова научился шлифовально-полировочному делу. Старый мастер и учитель мой был жив, он с радостью принял мое решение вернуться к прежней специальности и помог устроиться на работу.
Тут пришло ко мне и мое настоящее человеческое счастье. Как-то вечером после работы я вышел во двор отдохнуть. На скамейке сидели две девушки. Одна из них – наша соседка Лена – тихонько наигрывала на гитаре. Другая – не знакомая мне, с двумя тугими косами, круглолицая и миловидная – пела негромким приятным голосом. Я подошел, познакомился. Ленину подругу звали Оля. С этого вечера начались наши встречи, а через несколько месяцев мы поженились. Оля стала для меня добрым другом, хорошей матерью наших детей Веры и Васи, прекрасной хозяйкой. Сейчас наши дети уже большие: Вера учится в девятом классе, Вася – в шестом, мы с женой работаем, я учусь, кроме того, в вечерней школе. Но не могу я сказать, что все пережитое в фашистской неволе забылось. Нет, ничто не забылось! А побои фашистских охранников до сих пор напоминают подорванным здоровьем…
Несмотря на то, что моя личная жизнь по возвращении домой стала благополучно налаживаться, я все время чувствовал словно бы какую-то вину перед товарищами, которые в трудное для меня время стали братьями, и следы которых я растерял. Но шли месяцы, и прерванные связи начали восстанавливаться. [182]
Первым нашелся Володя Молотков. Я ничего не знал о нем с 1943 года, с того самого момента, когда после первых допросов по поводу убийства полицая меня отправили из хозяйства в центральный лагерь. И вдруг на имя моего отца пришло письмо. В нем Володя извещает, что знал его сына Ивана, которого, как он предполагает, немцы или расстреляли, или повесили.
Вместо отца я написал Володе. Это для него было полной неожиданностью, он долго не мог поверить, что письмо в самом деле написано мною. И его ответ состоял из одних радостных восклицаний.
Мы встретились с ним в Москве в 1957 году. И опять:
– Ванюшка! Неужели это ты? Ванюшка! – тормошил он меня.
Вот тут я и узнал, что произошло с Володей после того, как мы расстались.
С арестом меня, Загиная и Аноприка план побега сорвался. Гитлеровцы решили, что полицай убит неспроста. [183] Они только не поверили одному – что полицая убил «кляйн Иван», человек такого маленького роста. Большая часть пленных ничего не знала о группе побега и решила, что полицай поплатился за свое зверство. В лагерь просочились слухи, что нас троих – меня, Аноприка и Загиная – повесили.
Эсэсовцы больше не доверяли заключенным и вскоре из подсобного хозяйства отправили в Рурскую область на шахты рубить уголь.
– В одно прекрасное время, – рассказывал мне Володя, – на шахту налетели самолеты союзников. Мы сразу почувствовали, что наверху бомбят: прекратилась подача воздуха, погас свет. Кто-то закричал, что клеть не работает, в нее попала бомба. Люди разбрелись по шахтным ходам. Одни пошли в обход, надеясь отыскать другой выход, другие решили подниматься по лестнице в колодце, где раньше ходила клеть. Я пошел с последними. Жуть. Темно. По стенам течет вода, холодно, грязно, скользко. Три дня мы лезли, – ведь глубина шахты была тысяча двести метров. А когда выбрались на поверхность, не узнали знакомых мест: кругом развалины. Только наш лагерь остался цел. Но через несколько дней союзники сделали новый налет. Не поздоровилось и лагерю, так как рядом с ним был вокзал и склад горючего. Осталось в живых всего человек двести. Жить негде, работать негде. Собрали нас фашисты и куда-то повели. Странствовали мы долго, пока не наскочили на союзников.
Володя Молотков успел еще повоевать против фашистов в составе пулеметной роты. За добросовестную службы, за меткую стрельбу его наградили именными часами и вернули звание сержанта.
Сейчас Владимир Григорьевич Молотков так же, как и я, не молод, у него подрастают трое детей. Он живет под Москвой, в городе Воскресенске, и работает на фетровой фабрике.
В октябре 1957 года нам – нескольким участникам перелета – удалось встретиться в Москве. Нас пригласила Центральная студия телевидения. Приехал и Михаил Алексеевич Емец. Он живет на Украине, в Сумской области, работает бригадиром комплексной бригады в колхозе и весь поглощен своей работой. О ней он [184] рассказывает с восторгом и гордостью. У него, как у справного хозяина, и дом есть в колхозе, и сад, и шестеро детишек.
– Вот за это мы и боролись, Ванюшка! – говорил он мне.-А теперь стали еще сильнее: ведь дети у нас растут.
Как– то ранней весной 1958 года я получил письмо из Макеевки. Почерк на конверте незнакомый.
Читаю:
«Ванюшка! Вспомни, пожалуйста, 1943 год в Натцвиллере, барак № 7 и первое знакомство со мной. Может быть, ты лучше помнишь мой номер 2922. В это время мне было 18 лет. Ну, помнишь, небольшого роста, черный, по имени Николай?»
И сразу передо мной встало лицо Коли Дергачева, смелого и доверчивого парнишки, моего друга и подопечного. Сколько пережито вместе! Помню, как он поддержал меня однажды. Я совсем выбился из сил, бегая с нагруженной тачкой по уклону горы, мне казалось тогда, что лучше умереть сейчас же, здесь, под [185] палкой капо, чем продолжать эту муку. Но Коля Дергачев положил мне руку на плечо, посмотрел в глаза требовательно и ласково и проговорил:
– Ну… Ванюша!
И я доработал день и сумел достоять на ногах всю поверку. А утром мне стало полегче.
В течение двенадцати лет Коля ничего не знал обо мне, не знал даже, как закончился наш перелет, живы ли мы.
Наш побег произвел на него огромное впечатление. Вернувшись домой, он рассказал о нас своим родным. И эту историю запомнила его сестра. Однажды, уже в 1957 году, она наткнулась в газете «Радянська Украша» на воспоминание Девятаева и рассказала об этом Николаю. Он тут же побежал в библиотеку, отыскал газету и написал письмо Девятаеву. Так через него получил мой адрес.
«Ванюшка! – читаю я дальше. – После вашего вылета с острова, что было в лагере, ты представить себе не можешь. На вечерней поверке никто не хотел вставать в десятый ряд, думали, что каждого десятого [186] расстреляют. В лагере было тихо и тревожно, даже в бараках разговаривали шепотом. Но обошлось без расстрелов, только никому не дали есть. Допрашивали, кто был летчик. Но все молчали. Потом немцы стали говорить, что русские улетели не сами, что их посадил немецкий летчик, что самолет сбили. А мы не верили этим словам. Некоторые из заключенных видели, как вы взлетели. Мы завидовали вам и гордились вами».
Я читал эти строки и снова мысленно переносился в ясный день 8 февраля 1945 года. Нет, ничто не забыто – ни одна подробность!
А Коля, между тем, рассказывал мне в письме о своей судьбе. Когда фронт приблизился к острову и заключенных стали вывозить из лагеря, он попал в большую группу заключенных, которых на барже увели в море, а потом высадили на берег и погнали к востоку. Прямо на дороге их и освободила Советская Армия.
Потом мы встречались с Колей. Его не узнать. Он возмужал, раздался в плечах, стал степенен и нетороплив и совсем не похож на шустрого Кольку, которого я полюбил в лагере. Теперь он живет в Макеевке, работает прорабом на строительстве.
При встрече я все расспрашивал Николая о чешском музыканте Йозефе Ульце и Германе Кобольде, которые в Натцвиллере так много помогали подросткам и к которым у нас сохранились самые добрые чувства благодарности. Мне очень хотелось отыскать какие-нибудь их следы, но Николай, как и я, ничего не знал о них.
И все– таки я отыскал этот след! Правда, не двоих наших добрых товарищей, одного -Йозефа Ульца.
В 1959 году с помощью чешского коммуниста Иржи Прохазки я узнал, что Йозеф Ульц жив и по-прежнему живет в городе Колине, в восьмидесяти километрах от Праги. Я даже узнал его улицу и номер дома. Написал ему, с нетерпением ждал ответа… и дождался. Его письмо было очень теплое и искреннее.
«Я помню вас всех, – пишет Йозеф, – кто был со мной в 8-м бараке в Натцвиллере, во Франции… За это время я часто о вас вспоминал».
Чешский музыкант вспоминает и Германа Кобольда, который был старшим в бараке: [187]
«Мы оба старались вам помочь: хоть немного утолить ваш страшный голод и смирить страдания. Я вас очень любил. Вы были так молоды…»
При подходе американской армии заключенные Натцвиллера были перевезены в Дахау и там освобождены союзниками.
«Теперь мне 59 лет. Я учитель музыки. У меня сын, тоже музыкант, и у него уже два сына»,-писал мне Йозеф Ульц.
Его письмо было длинным, я не буду приводить его целиком, но вот этот кусок не могу читать без волнения и хочу поделиться с вами дорогими для меня словами.
«Надеюсь, что мы будем писать друг другу чаще. Я постараюсь научиться писать и говорить по-русски (многое забыл), чтобы мог тебе сказать, если ты когда-нибудь приедешь к нам или я к вам, в СССР, как я вас всех любил там, в Натцвиллере. Я и мои соотечественники уважают и любят советский народ. Мы благодарны за наше освобождение от фашистского ига… [188]
Я был бы рад, если бы ты меня навестил, и я мог бы товарищески тебя принять, обнять и показать, что и у нас есть молодцы, что и наша страна хороша и что здесь живут люди, которые не хотят войны и борются за мир».
Как– то глубокой осенью ко мне приехал Михаил Девятаев, мой друг и побратим. После войны мы на время словно бы потеряли друг друга -каждый определял свою мирную жизнь. Мы провели ночь в воспоминаниях о пережитом вместе, о возвращении, о работе. Не просто налаживалась жизнь, не сразу все вставало на свои места. Долгое время в период культа личности графа «плен» в наших анкетах вызывала у окружающих настороженность и подозрительность., Михаил с большим трудом получил возможность плавать на небольшом служебном катере в Казанском порту. Работал он отлично и добился того, что его послали в Горький на курсы судовых механиков. В это время мы и встретились…
Должен сказать, что Михаил успешно окончил эти курсы и получил звание капитана-механика, но еще долго плавать он мог только на служебном катере. [190]








