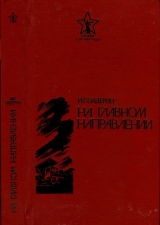
Текст книги "На главном направлении (Повести и очерки)"
Автор книги: Иван Падерин
Жанр:
Военная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 26 страниц)
В овраге пахло гарью. По небу плыли белесые тучи, из-за которых выглядывала подковообразная луна, бледная, холодная, мертвая… Ветер перегонял снежную пыль, у входа он намел целый сугроб.
Я прошел по оврагу к Волге, затем обратно. Меня тянуло в блиндаж. Я был уверен, что, когда девушка немного успокоится, можно будет поговорить с ней об умершем товарище. Если она его любила, то расскажет все откровенно.
И я не ошибся. Вот ее рассказ:
– То было горькое время, – говорила она. – Пока мы пробивались к Дону, немцы уже оказались на восточном берегу. Я тогда была рядовой связисткой-телефонисткой. На мою долю и на долю майора Бруданина выпала сложная задача: нас оставили для встречи одиночек, пробиравшихся к Дону, в район Калача. Мы должны были направлять их по условленному маршруту. По существу, мы были оставлены в тылу противника. Для меня это было трудное испытание, и, если бы не майор, мои нервы, пожалуй, не выдержали бы такой нагрузки. Я не могла спокойно смотреть на фашистов. Но Бруданин оказался опытным человеком. Он уже не раз бывал в окружении и поэтому действовал спокойно, осмотрительно, а временами так свободно и смело, как будто у себя дома.
Перед тем как переплыть Дон на рыбацкой лодке, он нарядился в мужика, а меня заставил надеть синее платье со сборками на спине. В Калаче мы остановились ночевать у многодетной женщины… Она приняла нас, как родных. Перед закатом солнца вышли посидеть на завалинке. Вдруг слышим – поют, сдержанно, но выразительно поют нашу, советскую песню: «Ты ждешь, Лизавета, от друга привета…»
Всмотревшись в степную даль, я увидела колонну людей в тельняшках.
«Наши моряки, пленные», – подумала я.
Впереди колонны, прихрамывая, шел запевала. – Сестра посмотрела на лицо умершего. – Он, как и его товарищи, был ранен, и только песня помогала ему пересилить боль. Руки у всех были заломлены за спину и связаны. Конвой был небольшой.
Против нашего дома колонна замедлила шаг, пение прекратилось. На улице появилась толпа местных жителей – женщины и дети с краюхами хлеба, с вареной картошкой.
Из дома, что стоял на той стороне улицы, вышел гитлеровский офицер под руку с немкой, очевидно, переводчицей.
– Корошо, русь, поешь. Надо повтори, – сказал он матросам.
Запевала молчал. Офицер похлопал его по плечу, а переводчица поднесла к его рту кусок булки. Тот отвернулся и сплюнул:
– Уйди, шлюха!
– Корошо, повтори! – закричал офицер. – Мы приказал: повтори!
Матрос, что стоял рядом с запевалой, склонился перед офицером. Он нагнулся так низко, что через плечи стали видны связанные руки. То же сделали другие. Офицер принял поклоны с довольной улыбкой, расправил грудь.
И вдруг матрос сделал резкое движение головой:
– На, сволочь!..
Ударом головы он подбросил офицера кверху, как футбольный мяч.
На секунду все замерли. Офицер лежал на дороге. Переводчица бросилась к нему, но недобрые взгляды матросов остановили ее, она попятилась.
– Полундра! – раздался голое запевалы.
Все матросы, как по команде, бросились на конвоиров. Что было с ними, я не заметила, уследила вот за ним. Знаю только, что конвоиры не успели ни разу выстрелить. Они очутились под ногами матросов. И улица быстро опустела…
Его я нашла за огородами в бурьяне. Алексей Чернов – так назвал он себя. Я помогла ему освободить руки от веревки и спросила: как он попал в плен? Оказалось, что матросов гитлеровцы захватили в полевом госпитале.
А через неделю мы уже были у своих. Линия фронта тогда проходила по дальнему Царицынскому обводу… Здесь, в Сталинграде, за три месяца я встречалась с ним два раза. Он был веселый и радостный. Он знал, что я люблю слушать его голос, и он всегда пел при встрече со мной. И сегодня…
Сестра опять закрыла лицо марлей. Плечи ее вздрагивали.
Юлий Чепурин сидел у столика и записывал что-то в свой замусоленный блокнот. Он давно задумал написать пьесу о сталинградцах, и вот пишет.
Наступила долгая, молчаливая пауза. Пришла пора прощаться с товарищем. «Его сейчас вынесут из теплого блиндажа на мороз: мертвым на морозе спокойнее, потому что живым нужен теплый уголок в этом тесном блиндаже», – подумал я, как-то по-своему, по-военному осмысливая суровость неписаных законов войны.
Мне даже показалось, что все затаили дыхание. Только был слышен сдержанный плач девушки-санитарки. Затем мы все встали и, отдавая последний долг товарищу, склонили головы.
В углу кто-то тихо охнул. Раненые зашевелились и забормотали… Не шевелился только Чернов. Постепенно бормотание стало утихать. Почувствовались едва заметные толчки. Все недоумённо переглянулись, а Чепурин даже улыбнулся: где-то далеко нарастала артиллерийская канонада. «Будто зная, что мы прощаемся с человеком, который умер с песней, артиллеристы салютуют ему несколькими залпами, – подумал я. – Нет, это не только прощальный салют, это начало большого перелома, это день рождения победы…»
Юлий схватил меня за рукав и потянул на улицу. За нами последовала вереница раненых.
На улице уже утро. Канонада доносится из степи, что лежит между Доном и Волгой.
– Что это?.. Давно? – спросили мы у дежурного зенитчика.
– Наши затемно начали… Эх, и дают!..
Мне хотелось прыгать, плясать, петь.
– Да, да, наши! – повторил я слова зенитчика. – Ты слышишь, Юлий, это началось большое наступление!..
Разрывы снарядов сливаются в мощный гул. Землю бросает в дрожь. Но теперь она не стонет, а дышит радостью. Из щелей и блиндажей вышли сотни бойцов и командиров. Они слушают нарастающий гул советских орудий в Сталинградской степи.
Всем нам, выстоявшим в Сталинграде столько огневых дней и ночей, утро 19 ноября принесло самую большую радость: советские войска перешли от обороны к наступлению.
25 ноября 1942 года
Всякое начало имеет конец. В воображении оптимистов (к числу которых я причисляю себя) поначалу конец рисуется всегда более грандиозным, чем бывает в действительности. Во всяком случае, по первым дням наступления наших войск под Сталинградом можно было думать и говорить о том, что вражеские войска в панике побегут от Сталинграда за Дон, а там будет видно.
– Наступать легче, чем отступать, – рассуждали мы, ставя себя в самое выгодное положение. Мысленно мы гнали фашистские войска по задонским степям, не давая им передышки. Строили самые оптимистические предположения о количестве пленных, о трофеях, о захвате штабов, полков и даже дивизий. Но вот случилось то, что по своей грандиозности превзошло наше воображение…
Но наша 62-я армия еще не наступает. В дивизиях и бригадах мало людей, а маршевые роты невозможно переправить: по Волге идет шуга – осенний ледоход. Ни паромы, ни катера не могут пробиться к нашему берегу. Только отважные лодочники, лавируя между льдин, ночами достигают нашего берега, и то не всегда. Фашисты занимают почти все господствующие над городом высоты, видят Волгу и, пристрелявшись, держат под обстрелом каждый метр реки.
У нас патронный голод, большой недостаток продуктов питания. Крайне мало мин и гранат в боевых расчетах. Орудия прямой наводки и танки – без снарядов.
Вчера вечером Семиков переправился на тот берег. Перед ним была поставлена задача: найти самый лучший катер с опытным экипажем, погрузить патроны и пробиться в Сталинград.
В полночь Семиков сообщил по радио: «Экипаж подобран, патроны и гранаты погружены, через полчаса отчаливаем».
Тотчас же адъютант командующего Григорий Климов и я выбежали к причалу встречать Семикова, чтобы раньше всех сообщить командирам частей радостную весть: есть патроны, гранаты. Ведь нам известно, что фашистские части мечутся в «котле» из стороны в сторону и под напором Донского фронта, наступающего теперь с запада на восток, прижимаются к Сталинграду. Они могут стоптать нас. Их надо остановить перед боевыми порядками наших штурмовых групп огнем пулеметов и гранатами… Остановить и разгромить!
Мы ждали катер с таким нетерпением, с каким голодные ждут куска хлеба. Я, например, не мог стоять на месте и, чтобы не расстраивать Климова своей беготней вдоль берега, залез на кучу рваного железа и арматуры, зацепился полой шинели за какие-то цепкие крючья, застыл, ожидая катера.
Прошел час, другой. Катера не было видно. Он где-то застрял. Начался рассвет. «Теперь все пропало, – подумал я, вглядываясь в редеющую над Волгой темноту. – Еще полчаса, и фашисты прицельным огнем орудий расстреляют катер, если он появится».
Лист горелого железа, оказавшийся под моими ногами, заскрежетал, загремел так, словно на нем кто-то выколачивал трепака: меня лихорадило.
– Капитан Сергеев, ты, кажется, плясать собрался, – сказал мне Климов. – Слезай.
Я не нашел, что ему ответить. Именно в этот момент я увидел катер, на носу которого, как мне показалось, стоял Семиков.
Катер, зажатый льдинами, двигался по течению левого рукава Волги, разделенной островом, что против тракторного завода. Двигался не за счет работы моторов, а по течению, которое выносило его на середину реки. Неужели отказали моторы или это хитрость Семикова, опытного плотогона, который и на этот раз решил использовать силу реки в своих целях? Если это так, то молодец Саша, отметил я. Но почему он медлит? Уже пора, пора пускать моторы на всю мощь и пробиваться к нашему берегу, пока фашисты не взяли катер на прицел… А он плывет, покачиваясь, спокойно. Спокойно ли?
И по мере того как катер, покачиваясь, приближался к нам, я приседал и покачивался, словно под моими ногами был капитанский мостик мертвого, зажатого во льдах суденышка.
– Выжидают момент, – сказал Климов, оглянувшись в сторону противника.
Наконец по шуршащей поверхности Волги прокатился рокот моторов катера. Мне показалось, что катер стал меньше и собирается нырнуть под лед. И сию же минуту над нашим берегом засвистели мины и снаряды: фашисты открыли огонь по оживающей цели. Около десятка мин и снарядов разорвалось перед катером. Поднялись столбы воды и дыма…
Пожалуй, нет ничего досаднее, как ощущать свою беспомощность.
Я рванулся вниз и повис на цепком железном крючке, от которого забыл отцепиться. Болтая ногами, пытался найти опору, но бесполезно. Сколько пришлось бы мне висеть, я не знаю, если бы в этот момент не раздался мощный залп тяжелых орудий с той стороны Волги. Залп был такой, что задрожала земля. Воздушная волна залпа подкатилась к нашему берегу и будто помогла мне вытряхнуться из шинели. Я удал на землю, как галчонок из гнезда, в одной гимнастерке. Вскочил и бросился вперед. Перепрыгивая с льдины на льдину, бежал встретить катер, который уже приближался к обледенелым закраинам причала.
Катер дымился. Фашистским минометчикам все же удалось подбить его, но расстрелять окончательно им помешали наши артиллеристы с той стороны Волги.
Вот за что мы благодарны огневикам заволжских батарей.
Александра Семикова я встретил на трапе. От взрывов снарядов и мин он был с головы до ног облит водой. Обледенелая шинель на нем стояла колом.
Я – в одной гимнастерке, он – в ледяной шинели, но мы не замечали холода: боеприпасы получены!
2 декабря 1942 года
Мое дело – сбор информации – облегчилось. Правда, связь все еще часто рвется, но настроение людей приподнятое и сообщать Родине о том, что у нас, в Сталинграде, теперь не отступают, а, наоборот, шаг за шагом продвигаются вперед, куда приятнее. Часто я прямо в батальонах беру нужные мне материалы. Узел связи по-прежнему вне очереди принимает наши телеграфные донесения.
Каждый день по два-три раза хожу туда, где назревают те или иные интересные события.
Мои записи пестрят заметками о подвигах советских людей в эти дни.
Сын сталинградского рабочего, ученик девятого класса, шестнадцатилетний комсомолец Василий Шереметьев грудью закрыл амбразуру дота, устроенного в подвале, чтобы дать возможность продвинуться группе наших солдат, наступавших на занятый врагами дом.
Пулеметчик Илья Воронов, получив до десятка ран, не разрешил своим товарищам нести его в медпункт:
– Оставьте здесь, наступать надо.
В медпункте, придя в сознание и узнав, что у него на теле много ран, Воронов сказал:
– Теперь я такой же, как Павка Корчагин.
В главной конторе завода «Красный Октябрь» несколько часов шел гранатный бой. Потом он утих. Вдруг послышался неистовый крик. «Кого-то придавило», – подумал я и с группой солдат разведывательной роты бросился туда.
– Вы в ролик, к Пономареву? – спросил нас боец, когда мы по ходам сообщения добрались до конторы.
Я не понял, о каком ролике идет речь, но на всякий случай сказал «да».
– Прыгайте сюда, быстро!
«Ролик» оказался каменной пристройкой конторы. Названа она так потому, что через нее проходит линия высокого напряжения. Проход к пристройке был устроен через окно. Спрыгнув, я почувствовал под ногами что-то мягкое.
– Это фашист… Только что успокоили, – сказал боец, кивнув головой в сторону трупа.
Несколько часов тому назад гарнизон «ролика» состоял из трех человек во главе с сержантом Николаем Пономаревым. Двое суток отбивали они натиск гитлеровцев, вползавших через выломленный простенок.
Живым в «ролике» остался сержант Пономарев. Он стоял на коленях, привалившись плечом к стене. У прохода и на цементном полу пристройки лежало больше десятка убитых врагов.
Мы хотели расспросить о подробностях этой схватки, но Пономареву не до рассказа. Подложив под голову погибшего друга вещевой мешок, он тихо повторял:
– Как же ты оплошал, Вася… Как ты оплошал…
В этот день Пономарев уничтожил из автомата и в рукопашной схватке восемнадцать гитлеровцев. Когда вышли патроны, он отбивался кирпичами, кроил черепа врагов лопатой. Правая рука его была прострелена, ноги пробиты осколками гранаты.
Под вечер в проломе показался еще один гитлеровец, на этот раз офицер. Пономарев подкараулил его, свалил на землю, зажал кисть правой руки и не дал надавить спусковой крючок парабеллума. Боролись долго, пока железные пальцы сержанта не перехватили фашисту дыхание.
Я приказал солдатам отнести Пономарева на медицинский пункт. По дороге, придя в себя, он спросил:
– А ролик не отдали?
– Нет, нет, – ответили ему.
– А соседи наступают?
– Наступают. И очень успешно.
– Вот хорошо…
3 декабря 1942 года
Я все чаще и чаще заглядываю в блиндаж Вани Крушинина. Быть среди своих однополчан в такое время просто приятно.
Вот и сейчас: вхожу к ним и вижу, что мои однополчане чем-то очень заняты. Ваня Крушинин в центре внимания. Здесь идет открытое партийное собрание. Оружейники и связисты совместно обсуждают свою работу в оборонительных боях, с тем чтобы вернее определить задачи парторганизации на ближайшее время. С докладом выступает парторг Крушинин. Все слушают его внимательно. Я смотрю им в глаза и, кажется, впервые замечаю, что тут все кареглазые. Может, долгая жизнь в огне перекрасила им глаза в этот цвет. Меня радуют такие глаза. Карие и темно-серые постоянно светятся какой-то неистощимой энергией, бодростью, живостью, неутомимостью и дальнозоркостью. Мне не очень нравятся светло-серые – от них всегда веет усталостью, от голубых – недоступной далью, от зеленых – неясностью и наивностью.
А здесь в каждом взгляде – жизнь, вера, энергия.
– Партия подняла наш народ на борьбу с врагом, – продолжает Ваня Крушинин. – Под ее руководством громят наши воины отборные войска Гитлера. Члены нашей партии всегда там, где трудно, где опасно. Давайте посмотрим хотя бы нашу дивизию. Кто первый начал переправляться под огнем через Волгу? Коммунисты батальона Еремина. Кто впереди всех ворвался на вершину Мамаева кургана? Первым там оказался капитан Маяк. Он – член партии. Кому было приказано держаться до последнего патрона в горящем цехе завода «Метиз»? Роте Соловьева. Она выстояла, не сдалась Кто такой Соловьев, вы знаете: член полкового партбюро. У кого больше всех на счету истребленных фашистов? У коммуниста Василия Зайцева. Кто ведет самый меткий огонь из минометов по врагу? Член партии Бездитько. Чья грудь украшена тремя орденами за сбитые самолеты? Парторга роты бронебойщика Седова. Он первым начал охоту за вражескими самолетами, и по его примеру теперь в нашей дивизии много десятков бронебойщиков построили приспособления для стрельбы по самолетам. И, наконец, кто поднимает роты в атаку?..
Крушинина перебил Кочетков. Он встал и, подняв свою огромную руку, сказал:
– Разреши, парторг, высказаться.
– Говори, – ответил Крушинин.
– Коммунисты – это душа и сердце нашей армии. А там, где душа и сердце, там ум и сила… Так я говорю, товарищи, или не так?
– Верно, Кочетков, верно. В самый корень смотришь.
Так думают и говорят солдаты о партии. Они видят, знают, чувствуют ее направляющую руку, ее организующую роль.
4 февраля 1943 года
На теле города много глубоких ран, но он жив. Над развалинами по всему берегу, на площади Павших борцов – всюду взвиваются красные, знамена. Отдельные чудом уцелевшие стены домов в центре города оделись в праздничный наряд. Плакаты, лозунги, музыка, стройные колонны защитников, идущих на митинг.
На трибунах генералы, офицеры, рабочие, гости из Москвы и других городов страны. Они приехали поздравить нас с победой.
Рядом со мной стоят Кочетков, Тамара Ивановна, Миша Бурков, Петя Гелов, Ваня Крушинин, Александр Семиков. Не верится, что можно стоять вот так на открытой площади, не припадая к земле…
Сто пятьдесят девять дней и ночей не умолкали здесь уличные бои. Огонь обжигал наши щеки, опалял волосы, зимний холод промораживал грудь, но никто не поддавался. Мы стояли, как вросшие в цемент, и падал лишь тот, кто был сражен насмерть.
Фашисты заползли на вершину Мамаева кургана, смотрели с нее на волжские просторы и готовились нанести отсюда смертельный удар в сердце нашей Родины. Они просчитались.
Трудно столкнуть камень с огромной скалы, но когда он полетит, то у подножия не собрать и осколков. Сталинград – та самая высокая точка войны, откуда столкнули фашистов. Им не удержаться теперь ни на Дону, ни на Днепре, ни на наших границах…
…В полночь начальник госпиталя Александр Александрович Сосновский, перевернув последнюю страницу этой тетради, позвонил дежурному врачу:
– Проверьте, – сказал он, – сколько свободных коек осталось в офицерской палате?
– Только сейчас проверил, – доложил дежурный, – все койки заняты.
– Не может быть!.. А койка Сергеева?
– Она тоже занята.
– Занята… – Александр Александрович чуть не вскочил, чтоб побежать посмотреть на беглеца, но, взглянув на тетрадь, не поверил: – Кем занята?
– На ней отдыхает инспектор по кадрам из Москвы подполковник Кириллов.
– Кто?
– Подполковник Кириллов Иван Васильевич. Он сказал, что хочет поспать на койке однокашника… Они знакомы по Сталинграду.
– …Спасибо, – сказал Александр Александрович и положил трубку.
Утром, когда почти все выздоравливающие фронтовики уже получили предписания и пошли прощаться с хрустальными озерами, подышать в последний раз воздухом соснового бора, Александр Александрович встретился с Кирилловым, в зубах которого и на этот раз торчал толстый засмоленный никотином костяной мундштук. Подошел к ним и начальник отдела кадров округа. Кириллов, оказывается, действительно лично знал Сергеева по Сталинградским боям…
– Ищите его на фронте, – сказал он. – Там, где действует 62-я армия…
В тот же день Александр Александрович переслал тетрадь Сергеева в журнал «Сибирские огни», за что ему до сих пор благодарен автор.
В ОГНЕ СТАЛИНГРАДА
Повесть
1. Гибель командира
По степной дороге мчится всадник на быстром донском скакуне. За ним гонятся серые клубы пыли. Попутный западный ветер помогает им. Но разве догонишь дончака! Вот он выскочил на гребень горы, остановился. Всадник приложил руку к козырьку, всмотрелся. Внизу– рабочий поселок северной части Сталинграда.
Сквозь рыжий лес дымящихся заводских труб синеет Волга. Широкая, просторная, как море. С первого взгляда кажется, что она вышла из берегов и затопила весь поселок. Но это мираж: от рабочего поселка до воды – не меньше километра.
Среди ровных широких улиц, разбежавшихся по косогору, всадник нашел Тургеневскую. На солнечной стороне этой улицы, рядом с книжным магазином, стоял небольшой аккуратный домик. Он заметно выделялся зеленой крышей и калиткой под красным навесом. В палисаднике, под окнами с белыми ставнями, зеленели кусты молодых деревьев.
Пришпорив коня, всадник через несколько минут подлетел к калитке. Постучался, подождал, но поняв, что в доме никого нет, ускакал дальше в город. Некогда ему. Фронт совсем близко, за Доном.
Как жаль, что тут не было Кости! Ведь к нему, к Косте Пургину, приезжал всадник и, конечно, разрешил бы подержаться за луку седла, а может, и погарцевать вдоль улицы на красивом скакуне.
К калитке подошла старушка с корзинкой.
По-хозяйски подобрала щепку, положила в корзинку и остановилась. Ее внимание привлекли свежие следы конских копыт.
– Кто, же это мог быть? – прошептала она и, вздохнув, отперла калитку.
Вскоре пришел и внук ее, Костя. На нем синяя с отложным воротничком рубашка, серые навыпуск брюки, яловые ботинки со свежими пятнами мазута, на засученные рукава, как репьи, нацеплялись мелкие железные стружки. Челка светлых непослушных волос выбилась на лоб, отчего круглое с крутым переносьем лицо кажется хмурым, как у взрослых людей, занятых серьезным делом. Косте хочется казаться именно таким, но большие серые с черными ободками глаза, глядящие на все с удивлением и детской наивностью, выдают его.
Насупив брови и опустив голову, Костя остановился возле молодого тополя. Как бы здороваясь, взялся за ветку и потянул ее к себе. Тополь немного пригнулся, и тут же ветка вырвалась.
«Вот ты какой сильный стал! А ну, давай еще!» – и Костя снова ухватился за ветку. На этот раз ветка тревожно хрустнула. Костя в испуге отпустил ее. Тополь выпрямился и, словно упрекая мальчика за баловство, покачал густолистой вершиной.
Из открытого окна послышался голос:
– Костя, четвертый час, а ты еще не обедал!
– Сейчас, – неохотно ответил мальчик.
Вот уже год как идет война с фашистами. Отец Кости, кадровый офицер – майор Пургин, до войны работал в горвоенкомате. Теперь он на фронте. Где воюет – неизвестно. Адрес на письмах обозначается только числом: 32410. Это номер полевой почты. Попробуй найди!
До войны по выходным дням Костя ездил с отцом вверх по Волге на рыбалку. Интересно было кататься на лодке или ночевать на берегу у костра. Смотришь на воду, как в зеркало, и не оторваться: луна, словно лебедь, плывет по водному простору, звезды смотрят в Волгу. А бухнется где-нибудь рядом огромная щука или промчится катер – и закачается небо вместе с луною и звездами. Хорошо! А теперь… теперь одному, без отца, на лодке не подняться – сил не хватит, да и скучно.
Самое памятное, что осталось от отца, – это садик с двумя тополями, яблоней и молодыми кустами вишен. Любил отец ухаживать за ними. Только не удалось ему послушать такого приятного шелеста листьев, каким встречают теперь Костю молодые деревца. Не ленится Костя ухаживать за садиком: носит воду, поливает, внимательно следит за каждой веткой, не появится ли какой червяк. Он старается делать все точно так, как делал отец…
По улице пронесся ветер и, толкнув калитку, бросил в палисадник горсть горячего песку. Тополь качнулся и, задерживая пыль, нежно погладил Костю прохладными листьями по щеке.
– Ух ты, какой добрый! – вслух произнес Костя, придерживая у лица шелестящую ветку.
При отце этот тополь был Косте до плеча, ниже яблони, а теперь до макушки рукой не достать.
Маму Костя не помнит: она умерла, когда ему было три года.
После ужина Костя записал себе в блокнот. «Завтра день моего рождения. Мне двенадцать лет».
В этот вечер Костя почувствовал себя совсем взрослым и даже решил изменить прическу: «Нехорошо носить челку, лучше зачесывать назад, как отец».
Он смочил волосы, причесал, туго-натуго прижал кепкой, но они, как только высохли, опять взвихрились на макушке. Снова намочил вихор и, ложась спать, замотал голову платком.
Бабушка допоздна подбеливала печку, мыла полы, протирала чашки, ложки. Наконец, вынула из сундука новую скатерть и длинное с рисунками полотенце. Так она делала всегда перед праздниками. И Косте стало приятно: «День моего рождения встречает, как праздник. Но почему она так грустно вздыхает?»
– Бабушка, тебе грустно?
Вытерев фартуком вспотевшее лицо, бабушка присела на край койки.
– Спи, внучек, спи. – И, передохнув, сдержанно добавила: – Рубашку новую тебе купила, шаровары, а ты все где-то бегаешь и бегаешь… И отец что-то долго не пишет…
– Некогда – вот и не пишет. Он теперь полком командует. Раз майор, значит, ему дали полк, не меньше, – ответил Костя словами одного раненого командира, с которым встречался недавно в военном госпитале.
Бабушка выключила свет, вышла на улицу, открыла ставни и, вернувшись, распахнула окно. Из палисадника повеяло чистым запахом зеленой листвы. Бабушка постояла на кухне, глухо вздохнула, скрипнула дверной защелкой и утихла.
Переворачиваясь с боку на бок, Костя долго не мог уснуть.
У изголовья, на тумбочке, поблескивая зрачками розеточных гнезд, дремал детекторный приемник. Этот приемник Костя делал вместе с инженером, которому носил сегодня обед. Хороший человек этот инженер, но теперь ему некогда, да и Косте не до настроек.
Посмотрел на пустую кровать отца. В темноте она сливалась с белой стеной спальни, и, когда на улице проскакивали отдельные машины с открытыми фарами, никелированные головки кровати, отсвечивая, выписывали яркие зигзаги на потолке. В этот момент несмятая постель отца будто подвигалась к Косте.
«Учись, расти, Костя, а вырастешь – инженером будешь, на завод пойдешь», – вспоминал Костя слова отца.
* * *
Проснулся Костя с первыми лучами Солнца. Огляделся и не поверил глазам: на отцовской кровати кто-то лежал.
«Может, это папка ко мне на день рождения приехал?! Вот здорово! Нет, это не папка. Вишь какой человек, ему даже койка коротка, ноги подогнул, и волосы черные, а у папы светлые, такие же, как у меня».
Приподнявшись, Костя увидел гимнастерку с красной звездочкой на рукаве. «Комиссар. Неужели это комиссар Титов – дядя Володя, про которого писал папа? Разбудить?.. Нет, не буду».
Из кухни пахло вкусным. Бабушка уже готовила завтрак.
Костя, легонько ступая, подошел к стулу, на котором лежали гимнастерка, брюки и ремень. Нагнулся. Из кобуры виднелась рукоятка нагана. У Кости даже ноги задрожали. Руки сами потянулись к стулу.
Приятно скрипнули ремни. Перебросив портупею через плечо и приложив кобуру к бедру, Костя подошел к зеркалу. «Эх, если бы еще саблю! Вот были бы именины!»
Отстегнуть клапан и вынуть наган он не решался. Но пальцы сами потянулись к нагану. Сердце трепетно заколотилось…
– Здравствуй, именинник! – вдруг раздался голос с кровати. – Ну и хозяин! Где же ты пропадаешь? Вчера заезжал, в калитку стучал, тебя нет. Оказывается, ты только ночью бываешь…
Костя похолодел и замер на месте. Но, чтобы не выказать испуга, не спеша отвернулся от зеркала.
– А я думал, вы спите… Мне говорили: какой-то всадник к нам подъезжал. Я думал – это не вы.
– Как же не я? Вот видишь, я. Ну, как живешь? – легко поднимаясь с кровати, спросил комиссар.
Костя, будто не слыша вопроса, начал объяснять:
– А я думал – это папка. Проснулся, смотрю…
– Проснулся – и наган на глаза попался. Ну ничего, ничего, смотри.
Костя уже положил кобуру обратно на стул и только теперь почувствовал, как разгорелись у него уши.
– Вас зовут Владимир? – смущенно спросил он.
– Да, Владимир.
– Значит, вы тот самый дядя Володя Титов, про которого писал папка?
«Папа, наверно, письмо прислал? – хотел спросить Костя, но решил повременить: – Нельзя же все сразу. Пусть встанет, умоется, тогда и разузнаю».
– Ну, что ты смутился? Наган можно посмотреть, он разряжен.
Костя начал внимательно разглядывать устройство нагана. Увесистый, он чуть не выпал из рук. Вороненая сталь ребристого барабана переливалась сизыми оттенками.
– А почему у вас наган, а не пистолет?
– Привык я к нему.
– Наган красивее, чем пистолет, – многозначительно заметил Костя.
– Кто тебе так говорил?
– Никто. Так думаю. Я вот знаю: вы батальонный комиссар, раз две шпалы на петлицах и звездочка на рукаве.
– Ух, какой ты молодец! А как закончил учебный год?
– Отличник.
В дверях показалась бабушка.
– Разбудил!.. Я так и знала, что не дашь человеку отдохнуть. Не мог потише, – укоризненно начала она и вдруг увидела у Кости наган. – Ах, батюшки! Брось! Что же это вы, Владимир Григорьевич, позволяете ему такое?
– Ну раз бабушка запрещает, положи и пойдем умываться.
– Идите, идите. Завтрак готов.
Комиссар не стал умываться на кухне, а вышел в огород, к колонке с холодной водой. Костя последовал за ним. Ему сразу понравился этот человек: высокий, сильный, доверчивый.
За завтраком гость преподнес Косте подарок– целую пачку галет. Бабушка угощала приезжего оладьями и пирожками с морковью и все время приговаривала:
– Ешьте, ешьте, Владимир Григорьевич, на фронте-то вам не до пирожков… Как же там Петенька? Как его здоровье? Голодает небось: все сухое да твердое. Желудок у него неладный. Ох, горе!.. Ты бы, Костенька, расспросил про отца, я-то уж надоела с этими расспросами, а все бы слушала и слушала, как там наш Петр Петрович живет.
– Не живет, а воюет, фашистов бьет, – поправил ее Костя.
Из всего того, что рассказал комиссар Титов, Костя понял – фронт придвинулся к Дону, но полк, которым командует его отец, такой крепкий и сильный, что никогда не пропустит врага в Сталинград. Сейчас принимаются срочные меры. Комиссар приезжал на заседание Военного совета и вот теперь торопится в полк сообщить отцу важные решения.
Рассказав об этом, Титов передал Косте письмо.
«Как долго держал, – про себя заметил Костя, принимая письмо, – но я тоже терпеливый».
– От отца, прочти, – сказал комиссар.
– Наверно, папа зовет меня к себе на фронт, – намекнул Костя комиссару, хитровато косясь на бабушку. Но бабушка только вздохнула.
В комнате стало тихо-тихо. И Костя начал читать письмо, в котором все для него было неожиданным. Не веря своим глазам, он перечитал конец письма:
«…Костя, еще раз предупреждаю тебя, что на этой неделе ты вместе с бабушкой должен уехать из Сталинграда. Так надо. Ты же пионер, все понимаешь. Кончится война, и я с вами встречусь. Где остановитесь, немедленно напиши мне. Целую и обнимаю тебя, мой ёршик.
Твой папа».
– Это как же так? – спросил Костя.
– Вот так. До фронта семьдесят километров. Гражданским оставаться в городе не полажено.
– А почему остальных не трогают?
– Через день-два начнут эвакуировать всех.
– Плохо.
– Да, плохо. Но будет лучше, если все эвакуируются немедленно, – сказал комиссар и, подумав, добавил: – Есть приказ.








