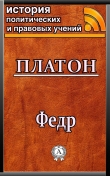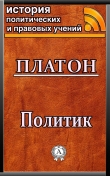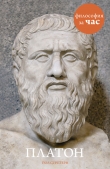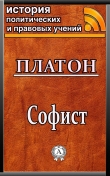Текст книги "Люди не ангелы"
Автор книги: Иван Стаднюк
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 28 страниц)
– С докторами я не ручкаюсь. Толку от них, что от прошлогоднего снега.
Мужики неодобрительно загудели, а Андрон насмешливо спросил:
– Чем же я тебе, Кузьма Иванович, не догодил?
– Сам знаешь. Сколько мне еще лазать, как шкодливому коту, по крышам? Почему нужных лекарств твоя медицина не гонит из трав или из каких-нибудь козявок?
– А ты ко мне разве приходил за лекарствами? – удивился Андрон.
Кузьма, чуть отрезвев от такого вопроса, уставил мутные глаза на собеседника:
– Неужто имеешь лекарство?
– Лекарств нет, а средство против твоей болезни придумать можно. Пришли ко мне жинку.
– Жинку? Это для какой такой надобности?
– Расскажу ей, чем из тебя дурь вышибать...
На второй день, проспавшись, Кузьма позабыл о вчерашнем разговоре, но о нем прослышала от людей Харитина и немедля побежала к Андрону.
Андрон дал ей необыкновенно простой совет:
– На ночь клади на порог мокрый мешок или рядно. Будет Кузьма в приступе болезни выходить из хаты, наступит на мокрое и проснется.
Харитина не знала, как и благодарить Андрона. Да и сам Кузьма, избавившись от лунатизма, до того уверовал в Андронову мудрость, что стал ходить к нему за советами, ничего не имеющими общего с медициной.
Кузьма не спешил записываться в колхоз. Бывало, вызовет его Степан Григоренко в сельсовет и говорит:
– Кузьма Иванович, вроде вы и авторитетный человек в селе...
– Не отказываюсь, – охотно соглашался Кузьма.
– Честный, работящий, – продолжал Степан. – А сознательность вашу куры расклевали.
– Ты насчет колхоза?
– А то как же? Заканчивается коллективизация, а вы задних пасете. – И Степан начинал пространно, со знанием дела объяснять Кузьме, какие блага ждут его в колхозе и какие подстерегают беды при единоличном ведении хозяйства.
Кузьма терпеливо слушал, согласно кивая головой, и ерзал на табуретке, а потом отвечал одной и той же неизменной фразой:
– Человече добрый, я за колхоз всей душой, да вот жинка не хочет.
Степан опять принимался убеждать Кузьму, но, видя тщетность своих усилий, предлагал ему пересесть в угол на лавку и подумать.
Часа через два-три вспоминал о Кузьме:
– Ну как, не надумали?
– Давно надумал, но жинка не хочет.
– Подумайте еще, Кузьма Иванович.
– Да меня работа ждет, человече добрый!
– А Харитина? – притворно удивлялся Степан. – Раз она у вас такая хитрая, пусть сама и работает!
Много томительных вечеров просидел Кузьма в сельском Совете.
Однажды в его присутствии зашел в сельсовет приехавший из района представитель – высокий мужчина с сухощавым лицом и жесткими черными волосами Швырнув пухлый потертый портфель на стол, из-за которого поспешно поднялся Степан, он нервно зашагал по комнате, затем остановился перед столом и, негодующе глядя усталыми серыми глазами Степану в лицо, заговорил:
– Ты что, Григоренко, себе думаешь? Весь район позорит твоя Кохановка! Почему саботажников, которые срывают коллективизацию, в тюрьму не сажаешь? Или хочешь партбилет положить и сам сесть за решетку?
Кузьма, насмерть перепуганный, незаметно выскользнул за дверь...
А когда на второй день Степан опять вызвал его в сельсовет, он, не успев переступить порог, с самоотреченной готовностью выпалил:
– Записываюсь в колхоз!..
Но жинка Кузьмы Харитина по-прежнему и слышать не хотела о колхозе. Только Кузьма отведет свою кобылу на колхозную конюшню, Харитина тут же тащит ее за уздечку домой. Целую неделю потешалась Кохановка над состязанием Кузьмы и Харитины.
Кузьма, наконец, не выдержал и пошел к Андрону Ярчуку:
– Советуй, что делать, а то Харитину убью и себя кончу.
– Продай коняку, купи новую и с торговицы, чтоб не видела Харитина, веди прямо на конюшню, – не задумываясь, посоветовал мудрый Андрон.
Кузьма так и поступил. Безутешно плакала Харитина, разыскивая потом свою кобылу среди колхозных коней. А Кузьма хранил молчание, терпеливо снося ругань и проклятия жены.
Помиловала Харитина Кузьму только осенью, когда он привез из колхоза на заработанные трудодни столько зерна, сколько они не собирали со своих двух гектаров земли при самых больших урожаях.
Но следующий год принес разочарование: колхозники получили только небольшой "аванс" из заработанного хлеба, а основного расчета не дождались. Кохавовке дали дополнительное задание по хлебопоставкам, чтобы покрыть недобор в соседних артелях, собравших низкий урожай.
Как ни странно, вскоре после этого к Кузьме Грицаю возвратилась его загадочная болезнь. Соседи снова стали замечать белеющую фигуру на гребне крыши Грицаевой хаты. Нередко Кузьму встречали ночью бредущим в исподнем белье по задворкам села и в ужасе шарахались от него.
Болезнь заметно прогрессировала. Случалось, что и в безлунные ночи Кузьма появлялся в самых неожиданных местах. Побродив однажды возле стога колхозного сена, он нагнал такого страха на сторожа, что тот с воем убежал домой. Утром оказалось, что кто-то унес от стога несколько вязанок сена.
А то был случай, когда бригадир застукал Кузьму у колхозной каморы. Набрав мешок семенной пшеницы, Кузьма взвалил его на плечи и понес в направлении своего подворья. Бригадир окликнул Кузьму, но был не рад этому. Бросив на дорогу мешок с пшеницей, Кузьма так истошно завопил, что кохановские псы до утра не могли успокоиться. А Кузьма грохнулся на спину и, закатив глаза, стал молотить босыми ногами по земле, как подстреленный конь. Три дня отлеживался он потом дома в тяжелой лихорадке.
В селе стали посмеиваться, утверждая, будто Харитина, видя, что в сарае кончается сено или в сусеках мало зерна, нарочно забывает положить на порог хаты мокрый мешок.
Вскоре появился в Кохановке еще один лунатик – великовозрастный сын вдовы Семенихи, Юхим. Аистом простояв две ночи в подштанниках на крыше своей клуни, на третью ночь он уже бродил с ведром в руках по колхозной пасеке.
Лунатизм грозил Кохановке эпидемией, и за лунатиков взялся сельский Совет. Тем более что случаи хищения в колхозе зерна, овощей, сена, клевера стали частыми.
18
Старая Григоренчиха смилостивилась над сыном. Видя, что Степан совсем отбился от дома, замкнулся в себе, и наслышавшись сплетен о нем и Христе, сказала ему:
– Женись, антихрист, чтоб тебя болячка задавила!
Степан сидел за столом и хлебал зеленый приправленный молоком борщ из молодой крапивки и щавеля. Услышав эти слова, он поднял чубатую голову, и в его карих глазах под смоляными бровями полыхнула несмелая радость. Мать – высохшая, гнутая – гремела у печи чугунками, будто и не она произнесла сейчас слова, столкнувшие с его сердца давящий камень.
– На Христе? – еще не веря услышанному, переспросил он.
– А то на ком же? Бери изъезженную кобылу, раз не умеешь захомутать молодую!.. Иди на каторгу, шалопут, корми и пои чужих детей.
– Мамо, – Степан тихо засмеялся, – добровольная каторга – разве это каторга?
– Только чтоб свадьбу по-людски справил: в церкви венчаться будешь.
Степан хмыкнул и, захлебнувшись борщом, закашлялся. Отложил ложку, помолчал, обдумывая, как бы, не обидев мать, объяснить ей все. Поднялся и вышел из-за стола, задевая курчавым чубом белоглинный потолок. Мать несла к столу дымящуюся пшенную кашу. Степан на полпути перехватил мать, бережно обнял за сгорбленные, худощавые плечи. В тарелку упал сквозь подслеповатое окошко солнечный луч, и каша засветилась янтарем.
– Мамо, – вкрадчиво заговорил Степан, – нельзя мне в церковь...
– А бога гневить можно? Уже и так у тебя грехов, как у поганого котенка блох.
– Какой же тут грех? Грех – это зло делать, людей обижать, неправдой жить. Мой бог – это моя совесть, мамо. Плохое она не простит. – Степан забрал у матери миску с кашей и поставил на стол. Опять повернулся к ней, посмотрел в темное, морщинистое лицо, такое знакомое, родное. Глаза ее смотрели на него с любовью и бессильным укором, а сухие, скрюченные работой руки беспомощно теребили грязный фартук.
От острой жалости дрогнуло сердце Степана. Что мог он еще сказать матери, которая всю жизнь не разгибается в труде, молится, постится, безропотно принимает удары судьбы? Их же – этих ударов – ой как много было на ее веку! Скольких детей похоронила, мужа не дождалась с гражданской войны... Вся жизнь в заботах, в тяжкой работе, в слезах. А счастья – одни крохи. Какого еще пекла она боится на том свете?
Степан виновато улыбнулся и, снова присаживаясь к столу, заговорил:
– Мамо, я согласен на венчание. Только чтоб у нас в хате... А вместо попа – вы. И чтоб окна были завешаны... Любую молитву выслушаю, все сделаю, что вы скажете...
– Господи, прости ты его, темного и неразумного. – Григоренчиха перекрестилась на угол, где перед иконой горела лампадка, вздохнула и стала прибирать со стола.
Степан, обжигая рот, доедал кашу. Он знал, что мать еще что-то скажет, и терпеливо ждал. И Григоренчиха сказала:
– Не хочешь венчаться, тогда и свадьба тебе нужна как дырка в мосту. Распишитесь тихонько и живите по-людски.
– Конечно! Какая может быть свадьба! – обрадовался Степан. – Разопьем четверть горилки с вами, с дядькой Платоном, еще с двумя-тремя родичами вот и все веселье...
Через неделю после того как Степан зарегистрировал свой брак с Христей и перебрался жить в ее дом, старая Григоренчиха умерла. Два дня никто не знал об этом, пока соседям не надоел неумолчный визг изголодавшегося подсвинка в ее хлеву...
Похоронив мать, Степан заколотил досками окна своей старенькой, вросшей в землю хаты, закрыл на большой висячий замок дверь. Не догадывался он, что недалеко то время, когда ему придется отрывать прибитые доски и отпирать замок...
Случилось это вскоре после того, как бригадир поймал Кузьму Лунатика у колхозного склада с мешком вынесенного оттуда зерна. Степан вызвал Кузьму в сельсовет для разговора.
Испуганный Кузьма сидел на табуретке, мял в руках картуз и дьяволом смотрел из темной гущины покрывавших его лицо волос на прохаживавшегося по комнате Степана.
– Это же фактическое воровство, – негодовал Степан. – Будем передавать дело в суд.
– Побойся бога, человече добрый! – взмолился Кузьма. – Ни сном, ни духом не ведаю о зерне. Болезнь у меня такая проклятущая – что хочет, то и делает. Увидит зерно – зерно тащит, увидит сено – за сеном посылает. А мозги мои ничего не смыслят!
– А если ваша болезнь вздумает человека ухлопать?
– И ухлопает! За милую душу ухлопает! А с меня спросу никакого. Пусть доктора отвечают.
– Значит, тем более вас надо упрятать за решетку, как опасный элемент.
– Меня за решетку?! – возмутился вдруг Кузьма. – Вон кровопийцев-кулаков и то выпускают на волю! Или это ты по-родственному выхлопотал? А меня на ее место хочешь?
Степан в недоумении замер посреди комнаты:
– Что-то не уразумею, Кузьма Иванович... Ерунду какую-то городите.
– О теще твоей, об Оляне, толкую. Или еще не знаешь, что она там с Христей панихиду по Олексе справляет? Голосят обе, будто черти с них шкуру дерут.
Через минуту Степан бежал домой. Не знал, что и думать. Удрала Оляна? А если отпустили? Как же он, председатель сельсовета, коммунист, будет жить под одной крышей с кулачкой? Ему ведь не простили даже и того, что женился на кулацкой дочери. Скоро позовут на бюро райкома – наверняка погонят из председателей...
Подошел к подворью, посмотрел на беленькую хату в зеленом вишняке, на дощатые, с желтыми слезами смолы ворота и в злобной тоске почувствовал, что все здесь ему чужое. И о Христе подумал как о чужой, хотя утром еще, уходя в сельсовет, до одури, будто юнец, целовал ее бесстыдно-жадные, горячие губы и обнимал так, что хрустело в ее плечах.
Христя, увидев сквозь распахнутое окно Степана, выбежала на подворье. Ее спело-желтая коса разлохматилась, большие глаза сверкали влажным радостным блеском, и вся она была какая-то счастливо-потерянная. Это еще больше обозлило Степана. Но Христя, ошпаренная радостью оттого, что возвратилась мать, не замечала состояния мужа.
– Степушка, ты уже знаешь? – залепетала она.
– Знаю...
– Степа, нельзя, чтобы мама с нами жила. И она согласна.
– На что согласна? – Степан почувствовал, что злость его улетучилась, и он невольно залюбовался женой.
– Она согласна, чтоб жить отдельно от нас!
Вышла из хаты и Оляна – постаревшая за два с лишним года, с пробившейся сединой в смоляных волосах. Смотрела она на Степана с грустной приветливостью и затаенной тревогой.
Степан невольно глянул на улицу – не наблюдает ли кто за его встречей с тещей. Оляна поняла этот взгляд и нырнула в сени. Степан поспешил за ней.
Оляна стояла посреди хаты, дожидаясь его.
– Ну что ж, зятек, рад не рад, а я тут. Дай благословлю тебя на долгую и счастливую жизнь с моей дочкой: – И она, шагнув к Степану, осенила его крестом и, дотянувшись холодными исхудалыми руками до лица, притянула к себе и поцеловала в голову.
– Ни к чему это, – слабо сопротивляясь, со смущением проговорил Степан.
– По сей день не знала я, – продолжала Оляна, указывая на притихших в углу детей, – что осиротели они, а ты, дай тебе бог здоровья, такую добрую душу имеешь. До самой смерти молиться буду за тебя и каяться в грехе своем, что тогда еще не поженила вас с Христей... Ой, темнота наша, грехи наши, беды наши...
– Расскажите лучше, как вас отпустили, – грубовато перебил Оляну Степан, с неловкостью прохаживаясь по хате. – Да бумаги покажите. Я же все-таки власть.
– Вот бумаги! – Христя, стоявшая у порога, с готовностью кинулась к столу.
Степан присел к окну, неторопливо стал рассматривать документы. Все правильно в них. Учитывая возраст и состояние здоровья Оляны, ей разрешалось жить в родных местах без права избирательного голоса и без права на конфискованное имущество.
"Редкий случай, – подумал Степан. – Пожалели бабу". И поднял вопрошающие глаза на Оляну:
– Где жить думаете?
Обиженная холодным тоном зятя, Оляна молчала. Ей на помощь поспешила Христя:
– Степа, твоя же хата пустует...
– Согласен. – Степан махнул рукой и впервые улыбнулся доброй, мягкой, будто виноватой улыбкой.
19
Каждое село в любую пору года имеет свое неповторимое лицо. Это лицо меняется в зависимости от того, сытый ли дух витает над хатами, идет ли подготовка к новому году, к севу, жнивам, тревожит ли душу сельчан нехватка продуктов и кормов или только холодит людские сердца ожиданием лиха. И каждое село имеет приметы – явственные или угадываемые, мимо которых не пройдет зоркий глаз.
Ранняя осень 1932 года не была в Кохановке похожа на многие прежние осени. С плетней не свешивались на улицы тяжелые головы тыкв, не валялись долго на стежках палые яблоки и груши, не виднелись на жнивье в приусадебных участках брошенные на расклев курам колосья, не струился из печных труб разящий самогонной брагой дым. И многого другого не было заметно, что свидетельствовало бы о безмятежном течении жизни крестьян, о спокойном ожидании ими дремотной от благополучия зимы.
Жидкий урожай собрал в эти жнива кохановский колхоз. Уже закончилась молотьба хлеба, а план поставок еще далеко не был выполнен. Люди возвращались с работы угрюмыми. Некоторые с опаской стреляли глазами по сторонам, ощущая в карманах или на дне кошелок из-под еды тяжесть тайком прихваченного с тока зерна... Ничего нет страшнее для крестьянина, чем беспомощность перед угрозой голодной зимы...
Вчера за левадами скосили колхозную гречиху, а сегодня утром влажные покосы оказались с изрядными залысинами.
На бывшей Оляниной усадьбе, где раскинулся теперь колхозный двор, целый день Платон Гордеевич тесал балки для строящегося коровника. И сейчас, испытывая ноющую боль в пояснице, он неторопливо шагал домой. Когда поравнялся с сельсоветом, услышал, как позвал его в открытое окно Степан.
В кабинете Степана сидел у стола розовощекий молоденький милиционер. Его подпоясанная новым широким ремнем синяя гимнастерка была перечеркнута на груди скрипучими портупеями, поддерживавшими с правой стороны лоснящуюся желтизной кобуру с наганом, а с левой – толстую полевую сумку. Чувствовалось, что милиционер очень доволен своим грозным видом и тем впечатлением, которое производит на людей. Платон Гордеевич со сдержанной почтительностью поздоровался с милиционером и озадаченно спросил у Степана:
– Зачем звал, Степан Прокопович?
– Помощь ваша требуется, Платон Гордеевич.
– Какая и в чем?
– Лунатиков наших пора к рукам прибрать. Но есть и похитрее людишки. Крадут почем зря.
– Да, негоже. – Платон Гордеевич вздохнул и посмотрел на милиционера, не зная, говорить ли ему о том, что хотелось сказать. Решился: – Но люди они и есть люди. Одна чистая совесть, если жевать нечего, на белом свете их не продержит.
– Это как же понимать? – включился в разговор милиционер. Голос у него был тоже юношеский, ломкий, с нарочитой басинкой.
– Как понимать? – Молодость милиционера почему-то раздражала Платона Гордеевича. – Вот вы, товарищ, получаете хлеб и другие продукты по карточкам. Жалованье каждый месяц получаете, казенную одежду. А возьми да все это отрежь вам. Что будете делать?
– Воровать не пойду. – Милиционер, заскрипев ремнями, поднялся, прошелся по кабинету. – Да такого и быть не может.
– Вот видите! – Платон чему-то обрадовался. – У вас не может быть, а у нас есть. Объединили мужики свою землицу, гнут на ней спины с весны до осени, а с нового урожая не получили ни шиша.
– Выполнит колхоз хлебопоставки, получите, – с уверенностью сказал милиционер, останавливаясь перед Платоном Гордеевичем.
– Получим? – переспросил Платон. – Если план поставок не скостят, без семян останемся. Мы тоже грамотные, умеем подсчитывать.
– Дядьку Платон, – вмешался в разговор Степан. – Но нельзя же колхоз растаскивать!
– Я и не говорю, что надо. Скажи людям, когда и сколько зерна им дашь на трудодень, – может, и красть не будут.
– Вы уверены? – Степан смотрел на Платона Гордеевича с добродушной усмешкой. – А помните, лет семь назад у вас с поля кто-то увез копу пшеницы?
– Я же не говорю, что у нас нет ворюг...
– Об этом и разговор. Мы устраиваем ночью кое-где засады... – Степан поймал на себе предостерегающий взгляд милиционера и пояснил ему: Товарищ Ярчук – человек верный. Так вот, засады, значит, устраиваем, посты. Хотел я вас попросить, дядьку Платон.
– Да куды мне, Степан Прокопович! Комсомольцев посылай, это им игрушки.
– Комсомольцы мобилизованы, а вы бы побродили ночью в левадах. Приметите кого с ношей, дайте знать в сельсовет.
– Нет, уволь, Степан Прокопович, не по мне такая работа...
Милиционер провожал уходящего из сельсовета Платона Гордеевича неодобрительным, укоризненным взглядом. Этот взгляд чувствовал Платон на себе и дома. Может, поэтому не спалось ему ночью. Ворочался он на скрипучем топчане, думал о том, что зря не засеял половину огорода ячменем или житом – была бы семья хоть ползимы с хлебом и кашей; прикидывал, сколько мешков соберет картошки, уродившейся плохо и наполовину вырытой летом.
На полатях, продолжая и во сне жить своей пастушьей жизнью, закричал на корову Павлик:
– Дя-ля-ля, куда пошла! – Потом вздохнул, поплямкал губами и опять завопил: – Чтоб ты подохла, зараза!..
Платон Гордеевич беззвучно засмеялся и вдруг решил: "Надо пойти все-таки в левады..."
Вскоре он уже шагал по смутно сереющей тропинке, ведущей через огороды за село. Дул упругий ветерок, под которым качались и по-воровски перешептывались кусты на меже. Где-то в вышине, среди бесконечного царства звезд, плыла скрытая рваными облаками лука. Время от времени она по-летнему теплая и ясная – взглядывала на землю, рассеивала пугающую своей таинственностью черноту огородов, придавала близким левадам печальную красоту.
Платон Гордеевич решил идти в бывшую Степанову леваду, за которой в покосах лежала гречиха. Прошел огороды и свернул к белеющей в садке хате, где теперь жила Оляна. Надо было минуть Олянино подворье и выйти на узкую дорогу, которая, пересекая левады, ведет в поле.
Степанова хатенка, где нашла приют Оляна, сонно смотрела черными окнами через плетень на проходящего мимо Платона. Но что это? Платон Гордеевич заметил, что из уголка крайнего окна пробивалась тонкая струйка света.
"Не иначе самогонку гонит, старая лисица", – ухмыльнулся он и, остановившись под темным кустом калины, повел носом.
Но бражного запаха не уловил.
В это время выглянула из облаков луна, и Платон, перепрыгнув через канаву на дорогу, увидел у приоткрытых ворот останавливающегося всадника. Соскочив с лошади, всадник тихо заговорил с женщиной, подошедшей к воротам из глубины подворья.
Платон Гордеевич ощутил непонятное беспокойство и, шагнув назад, присел в канаве.
– Все в сборе? – услышал он, как хрипло спросил мужчина.
– А ты скольких ждешь? – недовольно ответил Олянин голос.
– Двоих.
– Тогда все.
– Куда поставить коня?
– Под поветь... Что вам надо от меня? – Голос Оляны будто просил пощады. – Из одной беды выбилась, другую на шею вешаете.
– Вырвали тебя из беды наши люди. Значит, нужна нам...
Разговор продолжался, но Платон Гордеевич не мог разобрать слов. Уловил последнее, когда мужчина уходил в хату:
– Карауль... – И вслед за ним ржаво заскрипел в сенях засов.
"Не первый раз здесь, знает", – подумал Платон Гордеевич, еще не в силах осмыслить услышанное. Понимал только, что надо сейчас же дать знать Степану.
Оляне было страшно. До нынешнего дня она была уверена, что помог ей вернуться в Кохановку мешочек золотых червонцев, который при раскулачивании увезла запеченным в буханке черного хлеба. А пришлый петлюрака говорит, что помогли его люди. Нет, неправду говорит! А если правду?.. Зачем она нужна им? Это пугало ее, хотя и подогревало надежду, что скоро наступит время, когда вернется она в свой дом и спросит с землячков за свое добро. Все припомнит им, даже холодные взгляды, которые леденили ее душу при выезде из села. Но зачем же нужна она этим пришельцам? Давать приют для сборищ? Рассказывать, чем дышат мужики? Распускать через верных людей разные байки – одну страшнее другой? Да, она все делает. И кажется, ничем это не грозит ее теперешней, бедной радостями жизни. Трудно ведь узнать хозяина оброненной на дороге копейки, еще труднее докопаться, кто пускает по ветру различные слухи, кто учит молодиц носить с колхозного тока домой зерно. На краденом долго не проживут, но зато на трудодни получат фигу...
Угадать бы, что нового затевают эти таящиеся от белого света люди. Тогда, может, рассеялась бы тревога. А если наоборот? Если узнает она, что стоит на краю пропасти?.. Еще сильнее тянуло к завешенному окну, в котором предусмотрительно заранее открыла форточку.
Опасливо повела вокруг глазами. Со всех сторон жался к подворью пугающий черный морок: луна опять где-то заблудилась в тучах.
И хотя помнила Оляна о недремлющем оке села, о том, что, на беду, случайный гуляка может увидеть ее, прильнувшую к окну своей хаты, и заподозрит неладное, все-таки решилась. Тенью скользнула под низкую стреху, прошла вдоль стены и замерла у окна, отливавшего вязкой чернотой. Слышался бубнящий голос ее давнишнего знакомца:
– ...На многое надеялись: и на подрывную работу троцкистов и на наших людей, проникших в советский аппарат. Но пока никаких перспектив. Правда, сейчас зреет голод. Если он приведет к волнениям – хорошо. Однако никакой гарантии нет. Мужики просто разбегаются по городам, где рабочая сила нужна позарез...
Оляна, опомнившись, отшатнулась от окна, осмотрелась, заглянула за угол хаты и, успокоившись, снова подошла к форточке. Боялась, что там, в хате, услышат, как гулко бьется ее сердце, как дышит она в одеяло, которым завешено окно. Говорил все тот же знакомый голос:
– ...Нет никаких сил больше кормиться подачками поляков, обещаниями Скоропадского и крохами, которые привозит с берлинского стола батька Коновалец. Надоело!.. У нас же семьи! Вот и решили спасаться кто как может.
Полтавец-Остряница выведал у поляков, что в этих подземных ходах есть отсек, где хранится золото. Здесь, между Тывровом и Ободным, сто лет назад металась армия генерала Колыско, зажатая русскими войсками, подавлявшими польское восстание. Колыско напугался, что его армейская казна и захваченное в царских банках золото попадут в руки нашего генерала Шереметьева, и распорядился упрятать все под землю. Сдается мне, что участвовавшие тогда в восстании братья Сабанские, граф Ржевусский и другие местные помещики тоже воспользовались этими подземными ходами. Короче говоря, есть во имя чего рисковать. Первый раз нам помешал дурацкий случай. Надо попытаться еще. В сельсовете так и объясняйте: музей, мол, интересуется происхождением подземных ходов и надеется найти оружие и знамена армии Колыско, которая вместе с армией генерала Дворницкого пыталась вырвать Польшу из-под гнета русского царизма. Главное обнаружить входы в подземелье. Если входы окажутся на чьем-нибудь огороде, можно даже будет пойти на сговор с этим хозяином. Золото заткнет рот кому хочешь.
Обещаю, что клад будем делить строго поровну. Потом каждый может сниматься с насиженного места и давать драпака куда угодно, хоть за границу. А Скоропадский с Коновальцем пусть ищут дураков в другом месте. Я не намерен больше подставлять голову под пули пограничников.
Сердце Оляны встрепенулось и будто оборвалось. Спиной почувствовала, что сзади кто-то стоит, повернулась и вскрикнула: перед ней, предостерегающе приложив палец к губам, замер ее зять Степан – высокий, огромный, страшный в темноте. В хате услышали вскрик Оляны, умолкли, задули лампу, сорвали с окна одеяло.
Степан увидел забелевшее перед форточкой окна лицо и, уже не прячась, спокойно, со смешком сказал:
– Хата окружена, граждане. Отоприте засов и приготовьте документы.
И тут же грохнул из форточки пистолетный выстрел – резкий, оглушающий, на который забористым брехом ответили кохановские псы.
Пуля попала в затылок Оляне, мгновенно оборвав все ее трудные счеты с этой жизнью...
Степан метнулся за угол, а милиционер, стоявший под ясенем, трижды выстрелил из нагана в окно.
Двое оставшихся в живых сдались.
20
Ничто не тревожит так душу хлебороба, как весна. Дожидаются ее с трепетом, зная, что март, апрель и май не всегда живут в дружбе. Один другого то одаряет излишним теплом, то коварно студит холодом...
Из поколения в поколение передается в Кохановке об этом притча. Будто случилось в седую старину такое: позвал март к себе в гости апрель. Апрель обрадовался и поехал. Но март был не "щирым" хозяином. Услышав, что за горами тарахтит телега апреля, завихрил снегами, ударил трескучим морозом. Пришлось апрелю вернуться домой.
На второй год апрель решил ехать к марту на санях. А март, как только донесся до него скрип полозьев, растопил снега, разлил реки. Опять ни с чем вернулся апрель домой.
И вот встретился апрель с другим своим соседом – маем. Жалуется ему, что не может попасть в гости к марту. Тот ему и отвечает: "Не будь дурнем, бери с собой в дорогу телегу, сани и челн".
Дождался апрель следующего года, погрузил на сани телегу, на телегу челн и поехал.
Услышал март, что гость к нему снова на санях едет, и тут же растопил снега. Тогда апрель снял с саней телегу, погрузил на нее сани, на сани челн и поехал дальше. А март еще сильнее теплом дышит: взломал лед на речках, снес мосты, залил водой балки. Но апрелю все нипочем: на челне нагрянул к марту в гости.
Удивился март: "Кто же тебя научил, как доехать ко мне?" Апрель отвечает: "Мой сосед – май". Нахмурился март, и с тех давних пор не дружит он с апрелем и маем. Нередко теперь налетают на апрель и май мартовские холода.
В этом году земля на Винничине еще в марте стряхнула с себя снега, умылась в шаловливых, звонкоголосых ручьях, вволю напилась из них и, охмелев, задремала под солнцем. Радостно шагнула на эту притихшую, умиротворенную землю весна, обогнав апрель, который всегда обычно шествовал впереди нее.
Во всю мочь засветило с прозрачного неба солнце. Над Кохановкой, над омывающей ее речкой Бужанкой, над широкими массивами колхозных полей струилась теплынь, напоенная горьковатым запахом набухших вишневых почек. В левадах послышался первый звон встрепенувшейся от любви кукушки. На лугах крикливо зазолотился ранний лютик. Казалось, еще день-другой погреет солнце – и весна щедро расстелет, и развесит вокруг свои зеленые наряды.
И неожиданно, когда апрель распахнул дверь перед маем, весна исчезла. Будто забыла она свое девичье приданое в дальних краях и стремглав умчалась за ним. Тут же с разбойным посвистом налетел холодный мартовский ветер, свирепо выдувая из всех уголков тепло стыдливого апрельского солнца. Днем и ночью буйствовал он в хмельном разгуле, словно радуясь отсутствию хозяйки земли – весны.
С паническими воплями металось над полями воронье, ломая в упругих потоках воздуха крылья. Беспрерывно махали умоляюще протянутыми к солнцу голыми ветвями деревья в кохановских садах и левадах. Надрывно стонал недалекий лес. Остуженная ветром земля оцепенела, так и не успев прикрыть свою наготу.
Нет тоскливее зрелища, чем нагота полей. Весенние посевы еще не взошли, а влажная зелень озимых – жидких и чахлых – не могла пересилить черноту прошлогодней пахоты.
Охали и вздыхали в Кохановке старики. В их привычных ко всему глазах, усталых и выцветших, гнездилась тоска и тревога. Хлеборобы болели болью земли, которая лежала вокруг в покорном бессилии, с каждым днем все больше лишаясь влаги, бурея, трескаясь. Грозно надвигался неурожай, и был он тем более страшен, что еще в прошлом году пришел в Кохановку голод.
Голод... Грозное, холодящее душу черное слово. Кто не испытывал голода, тот не в силах вообразить, сколько рождает он человеческих страданий. Ничего нет ужаснее для мужчины – главы семьи, чем сознание своей полной беспомощности перед печальным, умоляющим взглядом жены, которая не знает, чем накормить детей. Нет ничего страшнее для матери, чем вид изможденных, отупевших, разучившихся смеяться голодных детишек.
Если бы неделю, месяц... А то ведь многие месяцы в большинстве кохановских семей нечего поставить на стол. Подметены сусеки, опустошены погреба, ни одной курицы на дворах не осталось. Съедены даже свекловичные семена...
Все ждали весны, как никто еще в жизни ничего не ждал. Ждали, когда мороз отпустит землю и можно будет перекопать огороды, где осенью убрали картошку. Авось осталась какая-нибудь картофелина в земле. Вымерзшая за зиму, она хранит в затвердевшем мешочке щепотку крахмала. Ждали, когда оживет кора на липах, набухнут почки. А там появятся молодая крапива, лебеда, щавель, пшеничка. Надеялись, что природа хоть чем-нибудь поможет человеку.
Но весна вдруг отступила, повергнув людей в страшное отчаяние.
Первыми умирали от голода мужчины. Потом дети. Затем женщины. Но прежде чем уйти из жизни, нередко люди лишались рассудка, переставали быть людьми.