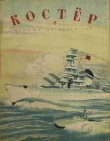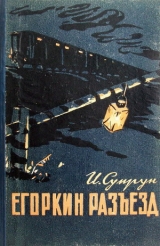
Текст книги "Егоркин разъезд"
Автор книги: Иван Супрун
Жанр:
Детская проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 12 страниц)
ЕГОРКА „ВОЮЕТ”
С некоторых пор взрослые, в том числе и Егоркин отец, при виде воинских эшелонов, стали говорить:
– Гонят на убой.
– Кто их гонит? – спрашивал Егорка.
– Известно кто – царь, – отвечал отец.
Царя Егорка представлял себе хорошо. Это высокий, усатый человек, в шинели, густо усеянной крестами и медалями, в начищенных до блеска сапогах. Ездит он на белом коне по всей Расее, размахивает шашкой и зычным голосом кричит: «На войну! На войну!» Царя окружают толстые бородатые генералы (их Егорка видел на картинках из численника). На генеральских плечах сидят, похожие на больших пауков, эполеты, на груди красуются звезды и толстые шнурки. За генералами, подняв над головами пики, скачут лихие казаки.
Представить себе убой было труднее, и Егорка продолжал допытываться:
– А после убоя куда угоняют солдат?
– Гнать их больше некуда, – разъяснял отец. – Убитых закапывают в землю, а шибко покалеченных отпускают на все четыре стороны.
Покалеченные ехали «на все четыре стороны» не эшелонами, а небольшими группами, в обыкновенных пассажирских поездах и песен не пели. Молчание этих солдат крайне удивляло Егорку, и он один раз спросил у матери:
– Почему они не поют?
– Потому, что все песни перебиты и похоронены на позициях, – ответила мать.
Убивать и закапывать в землю солдат можно – в это верилось, а вот песни? Разве можно их убивать и хоронить, ведь они не люди, их штыками не проколешь и пулями не пробьешь? Так в чем же дело, куда же они девались? А может быть, солдаты поют, но поют так тихо (громко нельзя – мешают раны), что голоса не долетают до казармы? «Надо послушать как следует», – решил Егорка и с этой целью стал выбегать к путевой насыпи, когда проходили пассажирские поезда.
Раненые выглядывали в окна, толпились в тамбурах, случалось, сидели на подножках. Тех, кто находился около окон, рассмотреть толком не удавалось, а вот те, что располагались в тамбурах и на подножках, видны были хорошо. У одноруких болтались пустые рукава, одноногие опирались на костыли. Кое у кого на груди блестели похожие на медные пятаки медали, кое у кого сверкали белые крестики. Егорка жадно глядел и чутко прислушивался.
Солдаты разговаривали, курили и даже смеялись, но песен не пели.
Отходя от путевой насыпи, Егорка с грустью думал: «Наверное, правда, что всем солдатским песням пришел конец». И еще он часто думал о том, что когда вырастет, обязательно станет солдатом и побывает в сражениях. Получится вот как.
Начнется война. Приедет царь на белом коне и крикнет: «Собирайтесь воевать!» Володька Сопатый струсит и спрячется в стайку, где стоит корова, а вот он, Егорка, смело подойдет к царю и скажет:
– Я готов. Отправляйте.
– Молодец! – похвалит царь и крикнет генералам: – А ну, дайте Егору Климову быстрого коня да острую шашку!
– А нельзя ли еще получить двенадцатизарядный револьверт? – спросит Егорка.
Царь подумает немножко, а потом скажет:
– Хотя у нас и мало револьвертов, но так уж и быть, для тебя найдем.
И тут же распорядится:
– Выдайте этому герою двенадцатизарядный револьверт и тысячу пуль. Пусть стреляет.
И вот приедет Егорка на позицию. Сначала отдохнет немножко с дороги, а потом сядет на своего быстрого коня, возьмет в правую руку шашку, а в левую – револьверт и начнет крошить. Коня придется заранее приучить, чтобы он все время танцевал, крутился и взвивался на дыбы. Это для того, чтобы враги не могли как следует прицелиться. Окружат, допустим, его со всех сторон, а он на своем Вертунчике (так будут звать коня), как вихрь, завертится: то вправо, то влево, то взовьется, а то к земле припадет. Попробуй попади!
Весть об Егоркиной ловкости и храбрости разнесется повсюду. Услышат о нем и на Лагунке. Родные и друзья будут радоваться и гордиться: «Вот, – скажут, – какой наш Егорка».
Домой придется приезжать два раза: в середине войны – на побывку и в конце, насовсем – из-за тяжелого ранения.
Всего у Егорки будет две раны. Одна рана – так себе – небольшой сабельный шрам на шее. Ее он получит в начале войны и приедет с ней на побывку. Вторая рана должна быть настоящей, такой же, как у едущих на все четыре стороны солдат. И нанесут ее враги не какой-то саблей в рукопашной схватке и не пулей, а невидимым пушечным снарядом. Да! Шальной снаряд попадет в него и…
В этом месте мечта обычно обрывалась, потому что никак нельзя было придумать, что же должно произойти дальше.
Иметь рану на спине или на животе Егорка не хотел, никто ее там, под рубашкой, не увидит, да и притом – как было известно из разговоров взрослых – снаряд не пронизывает и не дырявит, как пуля, он отрывает. Жить с оторванной спиной, головой или без живота человек не может – это ясно. Значит, что же? Значит, нужно, чтобы снаряд оторвал или руку – одну, конечно, – или ногу – тоже одну.
Допустим, оторвет ногу, – размышлял Егорка. – Безногий человек заметный, когда идет – костылики – «скрип, скрип!», – а медали и кресты на груди – «динь, динь!». Но вот беда – как бегать? Ведь тогда, на одной ноге, Володьку не догонишь. Будет он кружиться и кривляться под самым твоим носом, а ты стой или прыгай на своих костылях да злись. Нет уж… А если остаться без руки? Безрукого тоже хорошо заметно, и бегать он может вовсю, и повертываться быстро. Вот только как же бороться? Тог же Володька обхватит тебя обеими руками и в два счета положит на обе лопатки.
После долгих раздумий выход был найден: Егорка решил побыть немножечко «безруким», а затем «безногим».
Стать безруким не трудно: вытащи одну руку из рукава рубашки, засунь ее за пояс штанов – вот и все. Егорка так и сделал.
На лужайке, где он появился с пустым рукавом, его сразу же окружили ребятишки:
– Ты почему так ходишь, Егорка?
– У меня оторвало на позиции руку.
Ребятишкам понравилась Егоркина выдумка, и они тоже сделались «безрукими».
Держать все время «оторванную» руку за поясом не так-то легко, и вскоре все «покалеченные», за исключением Егорки, выздоровели. Егорка же мужественно крепился до тех пор, пока не прибежал Володька Сопатый.
Узнав, в чем дело, Володька подкрался сзади к Егорке и ухватился за пустой рукав.
– Не лезь! Раненых трогать нельзя, – крикнул Егорка.
– А вот мы сейчас узнаем, какой ты раненый, – Володька так дернул за пустой рукав, что рубашка очутилась на Егоркиной голове.
Оставаться дальше «безруким» было невозможно. Егорка высвободил «оторванную» руку и начал ею орудовать…
Покрасоваться среди ребятишек без ноги Егорке вовсе не пришлось, а жаль – уж на этот-то раз Володька не посмел бы даже подойти к нему – побоялся бы костылей. Хотя костыли были не настоящие, но крепенькие: толстые березовые палки с набитыми поперечинками – подмышниками. Все дело испортила мать. Увидев, как Егорка ковыляет по ограде на костылях, она крикнула:
– Тебя чего это леший выламывает?
– Я, мам, играю, будто у меня нет ноги.
– Ах ты, выдумщик непутевый!
Мать отобрала у Егорки костыли и кинула их под крыльцо, пригрозив:
– Если я еще раз увижу тебя на костылях или кто-нибудь скажет мне об этом – отлуплю.
Наказ матери был выполнен – она никогда больше не видела Егоркиной игры в раненого. И не могла видеть, потому что он становился на костыли не в ограде и не на лужайке, а в своем секретном месте – между штабелями шпал. Знал про это только один Гришка, но он ни за что не рассказал бы, потому что сам представлялся безруким.
Сегодня Егорка с Гришкой наигрались вволю.
Прибежали они к шпалам, договорились, как и что будут делать, и разошлись в разные стороны. Когда Гришка скрылся из виду, Егорка встал на костыли и медленно заковылял среди шпал. Навстречу ему двинулся уже «безрукий» Гришка. Друзья встретились один, два, три раза, но друг другу не сказали ни слова, как будто бы возвращались домой по безлюдной проселочной дороге. На четвертом круге Егорка остановился и крикнул:
– Здорово, служивый!
– Здорово! – ответил Гришка.
– Откуда бредешь?
– С позиции.
– А куда?
– Домой.
– Я тоже с позиции домой.
– Ну и хорошо, – сказал Гришка. – Надо пожить дома, новостей всяких послушать.
– Надо. Ну, а как же ты руку потерял? – поинтересовался Егорка.
– Известно как – снарядом оторвало. Ударило выше локтя – и начисто.
Егорка покачал головой, а затем начал рассказывать про себя:
– А у меня, видишь, отсекло снарядом ногу. А конь у тебя был?
– А как же, был, вороной, его вдребезги раскрошило, на месте остался только один хвост. А у тебя был конь?
– У меня был серый, от моего даже хвоста не осталось.
– Ишь ты! – удивился Гришка.
Поговорив еще некоторое время в том же духе, «калеки» выбрали удобное местечко и решили передохнуть. Опираясь на Гришкино «здоровое» плечо, Егорка покряхтел, поморщился и опустился на землю. За ним, посапывая и тяжело вздыхая, приземлился и Гришка.
Усевшись, друзья завели разговор другого порядка.
– Табачок-то у тебя есть? – спросил Егорка.
– Как не быть – полукрупка. Да, однако, отсырел, проклятый, я ведь под дождь попал.
– Ну, и пусть сыреет, – утешил Егорка. – Будешь курить мой. У меня турецкий, пахучий.
– Ладно, давай твоего. Только ты уж и папироску мне заверни.
– Завернуть-то я тебе ее заверну, но вот еще какое дело… Не заглянуть ли нам в кабак?
– Давай заглянем.
Гришка помог Егорке подняться, и они перебрались на другое место – «в кабак». В «кабаке» друзья уселись друг против друга и закурили. Гришка сосал цигарку – круглую тоненькую палочку, а Егорка попыхивал трубочкой – толстенькой палочкой с сучком.
Ввести в игру курение и кабак надоумила одна понравившаяся ребятам песня «Трубочка». Ее пели ехавшие на войну солдаты. Частенько напевал ее и Пашка Устюшкин. Всего в этой песне было семь куплетов. Егорка же с Гришкой знали только три. Начиналась она как раз с того, что делали идущие домой солдаты, а именно:
Шел солдат с похода,
Зашел солдат в кабак,
Сел солдат на бочку,
Давай курить табак.
Егорка с Гришкой накурились вдоволь и выпили по стакану казенки. «Выпивая», Гришка сильно морщил нос, крякал и чихал, как Антон Кондратьевич Вощин, а Егорка, по примеру крестного, беспрерывно нюхал «хлеб» и теребил бородку. После этого друзья улеглись на траву и протяжно пропели первый куплет.
Второй куплет солдаты и Пашка Устюшкин пели отрывисто – рубили. Иначе и не могло быть, потому что в нем рассказывалось о боевом событии с внезапным горестным исходом. Все слова в этом куплете были резкие, как сабельные удары. Лежа петь его было нельзя.
Егорка с Гришкой резво вскочили на ноги и, размахивая руками, отчеканили:
Наш полк вперед несется,
Всех рубит наповал,
Вдруг выстрел раздается,
И ротный с коня пал.
Ребята снова шлепнулись на траву.
В третьем куплете – в солдатской песне он был предпоследним – говорилось:
Какие тяжки муки
Наш ротный претерпел.
Пожал мне крепко руки
И долго жить велел.
Этот куплет Егорка с Гришкой пропели по-своему:
Какие в чашках мухи,
Наш ротный утерпел.
Пожал мне крепко руки
И долго жить велел.
СТРАШНОЕ ЛИЦО
Поезда проносились с большой скоростью, и завязать разговор с ранеными было невозможно. Впрочем, не все поезда мчались, попадались и такие, которые сбавляли ход перед стрелками и шли по разъезду «пешком». Хорошо бы не прозевать такой поезд.
И вот однажды Егорка не прозевал. Поезд шел так, что если бы взрослый человек чуточку ускорил обычный шаг, то вполне поспевал бы за ним, такому же, как Егорке, надо было бежать рысцой.
Егорка начал осмотр состава с «головы». В первом тамбуре ехал главный кондуктор. Увидев Егорку, главный погрозил пальцем:
– Я тебе, шельмец, побегаю, я тебе…
Пришлось остановиться.
В тамбурах второго вагона никого не было, а из окон выглядывали мужики и бабы. На самой нижней ступеньке третьего вагона стоял низенький господин с белым чайником в руке. О том, что это господин, Егорка узнал по шляпе – простые люди их не носят – и по раздвоенной бородке. Поровнявшись с Егоркой, господин потряс чайником:
– Эй ты, мужичок с ноготок! На вашей станции кипяток есть?
– Здесь никакая не станция, – обиделся Егорка.
– А что же тут?
– Разъезд Лагунок. И никакого кипятку нет, и поезд тут не остановится.
– Безобразие!
Господин громыхнул чайником и поднялся в тамбур.
Прошло еще несколько вагонов, но в них ни у окон, ни в тамбурах солдат не было. «Наверно, отдыхают», – подумал Егорка и уже хотел присесть на корточки, чтобы получше рассмотреть под вагонами всякие трубки, рычажки и скобочки, как вдруг увидел тех, кого искал.
Их было двое. Один с пустым рукавом стоял в глубине тамбура. Второй сидел, поставив свою единственную ногу на ступеньку. Рядом с ним лежали выкрашенные в желтый цвет гладенькие костыли.
Егорка сорвался с места и побежал. Безногий солдат улыбнулся и помахал рукой, а безрукий спросил:
– Какая это станция?
– Разъезд Лагунок, – охотно ответил Егорка.
Не переставая улыбаться, безногий пригласил:
– Садись, подвезем.
– У меня билета нет, вытурют.
– Мы тебя в карман спрячем.
– Нет, не сяду.
– Не сядешь, беги домой, а то закружится голова, и угодишь под колеса.
– Она у меня никогда не кружится, – похвастался Егорка. – Рядышком с вами я хоть сколько пробегу.
– А зачем тебе бежать с нами?
– Я спросить у вас чего-то хочу.
– Ну, спрашивай, а то уедем.
Одноногий нагнул голову и подставил ухо.
Егорка приблизился к подножке:
– А почему солдаты, когда едут на войну, песни поют, а когда едут на все четыре стороны – не поют?
Одноногий быстро повернул голову:
– Что?
Однорукий присел на корточки и тоже удивленно произнес:
– Что такое?

– Песни… Когда солдаты едут на войну – поют, а когда едут домой – молчат. Мама говорит, что немец поубивал все песни. Это правда?
– Ах, чтобы тебя! – засмеялся громко однорукий.
А безногий перестал улыбаться и сказал товарищу:
– Не грохочи, Иван. У парня серьезная забота, а ты…
– Нет, вы подумайте только, – не унимался Иван. – «На все четыре стороны», а? Ведь это он в аккурат про меня сказал. Ну, что ж, Митрич, отвечай скорей, а то ведь он всю дорогу будет бежать за нами.
– Песни, сынок, не убиты, – сказал Митрич, – они живы, да только не до песен нам. Вот если бы война окончилась, да всех солдат домой распустили, тогда, может, и запели бы, а то ведь, как на цепях, держат в этих проклятых окопах.
– А кто держит? – спросил Егорка.
– Известно кто, – ответил притихшим голосом Митрич. – Николашка.
– Николашка?..
– Ну да, царь-батюшка. А теперь пожалей свои ноги и ступай домой.
Егорка стал отставать, и когда с ним поравнялся задний вагон, хотел свернуть домой, но вдруг увидел в тамбуре этого последнего вагона еще одного раненого. Солдат был высокий и очень худой, без ноги; он наклонился вперед, опираясь на костыли. Солдат держал платок у рта, поэтому лица его сразу Егорка не мог рассмотреть, да и не до лица было: все Егоркино внимание в первые секунды было приковано к двум белым крестикам и двум желтым медалям, болтающимся на груди. Егорке доводилось видеть на одной груди один крестик или одну медаль, а тут сразу два креста и две медали. «Вот это герой, так герой! – обрадовался Егорка. – Вот бы поговорить с ним». Вагон удалялся, Егорка прибавил ходу и догнал его. Солдат в это время уже не держал платка у рта, он стоял, не шелохнувшись, лишь крестики да медали качались слегка на груди. Егорка поднял голову и чуть не вскрикнул. Лицо у солдата было изувечено: на месте носа – две дырочки; верхняя губа тоненькая-тоненькая, красная и как бы прилипла к деснам; ощерившийся рот перекошен; одна щека сдвинулась вверх и совсем закрыла глаз, а вторая наоборот – обвисла, спустилась ниже скулы. Это ужасное лицо смотрело на Егорку единственным черным глазом, смотрело упорно, не мигая. Егорка остановился, наклонил голову и уставился в землю, но земли он не видел – на него по-прежнему глядело страшное, искалеченное войной лицо.
Поезд миновал станцию, скрылся за семафором, а Егорка все стоял и думал: «Что же теперь будет делать этот солдат, за что его так изувечили?». И тут ему вспомнились слова дяденьки Тырнова, сказанные им зимой во время беседы у географической карты: «А за то, чтобы прибавилось капиталу у царя и богатеев».
КАТАВАСИЯ
Поздно вечером на разъезд примчался на дрезине ревизор. Он сразу ворвался в квартиру Павловского:
– Константин Константинович! Очень важное дело. Срочно зовите дорожного мастера.
Павловский немедленно послал Назарыча за дорожным мастером, а сам с ревизором прошел в кабинет. Через несколько минут явился Кузьмичев.
Часа два Павловский и Кузьмичев с озабоченными лицами выслушивали наставления ревизора. Дело оказалось действительно очень важным – разъезд Лагунок попал в число объектов, на которых в этом месяце должен побывать с инспекторским осмотром сам директор дороги. Такого события на разъезде никогда не было, и ни разу еще ни Павловский, ни Кузьмичев не встречались с директором дороги. Но хотя им и не доводилось иметь дело с такой важной персоной, по рассказам других они знали, что это значит и чем это может окончиться.
Директор дороги Сокольский, в сопровождении большой свиты своих непосредственных помощников, каждое лето выезжал на линию и осматривал несколько станций, депо и путейских околотков. Местное начальство узнавало об этом через ревизоров недели за две, а то и за три до выезда комиссии на линию. Точный срок прибытия высокого начальства сообщался накануне. Особое значение имело второе предупреждение. Не будь его, местное начальство очутилось бы в чрезвычайно тяжелом положении. И вот почему. Сокольскому нравилось, когда его встречали не только подчиненные, начальники и их помощники, а и все рабочие, служащие станции и даже их семьи. Он и его свита ездили в отдельном поезде, состоящем из двух служебных вагонов. Водил этот состав всегда один и тот же машинист – Чувяхин. Такая честь выпадала ему за то, что он умел подъезжать к станции так, как любил Сокольский. Все машинисты, строго соблюдая инструкцию, снижали скорость поездов, Чувяхин же делал наоборот – скорость служебного поезда на станционных путях увеличивал. Директор дороги въезжал в свои владения лихо, с грохотом, с ветерком.
…Вот от входных стрелок на всех парах мчится служебный поезд. Вокруг колес вихрится песок, кружатся бумажки. Сокольский стоит на нижней подножке вагона и крепко, обеими руками, держится за поручни. На перроне застыли ожидающие. Когда паровоз приближается к зданию станции, Сокольский поднимает левую ногу. В это время – и ни секундой позже – машинист дает короткий, пронзительный гудок и резко тормозит. Поезд со скрежетом останавливается, и директор дороги, окутанный пылью, опускает поднятую ногу на перрон.
Сокольский разговаривал не только с начальством, но кое-когда и с рабочими, причем, если рабочие жаловались на неблагоустроенность или на какие-либо беспорядки, то он страшно гневался и обрушивался на непосредственных начальников жалующихся: дорожных мастеров, начальников станций, разъездов, депо. Влетало им не за то, что они не сделали чего-то, а за их неспособность улаживать недовольство на месте, без жалоб.
Очень не нравилось Сокольскому, когда по станционным путям бродила домашняя птица.
Сокольский любил награждать подчиненных разными прозвищами. Начальник одной из станций был назван Сапогом Ивановичем, потому что явился в Управление дороги в грязных сапогах. Начальник разъезда Парашино за то, что во время инспекторского смотра по перрону бродили куры, был прозван «Куриным королем».
Рассказав об этих привычках директора дороги, ревизор сел на дрезину и умчался.
Со следующего дня во всем околотке развернулась деятельная подготовка к встрече директора дороги, и чем ближе подступал срок его приезда, тем суетливее и лихорадочнее шла работа.
Путейские рабочие торопливо двигались со своей вагонеткой, кое-где меняли сгнившие шпалы, подсыпали свежий балласт, забивали расшатавшиеся костыли.
Сторожа хлопотали на своих верстах: сметали мусор с полотна, выдергивали траву, красили и обкладывали разноцветными камешками указательные столбики.
Работали от темна до темна.
Самота ходил теперь не как раньше – вперевалочку, с заложенными за спину руками, а, сбросив с себя тужурку и засучив рукава рубашки, носился так стремительно, словно от быстроты его передвижения зависело предотвращение крупнейшего крушения. Как из-под земли вырастал он то у одной, то у другой группы рабочих и не только покрикивал «давай! давай!», но и – чего раньше не случалось – помогал поднимать и перетаскивать какую-нибудь тяжесть. Изменился и набор его ругательных слов. Крепкие, оскорбительные выражения были заменены новыми, совсем безобидными: «чертушки полосатые», «дьяволы непутевые», «обормоты»…
– Уму непостижимо, человек переродился на глазах! – говорил с улыбкой Антон Кондратьевич.
– Погоди, – отвечал Тырнов. – Он сейчас, перед приездом большого начальства, соблюдает пост, боится жалоб. А вот когда начальство проедет – настанет великое воскресенье. Уж тогда-то он примется «христосоваться» с таким усердием, что не возрадуешься.
Раз, а то и два в день приезжал со станции Протасовка старший дорожный мастер Артюхин – важный, седобородый, с крючковатым носом старик. Раньше, когда ему приходилось бывать на разъезде, он перво-наперво подлетал к казарме, где жил Самота, заходил в палисадник и садился за столик. Жена Самоты выносила ему кринку холодного молока. Он выпивал его, затем перебирался в тень, выкуривал трубку и только после этого отправлялся на место, где шла работа. Теперь же Артюхин проносился мимо казармы прямо на перегон.
Егорка хорошо знал, что происходило на станции и вблизи нее.
Рабочие переносили на новое место старые шпалы, рельсы, костыли, битый кирпич и другой хлам. Это доставило всем ребятишкам немало хлопот: нужно было вовремя и незаметно вытащить из своих укромных мест накопленное добро и припрятать его. Егорка с Гришкой успели это сделать – о готовящемся разгроме старого склада они узнали накануне, – а некоторые ребятишки ничего не слыхали, и большая часть их «сокровищ» погибла.
Работа путейцев очень нравилась Егорке, он думал: «Сейчас, наверно, такого хорошего разъезда, как наш Лагунок, во всем свете не сыщешь». По его мнению, только так, а не иначе должны были думать и другие, но он ошибся: нашлись люди, которые не разделили Егоркиных восторгов, и первым из них оказался дяденька Тырнов.
Как-то под вечер Егорка и Гришка вертелись около кладовой. Леонтий Кузьмич и Пашка Устюшкин прикатили с перегона вагонетку, чтобы погрузить на нее накладки с костылями. Прежде чем приступить к работе, они сели перекурить.
– Если бы директор дороги приезжал каждый месяц, то наш околоток красовался бы, как картинка, – сказал Пашка.
– А мы с тобой подохли бы, – ответил Тырнов. – Ведь по девятнадцать часов в сутки шпарим!
– Зато порядок.
– Порядок… – Леонтий Кузьмич крепко затянулся цигаркой, плюнул с ожесточением и продолжал: – А для чего и кому нужен этот порядок? Только для того, чтобы начальнический глаз смотрел ласковее. Камешки всякие красивенькие укладываем, ровные бороздочки проводим, со всяким хламом зачем-то кажилимся, а самое главное запущено: шпалы-то нужно почти сплошь менять, верхний покров пути тоже надо обновлять, и не в двух-трех местах, а, почитай, на всем околотке. Или с костылями? Привезем вот сейчас триста штук и будем вбивать их в гниль, в труху. Нет, это не настоящая работа. Это – катавасия.
– Как?
– Катавасия – вот как.
Когда рабочие укатили вагонетку, Егорка и Гришка заспорили. Гришка утверждал, что дяденька Тырнов сказал правду, что то же самое говорят все рабочие в бараках, а Егорка доказывал: «Нет, не правду» – уж больно ему хотелось видеть Лагунок красивым.
– Чем спорить, Егорка, давай лучше пойдем сейчас на перегон да проверим, – предложил Гришка.
– Выдумал тоже – «проверим». Как же мы будем проверять, если нет у нас никакого инструмента: ни железных реечек, ни молоточка с длинной ручкой, ни ключей?
– Железные реечки да молоточек с ключами не нужны: ими проверяют рельсы, а мы с тобой спорим из-за балласта и шпал.
– Вот это сказанул! А шпалы и балласт как проверяют?
– Балласт глазами да голыми руками, а шпалы можно вот чем: – Гришка поднял с земли большой ржавый гвоздь.
– Гвоздем?
– Ну да, ткнешь им как следует в шпалу и сразу же узнаешь, гнилая она или нет. Пошли!
– Иди ты от меня со своим гвоздем!
– Ага, струсил? – подзадорил Гришка.
– Кто струсил?
– Ты.
– Ни в жисть! Раз так, то пошли!
Егорка сорвался с места. Вслед за ним устремился и Гришка.
Ребята взобрались на насыпь и направились к стрелочной будке.
Егорка подошел к стрелкам и удивился.
Еще позавчера днем, когда он приносил обед отцу, тут все было по-старому; чернел слежавшийся, пропитанный мазутом, балласт; на потрескавшихся шпалах, под рельсами, виднелись большие вмятины; во многих железных подкладках зияли дыры – не хватало костылей.
А сейчас – вот это здорово! – балласта почти не было: его заменили чистенькой серой щебенкой. Вместо шпал лежали здоровенные просмоленные брусья. Не оказалось и старого с выщербленным концом передвижного рельса. На чугунных плитах, густо смазанных мазутом, красовался новый рельс, крепкий, без единой зазубринки, с острым, как кинжал, концом.
Егорка рванулся вперед, добежал до первого бруса, постоял немножечко на нем, а затем степенно пошел по раскаленным от солнца камешкам, зорко всматриваясь в каждую мелочь. В отверстиях железных накладок и подкладок сидели болты и костыли – значит, рельсы держались крепко. Тяги – длинные болты – были привинчены к рельсам двумя гайками – ни за что не ослабнут.
Там, где передвигается рельс, Егорка нагнулся и подергал новенький, с медным ободочком, замок – закрыт ли? Замок был закрыт. Затем Егорка отступил немножечко назад, присел на корточки, внимательно посмотрел из-под руки вдоль линии. Время от времени он склонял голову то вправо, то влево, почти касаясь щекой земли, и часто прищуривался: так делал мастер Самота, когда проверял, ровно ли уложены рельсы.
Убедившись, что рельсы уложены как следует, Егорка поднялся, заложил руки в карманы, отставил правую ногу и сказал:
– Тыкай своим гвоздем!
– Тут тыкать нечего, тут вчера все правильно сделали, – ответил Гришка.
– А ты тыкай, тыкай, – настаивал Егорка. – Где твой грязный балласт? Где твои гнилые шпалы? Проспорил!
– Ну и ткну!
Гришка наклонился и ткнул гвоздем в брус. Гвоздь чуть царапнул черную поверхность бруса, обнажив «белое мясо».
– Ага, нарвался! – торжествовал Егорка.
– Ну и нарвался. Пусть тут будет по-твоему. А теперь пойдем вон туда, за стрелку.
Почти сразу же за стрелками друзья вступили на плотно слежавшийся грязный балласт, покрытый кое-где травкой.
– Видишь? – сказал Гришка. – Разве хороший балласт такой бывает?
– Бывает!
– А вот и врешь. Хороший балласт должен быть чистеньким, чтобы, когда идет дождь, вода свободно проходила сквозь него.
– А зачем ей проходить, твоей воде? – не сдавался Егорка. – Думаешь, она рельсы зальет? А если и зальет немножечко, то поезд все равно пройдет по ним. Как колесами надавит, так брызги во все стороны полетят.
– Вот это сказанул, так сказанул. – Гришка хихикнул. – Вода это тебе, брат, не что-нибудь такое, она течет ручеечками. А они, знаешь, какие? Бороздочками да дырочками быстро источат все полотно. Шпалы-то вместе с рельсами и просядут. Заедет поезд на такое место, и – трах-бах! – крушение.
Рассудительные слова Гришки вконец рассердили Егорку. Некоторое время друзья шли молча. Потом Гришка вдруг остановился и, зажав в руке гвоздь, нагнулся.
– Смотри вот на эту шпалу. Сейчас я буду пробивать ее.
– А чего ее пробивать? Она крепкая. – Егорка отвернулся.
Гришка поднял руку с гвоздем.
– Погоди! – Егорка присел. – Хитрый очень. Если изо всей силы ткнуть, то гвоздь в любую шпалу войдет, потому что он острый. Давай буду тыкать я.
– На!
Егорка приставил гвоздь к шпале и надавил его. Гвоздь не лез.
– Ты вдавливай, вдавливай как следует, – требовал Гришка.
– Я и так изо всей силы.
Егорка пыжился, сопел, повертывая руку и так и эдак, но гвоздь по-прежнему не лез.
– А ты вот как пробуй!
Гришка хлопнул ладонью по Егоркиному кулаку, и гвоздь моментально, почти до середины, вошел в шпалу.
Этого Егорка не ожидал.
– Ага, ты так, ты так! – он стукнул кулаком по Гришкиной спине.
Началась драка.
Обратно возвращались порознь: Егорка шагал по шпалам, а Гришка – сбоку линии, по дорожке.
Около казармы противники разошлись в разные стороны.
– Уж теперь-то ты на лужайке не показывайся! – крикнул на прощанье Егорка. – Все бока обломаю.
– Ладно, посмотрим, – принял вызов Гришка.