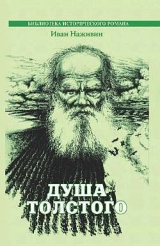
Текст книги "Душа Толстого"
Автор книги: Иван Наживин
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 23 страниц)
XIV
К осени 1869 г. «Война и мир» была закончена. Это – этап не только в русской литературе, но и в его личной жизни: книга эта не только завершение огромных процессов в душе ее творца, но и веха, в очень значительной степени определяющая его дальнейший славный путь. Это самая русская из всех русских книг, которая отразила наш национальный дух во всей его широте, во всей его глубине, во всей его красоте и во всех его особенностях.
В основе русского национального духа лежит глубочайший, хотя бы часто и бессознательный скептицизм, какой-то безбрежный, совсем не злой, а скорее ласковый мистический анархизм. Самым ярким, самым полным, самым милым воплощением этой основной черты нашего национального характера, которая так чужда, так непонятна деятельному европейцу, является Платон Каратаев. Его светлое приятие жизни с ее часто мучительными противоречиями, со всеми ее на первый взгляд бессмысленными страданиями, вытекает у него из стихийного не столько сознания, сколько чувства невозможности для человека что-нибудь изменить по своей воле в ее пестрых и таинственных водоворотах. Каратаев ничего не знает и не хочет знать, потому что он инстинктивно угадывает все смешное ничтожество всякого знания человеческого, он не верит ни в какое усилие человеческое, потому что всякое усилие неизменно кончается могилой, ему смешно всякое величие человеческое, потому что хаотической, но ясной, анархической, но бесконечно кроткой душой своей он чует все ничтожество всякого величия. Он с тихой покорностью выносит плен у Наполеона, но он не хочет даже задаваться вопросом о том, правы или неправы были те, кто послал его против Наполеона, и те, кто его держит в неволе: и тех, и других он покрывает своим тихим, светлым и необидным презрением... Этот дух мягкого, светлого религиозного отрицания праздного шума жизни нигде не веет с такою силой, как в безбрежных пространствах России: человек среди них так мал, что даже смешно. Жутью веет от бескрайней степи нашей, и для победы над ней у многомиллионного Платона есть только немудрый конек, которого он сам же ласково-презрительно зовет «волчьей сытью» и «травяным мешком»; жутки эти темные, безбрежные леса, но против них у нас есть только молитва да и то перепутанная: Господи Исусе... Микола Милостивый... Буйно, как моря, гуляют по весне наши реки, а для преодоления опасных просторов их у нас есть только самодельный ботничек, который мы с добродушной иронией зовем «душегубкой»: двум смертям не бывать, а одной не миновать...
И убедить Платона в иной правде нет никакой возможности, потому что эта правда его бескрайней Родины слишком уж властно говорит о ее душе. Велик как будто был Наполеон у себя, а как только сунулся он в русский океан, так разом превратился в жалкий нуль. Вышина башни Эйфеля, аэроплан, молнией несущийся за облаками, подводная лодка, уходящая в морскую глубину, нас в величии человека ничуть не убеждают – нам милее видеть это величие в непризнании всякого величия. И это чует душой и голодный граф Пьер Безухов у костра, и фельдмаршал Кутузов, и безграмотный Каратаев, умирающий на пути отступления «великой» армии, и творец всех их, Толстой.
Очень характерна в этом отношении казнь рядового Шебунина, защиту которого на суде взял на себя в это время Толстой. Когда окрестное население узнало, что солдат приговорен к казни, к нему целыми толпами стали стекаться крестьяне, чтобы передать этому страшному государственному преступнику кто горшочек молока, кто яичек, кто ржаных лепешек, кто кусок холста. И когда его расстреливали на глазах у массы народа, женщины рыдали и падали в обморок – чего при европейских казнях никто и никогда не видел. Чрез какой-нибудь час после казни на свежей могиле его дерзновенный попик уже служил без передышки панихиды, которые заказывали ему крестьяне. На другой день с утра панихиды возобновились. К могиле «несчастненького» стекался уже народ и из дальних деревень. Начальство встревожилось, приказало сравнять могилу с землей, а вокруг были расставлены караулы, которым приказано было не подпускать больше народ и не позволять служить больше панихиды. Пусть власть озабочена где-то там дисциплиной армии, строением государственным, для нас все это далеко и нисколько не интересно, а вот на наших глазах свершилось страшное и злое дело, и мы болеем душой, и не находим себе покоя: для нас зло важнее и дисциплины, и государства, и всего. Не то, что эта философия ничтожества дел земных совершенно уж парализует нашу волю, – нет, но она не позволяет нам слишком уж обольщаться своей деятельностью: наше дело, наше счастье, – говорит Каратаев, – как вода в бредне: тянешь – надулось, а вытащил – ничего нету...
Громадный труд был закончен. Толстой, отдыхая, перечитывает Шекспира, Гёте и начинает изучать греческий язык настолько основательно, что через несколько месяцев уже читает без словаря Ксенофонта. Потом едет он в степи, на кумыс, подлечиться, а вернувшись, с головой уходит в педагогическую деятельность. Попутно налетает он на астрономию, увлекается ею и по целым ночам наблюдает звездное небо. Он придумывает для детей упрощенную арифметику и составляет для них азбуку и книгу для чтения, переписывает и перемарывает свой труд по двадцати раз и приводит типографию в самое черное отчаяние. А попутно, точно шутя, он создает такие перлы народной литературы, как «Кавказский пленник» и «Бог правду видит». В 1872 г. г. его «Азбука» и «Хрестоматия» выходят, их бранят, но Толстой уверен, что этим трудом своим он «воздвиг памятник» себе.
Он ведет деятельную переписку по педагогическим вопросам, полемизирует в газетах, выступает в общественных собраниях, словом, развивает энергичную деятельность по всему фронту. Его противники не стесняются в средствах в борьбе с беспокойным новатором, ни в методах, ни в выражениях. «Люди с именами» упрекают Толстого во лжи, невежестве, себялюбии, советуют ему лучше молчать, чем говорить все эти бессмысленные вещи, и тому подобное. Да и как могло быть все это иначе, когда Толстой ронял в беседах о педагогике такие замечания:
– Как можно учить грамматике, не понимаю! Какие-то «периоды» учат...
Уваров, министр народного просвещения, писал Гёте письмо и в нем выразил сожаление, что забыл немецкую грамматику. Гёте ответил ему, что, напротив, сожалеет, что он грамматику не может забыть.
Но иногда враги его шли и дальше. Так, Толстому пришла в голову интересная мысль наиболее способным ученикам народных школ дать высшее образование – основать «университет в лаптях», как выражался он, с тем чтобы потом заменять ими действительно слабо подготовленных – в этом он был совершенно прав – учителей тогдашней народной школы. Проект этот был им разработан и внесен на рассмотрение тульского земства. Во время прений по этому вопросу, вначале сочувственных Толстому, вдруг встал один старик и заявил, что в этом году Тула празднует столетие учреждения губернии Екатериной II и что не лучше ли в знак благодарности за оказанное Тульской губернии «благодеяние» пожертвовать имеющийся в наличности капитал на памятник великой императрице? Возражать, разумеется, никто не посмел, и проект Толстого был провален: деньги пошли на памятник. Но зато его «Азбука» разошлась, несмотря на все противодействие ученых колпаков, в количестве 1 500 000 экземпляров, что, по тогдашнему масштабу безграмотной России, было громадным успехом.
А параллельно с этим он с увлечением продолжает занятия греческим языком, читает в подлиннике греческих классиков и, как всегда, как во всем, увлечение его не знает никаких пределов. «... Как я счастлив, что Бог наслал на меня эту дурь, – пишет он в одном письме. – Во-первых, я наслаждаюсь; во-вторых, убедился, что из всего истинно прекрасного и просто прекрасного, что произвело слово человеческое, я до сих пор ничего не знал, как и все: и знают, но не понимают; в-третьих, тому, что я не пишу и писать дребедени многословной никогда не стану... Гомер только изгажен нашими с немецкого образца переводами. Пошлое, но невольное сравнение: отварная и дистиллированная вода и вода из ключа, ломящая зубы, с блеском и солнцем и даже соринками, от которых она только чище и свежее. Все эти Фоссы[44]44
Иоганн Фоссе (1751–1826) – немецкий поэт, переводчик.
[Закрыть] и Жуковские[45]45
Василий Андреевич Жуковский (1783–1852) – один из создателей русского романтизма, перевел «Одиссею».
[Закрыть] поют каким-то медово-паточным, горловым и подлизывающимся голосом. А тот чёрт и поет, и орет во всю грудь, и никогда ему и в голову не приходило, что кто-нибудь может его слушать. Можете торжествовать: без знания греческого языка нет образования...».
И, опять надорвавшись в этом горении, он почувствовал себя плохо и снова поехал в степи на кумыс, снова с головой окунулся в народную и дикую жизнь. На пароходе он сразу перезнакомился со всеми, спал у матросов на носу, с любовью наблюдал башкиров, «от которых Геродотом пахнет», и русские деревни, «особенно прелестные по простоте и доброте народа». Но настроение его все же первое время было усталое, тусклое, и он не видел, как жалуется в письме к жене, жизни «насквозь с любовью, как прежде». И так ему понравился тот богатый, привольный край, так привлекательны были для него и русские новоселы, и дикие кочевники, что он купил себе там землю и начал заводить хозяйство. И с тех пор стал ездить туда чуть не ежегодно...
В 1873 г. там разразился жестокий голод: засуха убила и посевы и выпасы. Толстой тотчас же ударил в набат, призывая всех на помощь голодающему народу. Правительство было чрезвычайно недовольно опубликованием его воззвания в газетах, но императрица первая дала деньги на организацию помощи, и тогда, разумеется, все недовольные поджали хвост и уже не стали ставить препятствия в деле оказания помощи пострадавшим от неурожая. Толстой сам раздавал деньги пострадавшим, закупал для них хлеб, лошадей, скот, входил во все нужды народа. Графиня деятельно помогала мужу.
Потом и мне пришлось работать на этих голодовках, которые стали там хроническими, бытовым явлением, к которому привыкли. И я хорошо узнал этот когда-то богатейший край. Только сто лет тому назад, как легко можно было убедиться по рассказам старожилов и историческим документам, это был край, изобиловавший рыбой, птицей, всяким зверем, до седого бобра включительно, край с жирным девственным черноземом. Чтобы иметь представление о его богатстве, достаточно вспомнить описание его у С. Т. Аксакова.[46]46
Сергей Тимофеевич Аксаков (1791–1859) – автор популярных книг «Детские годы Багрова-внука» и «Семейная хроника».
[Закрыть] Новоселы впервые направились на эти места лет двести назад. Темное, невежественное крестьянство принялось и здесь не столько хозяйничать, сколько самого себя и Россию разграблять: очень скоро совершенно исчезли с лица земли вековые леса, были истреблены дикие зве ри, реки обмелели, высохли источники, и засуха тут стала постоянной гостьей. Пораженные силой этого девственного полуторааршинного чернозема, крестьяне решили, что удобрять его не надо, и весь навоз сваливали в овраги. В молодости, двадцать пять лет тому назад, я езжал туда на охоту и помню, как поражало меня богатство Заволжья и дешевизна жизни там. У хороших крестьян на гумнах стояли одонья хлеба за несколько лет, гусь или индюк стоили там на выбор 20–25 копеек, а арендная плата, которую брали башкиры за десятину этого дивного чернозема, была 20 копеек в год...
Прошу снисхождения читателя за это невольное отступление: сердце болит при воспоминании об этой халатности, этой преступности старого правительства, которое за двести лет господства в этом крае не успело дать народу ни школы порядочной, ни хозяйственных руководителей. Казенные винные лавки пооткрывали и тут везде, а на серьезное, настоящее дело ни времени, ни средств не хватило.
Кое-как народ справился с бедствием 1872–1873 гг., и Толстой в следующем году снова приехал в свое новое имение. Народ узнал его ближе, полюбил его, и когда он объявил у себя народный праздник и байгу – скачки, – к нему съехались наездники со всей округи и веселый пир продолжался двое суток. И Толстой весь ушел в эту дикую, привольную жизнь: «Я два месяца не пачкал рук чернилами, – пишет он оттуда своим друзьям, – а сердца мыслями». И в другом письме он говорит: «Надо пожить, как мы жили в Самарской здоровой глуши, видеть эту совершающуюся на глазах борьбу кочевого быта (миллионов на громадных пространствах) с земледельческим первобытным, чувствовать всю значительность этой борьбы, чтобы убедиться в том, что разрушителей общественного порядка, если не один, то не более трех скоро бегающих и громко кричащих, что это болезнь паразита живого дуба и что дубу до них дела нет. Что это не дым, а тень, бегущая от дыма. К чему занесла меня судьба туда (в Самару) – не знаю, я слушал речи в английском парламенте (ведь это считается очень важным), и мне скучно и ничтожно было, но что там – мухи, нечистота, мужики, башкирцы, а я с напряженным уважением, страхом вслушиваюсь, вглядываюсь и чувствую, что это очень важно»...
Разъезжая по краю, Толстой по пути навестил как-то очень почитаемого народом отшельника в Бузулуке, в монастыре. Он жил в пещере и многочисленных посетителей своих принимал в саду, под яблоней, которую он сам посадил тут лет сорок назад. Отшельник показал Толстому свою пещеру, гроб, в котором он спал, и большое распятие, пред которым он молился. Эти отшельники, эти гробы при жизни, эта тяга прочь от жизни – черта чрезвычайно русская. В этом уходе от жизни для русской души скрыто какое-то особое очарование, хотя, по существу, все это, конечно, лишь новая форма, новый лик все той же волшебницы жизни... И если отшельник не посеял, то, вероятно, укрепил те семена, которые спали в большой и горячей душе Толстого и которые потом проросли и так властно поманили его в сторону отречения от жизни и всех утех ее, «игрушек», как говорила Софья Андреевна.
XV
А тем временем в нем все более и более накоплялся «сок» художественного творчества, и уже «я подставляю сосуды, – писал он Фету. – Скверный ли, хороший ли сок, все равно, а весело выпускать его по длинным, чудесным осенним вечерам». И сколько очарования не только в уже готовых произведениях его, но и в самой черновой подготовке к ним!.. Прочитайте эту запись:
«Весна. Вечер. Низкие, темные, сплошные, разорванные на заре тучи. Тихо, глухо, сыро, темно, пахуче, лиловатый оттенок... Скотина лохматая, из-под зимних лохмотьев светятся полянки перелинявших мест...
Лист на березе во весь рост, как платочек, мягкий. Голубые пригорки незабудок, желтые поля свербигуса... Пчела серо-черная гудит и вьется и впивается. Лопухи, крапива, рожь в трубке лезет по часам. Примрозы желтые. На острых травках, на кончиках, радуги в росе. Пашут под гречу. Черно, странно. Бабы тренькают пеньку и стелют серые холсты. Песни соловьев, кукушки и баб по вечерам. Дороги не накатаны еще...
Дорог нет – травы на низах шелком. Чибисы. Шум ручьев. Птицы. Бабы, мальчишки босиком – ноги белые. Заходит Орион и Сириус...
Начало лета (июнь). – Синева – парит – грозы.
Побеги на деревьях, росы. Цветы – везде. Желтые поля свербигуса, голубые незабудок. Птица – соловьи. Народ, песни. Волнуется рожь, начало только. Ягоды, грибы. Сено преет. Гречиха лопается. Навоз пахнет. Дороги накатаны в поля. В лесу теснота. Гул пчел. Рои бегут. Липа отяжелела от цвета. Шиповник. Нивы, луга стоят, серые от метелки, нескошенные...
Конец лета (август). – Дороги накатаны хлебом. Позднее сено на рядах, духи болотные. Синева вдали. Ночи темные, звездные. Птиц нет – тишина. Белые грибы. На репьях пчелы. Плод на липе. Запах яблока. Дым густой, пахучий. Густота и тяжесть в нем. Скирды, недокладенные на гумнах. Вода стальная и тихая, густая. Запах льна, конопли, огородов. Красные клоки в листве. Объедки огурцов. Женщины в пышных рубахах, черно-загорелые, без панев. Жизни в избе нет. Поужинали и в ночное...».
Толстой решил писать роман из времен Петра I и всю зиму проработал над ним, но летом 1873 г. забросил все: вся эпоха Петра стала ему вдруг противна. Он пришел к заключению, что личность и деятельность Петра I не только не заключает в себе ничего великого, но, напротив, все его свойства были дурны. Преобразования его, по мнению Толстого, не преследовали государственной пользы, а клонились к личным его выгодам. Вследствие нерасположения к нему бояр за его нововведения он основал Петербург только для того, чтобы на свободе, вдали, беспрепятственно предаваться своей безнравственной жизни. Бояре имели тогда большое значение и могли быть ему опасны. Нововведения почерпались из Саксонии, где законы были самые жестокие, а свобода нравов процветала в высшей степени, что особенно нравилось Петру. Его дружбу с курфюрстом саксонским, самым безнравственным из коронованных голов того времени, Толстой объяснял теми же причинами. Близость с пирожником Меншиковым и беглым швейцарцем Лефортом Толстой объяснял презрительным отношением к Петру всех бояр, среди которых он будто бы не мог найти себе друзей и товарищей для разгула. Но более всего возмущался он убийством царевича Алексея. Конечно, многое тут, может быть, спорно, но моя задача дать точную картину этой вечно бурлящей души, которая будто нарочно во всем идет наперекор всем.
В марте 1873 г. Толстой начинает как-то сразу свою «Анну Каренину». Работа шла неспоро: мешала и педагогическая деятельность, и ряд смертей близких людей: умерли двое детей его, потом тетушка Татьяна Александровна и другая тетушка, Юшкова, в доме которой, в Казани, он провел свои молодые годы и которая последнее время жила у него в Ясной. И тяжело болела Софья Андреевна... И знаменитый Захарьин,[47]47
Григорий Антонович Захарьин (1829–1897/1898), терапевт, основатель московской клинической школы.
[Закрыть] осмотрев больную, нашел возможным бросить Толстому тяжелый упрек:
– Вы ее не поберегли!..
И только с конца 1876 г., то есть три года спустя после начала, работа пошла полным ходом, и роман начал печататься в «Русском Вестнике» знаменитого тогда М. Н. Каткова. В общем критика встретила его сочувственнее, чем «Войну и мир», – особенным проникновением и любовностью отличалась книга Громеки,[48]48
Степан Степанович Громека (1823–1877) – публицист и общественный деятель.
[Закрыть] но, само собою разумеется, не обошлось и без актов величайшего бесстыдства, проявленных представителями радикального лагеря. Эти вожди народа усыпали путь великого писателя такими перлами: «Анна Каренина» имеет претензию на звание бытового романа, но претензии эти более чем смешны, – писал один. – Какая из выведенных личностей может быть названа живой, типичной, имеющей своего представителя в жизни действительной?» Другой авгур утверждал, что «весь роман пропитан идиллическим запахом детских пеленок, что все это мелодраматическая дребедень в духе старых французских романов, расточаемая по поводу заурядных амуров великосветского хлыща и петербургской чиновницы, любительницы аксельбантов». Почтенный критик, руководитель общественного мнения, ментор молодых писателей, возмущается скабрезностью и пошлостью книги и язвительно упрекает Толстого, что он не дал описания, как Анна берет ванну, а Вронский моется в бане. Другой радикал идет еще дальше. Он находит, что основная мысль романа – цель жизни каждого человека заключается в узком, эгоистическом услаждении себя половыми отношениями, – и он предлагает Толстому изобразить любовь Левина к его корове Паве, ревность Кити и прочее.
Но гений и время сделали свое: все эти критики уже забыты, а книга стала одним из драгоценнейших перлов не только в венце ее творца, но и в венце России. Да мы, в сущности, уже и забыли, что это только книга. Как Пьер, князь Андрей, Наташа, Соня, княжна Марья, Платон Каратаев, Петя, Николай, старый граф и вся эта грандиозная эпопея 1812 г. стали неотрывной, составной частью нашей духовной жизни, так точно и Константин Левин, его Кити, Долли, Анна – это наши интимные друзья, живые люди, с которыми мы пережили много и горя, и радостей. Разве не своими глазами видели мы, как очаровательный Стива, надевая пальто, задел по голове татарина-лакея, засмеялся и вышел, разве не видели мы, как он, подгуляв, посылает Долли телеграмму, поздравляя ее с результатами земских выборов, разве мы не волновались мучительно в истории с рубашкой Левина, разве не скакали мы на царскосельских скачках, разве не слушали на тяге, как растет трава?... Я прямо не могу себе представить, чем была бы наша жизнь, если бы из нее каким-нибудь чудом изъяли «Войну и мир» и «Анну Каренину». К счастью, это уже невозможно, и эти наши богатства, эстетические, философские, исторические и бытовые, останутся с нами до конца. В этих книгах скрыта какая-то волшебная сила. Стоит мне в трудную, черную минуту жизни взять их в руки на полчаса – и вот уже...
... смиряется души моей тревога,
Тогда расходятся морщины на челе,
И счастье я могу постигнуть на земле,
И в небесах я вижу Бога!..
И я знаю, что я не один, я знаю, что тысячи и тысячи людей искали и находили в этом светлом яснополянском ключе силу и бодрость духа и светлый покой. И, перечитывая чрез известное число лет эти книги, мы с удивлением видим – несомненнейший признак великих произведений, – как за эти годы вырос их автор и выросли мы. С течением годов сокровища их не только не уменьшаются, но, наоборот, растут все больше и больше.
И этот могучий рост Толстого виден об эту пору не только из его творений, но из всех писем его – дневник он в эту пору наибольшего цветения своего забросил на много лет – и из разговоров. И часто какая-нибудь нечаянно оброненная им мысль клала никогда не стирающуюся зарубку на жизнь его случайного читателя и занимала его душу на долгие годы, как это было, например, со мной, когда я прочел его письмо к Фету, написанное в 1873 г., которое я перевариваю до сих пор и все вывожу для себя из него следствия. Я не стесняюсь говорить тут о себе, потому что, говоря о себе, я, в сущности, говорю все о том же Толстом, о том, что он делал с нами, его современниками. Вот эта страничка:
«... Сколько бы я о ней [Нирване] ни думал, я ничего не придумаю другого, как то, что эта Нирвана – ничто. Я стою только за одно – за религиозное уважение, ужас к этой Нирване.
Важнее этого все-таки нет ничего.
Что я разумею под религиозным уважением? Вот что. Я недавно приехал к брату, а у него умер ребенок и хоронят. Пришли попы, и розовый гробик, и все, что следует. Мы с братом... невольно выразили друг другу почти отвращение к обрядности. А потом я подумал: «Ну, а что бы брат сделал, чтобы вынести, наконец, из дома разлагающееся тело ребенка? Как вообще прилично кончить дело? Лучше нельзя (я, по крайней мере, не придумаю), как с панихидой, ладаном и т. д. Как самому слабеть и умирать... Хочется внешне выразить значительность и религиозный ужас перед этим величайшим в жизни каждого человека событием. И я тоже не могу придумать ничего более приличного – и приличного для всех возрастов, всех степеней развития, – как обстановка религиозная. Для меня, по крайней мере, эти славянские слова отзываются совершенно тем самым метафизическим восторгом, когда задумаешься о Нирване. Религия уже тем удивительна, что она столько веков, стольким миллионам людей оказывала ту услугу, наибольшую услугу, которую может в этом деле оказать что-либо человеческое. С такой задачей как же ей быть логической?... Но что-то в ней есть...».
Почти пятьдесят лет спустя, после тяжкого удара, на эти темы мне пришлось говорить с ним в тишине Ясной Поляны, и тогда я невольно занял эту вот его позицию, а он уже ушел на другие. Как удивительна жизнь человеческая!..
Но в эту все шире, все ярче пылающую жизнь врывались иногда и нелепые, оскорбляющие ноты. В Ясной бык забодал насмерть пастуха. Представитель суда нового, правого и милостивого обвинил в этом Толстого, который был в это время за тысячу верст, в степи, за Волгой, и применил к нему домашний арест. И Толстой загорелся: в России невозможно жить – продаю все и немедленно уезжаю в Англию! Он кричит о своем полном презрении к этому новому суду, он нагромождает действительно глупые и безобразные факты из практики этого суда, он не находит себе места. Выше я говорил о том романе с Европой, который переживали у нас многие. Одни, как Тургенев, оставались верными своей Дульцинее до конца дней, другие, как Герцен, прозревали и кончали разрывом и проклятиями. Толстому разочаровываться в красавице не пришлось потому, что он никогда ею очарован и не был, но тем не менее этот вопль и желание бежать под защиту Хартии Вольностей чрезвычайно характерны для этой изменчивой, буйной натуры: он показал себя и тут очень русским человеком. Тут говорила в нем и личная обида, конечно, но потом с годами эти «маленькие недочеты в механизме» нового суда и всякого суда созрели в нем и нашли свое выражение в его страшном и мучительном «Воскресении», в этом страстном «j'accuse!»,[49]49
«я обвиняю!» (франц.)
[Закрыть] на которое ответа еще никто не дал...
Понемногу Толстой успокоился и снова зажил своей широкой и глубокой жизнью. И все больше в эту русскую реку впадало со всех сторон ручьев и речек, и становилась она все шире и шире, чуть не до беспредельности, и дивила вольным течением своим, и радовала, и умиляла. Знаменитый художник Крамской хочет писать с великого писателя портрет, но не смеет тревожить его. Он поселяется в деревне, около Ясной, и делает свое дело украдкой. Его открывают, и вот он – желанный гость Ясной Поляны. За ним впадает в яснополянскую Волгу – П. И. Чайковский, который издали боготворил великого писателя, но не решался знакомиться с ним. Толстой первый знакомится с ним, и великий композитор устраивает концерт только для Толстого. Концерт этот оказался для музыканта небывалым торжеством: слушая анданте его Д-дюрного квартета, Толстой при всех – зарыдал. Потом и Толстой писал Чайковскому, что такой награды, как этот концерт, он ни от кого еще за свои труды не получал. А сколько малых ручейков тянулось к этой могучей реке, безымянных, оставшихся навсегда в безвестности!
Потянулся и Тургенев, состоялось примирение, и снова начались эти нудные и для обоих очень тяжелые отношения. Да и трудно было им сойтись: в Толстом уже назревали всей его жизнью подготовленные катастрофы, а Тургенев весь белый, с печальными глазами, на вопрос, почему он не курит, может еще ответить, что в Париже есть две хорошеньких барышни, которые объявили ему, что если от него будет пахнуть табаком, то они не позволят ему целовать их, а за обедом, при всех, старик представлял то охотничью собаку в раздумьи, то курицу в супе...
А. Толстого тянуло совсем в другую сторону: этим летом он впервые посетил Оптину пустынь и беседовал там со знаменитым старцем Амвросием, но ни беседа эта, ни вообще монастырь не дали ему того, что он, по-видимому, ожидал. А когда привезли в Тулу пленных турок – шла война с Турцией, – Толстой поехал навестить их и был очень поражен, что у каждого из них в солдатской сумке был Коран. Эпидемические восторги по случаю войны – по команде дрянных газет – совершенно не заражали уже Толстого и в письмах своих, и даже в конце «Анны Карениной», несмотря на цензуру, он отметил лживость всех этих барабанных настроений.
Душевные землетрясения все близились, но наружно пока ничего заметно еще не было. Он много читал и перечитывал «Илиаду» и «Одиссею» в подлиннике – впечатление очень большое, «Былины» – очень большое, «Анабасис» Ксенофонта – очень большое, Виктор Гюго, «les Mis?rables»[50]50
«Отверженные» (франц.).
[Закрыть] – огромное, но больше всего отдает он времени изучению исторических документов, относящихся к эпохе возникновения христианства. Он попробовал было начать роман «Декабристы», но дело не пошло. Одной из причин неудачи было то, что попечительное начальство не нашло возможным открыть для него архивы эпохи: все правды боялись...
Ему уже было под пятьдесят, но по-прежнему это был ездок, силач и любитель всякого движения. Он с увлечением играл в крокет, скакал с борзыми по полям, катался на коньках, косил, веял, играл в чехарду и в городки, плавал, бегал вперегонки, а проходя скошенным лугом, непременно вытаскивал из копны клок свежего сена и с упоением нюхал его...








