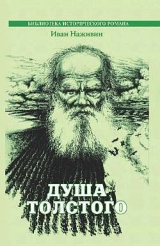
Текст книги "Душа Толстого"
Автор книги: Иван Наживин
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 14 (всего у книги 23 страниц)
«Зашел к Василью с разбитыми зубами. Нечистота рубах, воздуха и голод. Главное, вонь поразила меня, хотя я знаю это давно. Да, на слова либерала, который скажет, что наука, культура исправит все это, можно ответить только одно: устраивайте, а пока не устроено, мне тяжелее жить с теми, которые живут в избытке, чем с теми, которые живут с лишениями. Устраивайте да поскорее, я буду дожидаться внизу... Устройство одно – сделать людей добрыми. А чтобы хоть не сделать это, а содействовать этому, едва ли не лучшее средство – уйти от празднующих и живущих потом и кровью братьев и пойти к тем, замученным братьям... Не едва ли, а наверное...».
Но уйти не пускают старые, привычные связи, он все остается, все борется, все мучается. Он хочет отдать свои произведения во всеобщее пользование – это вызывает новую бурную сцену, которая кончается тем, что графиня бежит на железную дорогу, чтобы броситься под поезд. И только простая случайность спасает ее от этого, встреча с зятем, сенатором Кузминским, который, отмахиваясь от комаров, выходит из лесу как раз к ней навстречу, догадывается по ее сумасшедшему виду о том, что что-то не так, узнает от нее все, и ему удается успокоить несчастную женщину и заставить ее отказаться от ее страшного намерения...
И тут все завершается сделкой: часть сочинений остается собственностью семьи, а часть становится общественным достоянием. И «темные» ударили во все колокола: «таким образом совершился великий акт, – пишет один из них, – акт, беспримерный в истории...» и так далее. Но Толстой, конечно, в этом трескучем словоблудии и рекламе нисколько не виноват.
XXIV
Лето 1891 г. было очень неблагоприятно для посевов в части центральной России и, хотя пшеница по-прежнему продавалась в стране по 1 р. за пуд и сотни миллионов пудов зерна вывозились за границу, в пострадавших от неурожая местностях, благодаря полной беспечности правительства, начался голод, несмотря на то, что по тогдашним ценам спасти человека от голода стоило всего 1 рубль 25 копеек в месяц. Толстой один из первых поднялся на борьбу с народным бедствием и, бросив все свои работы, выехал в пострадавшие местности для личного ознакомления с положением народа.
«Хлеб с лебедой ужасен, – заносит он в свой дневник. – Лебеда нынешнего года зеленая. Ее не ест ни собака, ни свинья, ни курица. Люди, если съедят натощак, то заболевают рвотой...».
А среди этого ужаса тихо, пришибленно вымирающих деревень – «дворянские гнезда»:
«Барыня полногрудая, с проседью, в корсете, с бантиком в шиньоне, хозяйка, расплачивается с поденными, угощает и кофеем и котлетами и грустит о том, что дохода нет, только 100 четвертей овса в продажу, а на детей нужно 1 500. За мальчика в корпус 400, за мальчика в гимназию – пансион 500, за девочку... Когда говоришь, что этого не нужно, особенно для дочери, она согласна, но что же делать? За столом подали водку и наливку и предложили курить и объедаться... Приехали к С. Он на охоте. Великолепный дом, конный двор, винокуренный завод, голубятня. Интересы у Б., и здесь, и у Н.: доход, охота, собаки, экзамены детей, лошади... Не знаю, выйдет ли что из моей поездки. Хочу делать не для себя. Помоги, Отец...
Толки об охоте великого князя. Как дурно скачут собаки. Выросли ли молодые? Резвы ли? С. в чекмене, с наборным ремнем, скачет... Каждый свою жизнь ведет...».
Ознакомившись с положением дел ближе, Толстой пишет одну статью о голоде – ее запрещают, пишет другую – кое-как она проходит. Графиня, оставшаяся с младшими детьми в Москве, – старшие были с отцом там, где был голод, – помогает ему, печатает с своей стороны воззвания в московских газетах о помощи голодным. Начинается сбор пожертвований не только в России, но и в Англии, где основывается Russian Relief Fund:[85]85
Русский Благотворительный Фонд (англ.).
[Закрыть] предполагается, очевидно, что нельзя ничего урезать от бесконечных миллионов, которые идут на содержание пышного русского двора, придворные балы, кутежи ничего не делающих великих князей и прочее, а нужна помощь англичан.
Конечно, с первых же шагов Толстой и наиболее чуткие из его близких с болью поняли, что главная причина народного бедствия совсем не в том, что засуха опалила в 1891 г. хлеба, а гораздо шире и глубже. Сопровождавшая отца Татьяна Львовна так пишет на эту тему в своем дневнике:
«Дела тут так много, что начинаю приходить в уныние, – все нуждаются, все несчастны, а помочь невозможно. Чтобы поставить на ноги всех, надо на каждый двор сотни рублей, и то многие от пьянства и лени опять дойдут до того же. Тут много нужды не от неурожая этого года, а оттого же, отчего наш Костюшка беден, от нелюбви к физической работе, какой-то беспечности и лени. Тут деньгами помогать совершенно бессмысленно. Все это так сложно. Может быть, Костюшка был бы писателем, поэтом, может быть, актером, каким-нибудь чиновником или ученым, а потому что он поставлен в те условия, в которых иначе как физическим трудом он не может добывать себе хлеб, а физический труд он ненавидит, то он и лежит с книж кой на печи, философствует с прохожим странником, а двор его тем временем разваливается, нива не вспахана, и бабы его, видя его беспечность, тоже ничего не делают и жиреют на хлебе, который они выпрашивают, занимают и даже воруют у соседей. Таким людям дать денег – это только поощрить их к такой жизни. Дело все в том, как папа говорит, что существует такое огромное разделение между мужиками и господами и что господа держат мужиков в таком рабстве, что им совсем нет простора в их действиях. Я думаю, что такое положение дел, как теперь, недолго останется таким, и как бы нынешний год не повернул дела круто. Тут часто слышится ропот на господ, на земство и даже на императора, как вчера сказал один мужик, говоря, что ему до нас дела нет, хотя бы мы все поиздыхай от голода...»
Дело было не только в том, что господа стеснили мужика, а в том, что мужик и на своей-то земле хозяином не был...
Но так ли, эдак ли, а положение было такое, что жуть брала. «Редкий день Маша и Вера не ревут, – прибавляет Татьяна Львовна. – И меня, хоть я и потверже, иногда пробирает...» И она рассказывает: «На днях зашла к мужику в избу, – пропасть детей, есть совсем нечего.
– Сколько детей у тебя?
– Шестеро.
– Что же нынче ели?
– Ничего с утра не ели; пошел мальчик побираться, вот его ждем.
– Как это детей не жалко?
– Об них-то и тоска, касатка...
Мужик отвернулся и заплакал».
Первое время, когда детям давали «хлеб» из лебеды, они отказывались верить, что это хлеб, говорили, что это земля и бросали его. Вообще чистого хлеба там никто уже не ел. Пробовали печь хлеб с отбросами свеклы с сахарных заводов, но дело не пошло. Не было и топлива в этом полустепном краю. Дети ходили часто голыми. И в беседах с близкими Толстой говорил, что впереди и близко – крушение России. Но наверху не унывали. На каком-то собрании Александр III на вопрос о голоде высочайше заявил: в России никакого голода нет, а есть местности, пострадавшие от неурожая. Все были в восторге и было приказано, чтобы газеты не смели употреблять слово голод и голодные, а нежно говорили бы «пострадавшие от неурожая». Прямо теперь поверить трудно, до какой степени глупости доходили тогда правящие круги...
И попутно открылось в народе то, что было не менее страшно, чем голод, то, что потом изобразил Толстой в «Воскресении» в горьких словах революционера Крыльцова в сибирском остроге: «мы, революционеры, идем за народ, а народ ненавидит нас». То же, что на сибирской каторге, было и на каторге русской деревни: народ относился к Толстому недоверчиво и называл его антихристом, потому что он не ел мяса, а садясь за стол, не крестился. Сотрудников его бранили. Деревенские священники, наслышанные, что Толстой идет против церкви, утверждали народ в этом. А в Толстом все сильнее поднимались сомнения: «Я живу скверно, – пишет он в одном письме. – Сам не знаю, как меня затянуло в эту тягостную для меня работу по кормлению голодных. Не мне, кормящемуся ими, кормить их... Чувствую, что это скверно и противно, но не могу устраниться...»
Да и как было устраниться? Вот что было перед глазами:
«Третьего дня был в деревне, где на 9 дворов 1 корова; нынче был в деревне, где почти все нищие. Я говорю нищие в том смысле, что это все люди, не могущие уже жить своими средствами и требующие помощи – не держащиеся уже на воде, а хватающиеся за других. Таких все больше и больше...».
Петербург волновался все более и более: слова и деятельность Толстого слишком уж обличали беспечность правителей. Правые газеты открыли поход против Толстого, посыпались доносы, поползли темные слухи о близком заточении Толстого то в монастырь, то в крепость, конечно, без права писать, то о ссылке его в Сибирь, то о высылке за границу. Некоторые его почитатели начали торжественно рвать его портреты: он готовит революцию... Победоносцев сделал царю доклад обо всей этой грязной буче.
– Прошу вас Толстого не трогать... – отвечал царь и пояснил свою мысль: – Я нисколько не намерен делать из него мученика и обратить на себя всеобщее негодование. Если он виноват, тем хуже для него.
Но кампания против Толстого тем не менее продолжалась, как в Петербурге, так и на местах. Он продолжал свое дело, не смущаясь.
Иногда в эту тяжкую трагедию огромного народа врывались и иные нотки, в которых даже в той обстановке было немало комизма. Такой ноткой было появление в окружении Толстого, среди этих погибающих деревень, одного шведа-реформатора. Факт этот любопытен и тем, что на нем видно, как ширилась проповедь Толстого по земле, как в сферу яснополянского мирового бунта втягивались постепенно люди из самых дальних стран.
Шведу было лет семьдесят. Раньше он был богатым купцом, но раздал все бедным и пошел бродить. Одевался он в длинную рубаху, штаны и опорки на босу ногу. На голове, несмотря на русские морозы, у него была соломенная шляпа. Длинные седые волосы лежали по плечам. Он носил с собой джутовый мешок, который служил ему постелью, и бутылку, которая одновременно служила ему и для воды, и как подушка. Его мечтой было кормиться трудами рук своих, не насилуя не только людей, но даже и животных, для чего он хотел возделывать землю лопатой. Он был строгий вегетарианец, питался только фруктами, овощами и лепешками из толченого, а не молотого зерна и пил только воду. Когда за завтраком подали самовар, он воскликнул:
– Как?! И вы поклоняетесь этому идолу? Я имею миссию от китайцев, которые страдают от того, что лучшие их земли заняты чайными плантациями и негде им сеять хлеба насущного. Вы должны отказаться от употребления чая, раз вы теперь знаете, что этим вы отнимаете хлеб у ваших братьев – китайцев...
Ему предложили чашку ячменного кофе, объяснив, что это местный продукт, но швед отставил и ее прочь, сказав, что портить так хлеб грешно.
На вопрос, где он живет, швед отвечал: «здесь», – а на вопрос, куда он думает направиться потом, отвечал: «в пространство». Мебели он не признавал совсем, спал на полу и часто сидел, закутавшись только в одеяло.
Швед произвел чрезвычайно сильное впечатление на Толстого, и он и без того строгий стол свой стал упрощать еще и еще, стараясь, несмотря на свое нездоровье, питаться по рецептам сурового апостола. С весны они начали было разводить хлебный огород – без помощи животных, – но тут вмешалась полиция, которая выслала шведа из России за неимением паспорта, а Толстой от лишений тяжело заболел. Из Ясной Поляны прилетела сердитая графиня, всех распушила, навела порядок, заставила всех есть по-человечески и, поставив мужа на ноги, снова уехала домой.
В душе Толстого между тем все более и более нарастало разочарование в своей деятельности: «Измучился я... от этой деятельности не физически, но нравственно. Если было сомнение в возможности делать добро деньгами, то теперь его уже нет: нельзя. Нельзя тоже и не делать того, что я делаю, т. е. мне нельзя. Я не умею не делать. Утешаюсь тем, что это я расплачиваюсь за грехи свои и своих братьев и отцов. Тяжесть в том, что не веришь в добро материальной помощи и что главный труд есть не доброе отношение к людям, а напротив, злое, недоброе, по крайней мере: удерживаешь их в их требованиях, попрошайничестве, уличаешь в неправде и вызываешь недобрые чувства не только в них, но сплошь и рядом и в себе». И мир Христов все никак не опускается на его душу. «Враги всегда будут, – записывает он. – Жить так, чтобы не было врагов, нельзя. Напротив, чем лучше живешь, тем больше врагов... Я один, а людей так ужасно бесконечно много, так разнообразны все эти люди, так невозможно мне узнать всех их – всех этих индейцев, малайцев, японцев, даже тех людей, которые со мной всегда: моих детей, жену... Среди всех этих людей я один, совсем одинок и один. И сознание этого одиночества и потребности общения со всеми людьми и невозможности этого общения достаточно для того, чтобы сойти с ума...».
И тяжким бременем ложится на душу та жизнь, которую он хочет сделать царствием Божиим и которая, несмотря на все его усилия, продолжает оставаться страшным злом:
«Встаю очень рано; ясное морозное утро и с красным восходом; снег скрипит на ступенях; выхожу на двор, надеюсь, что еще никого нет, что я успею пройтись. Но нет, только отворил дверь, уже стоят двое: один высокий, широкий мужик в коротком оборванном полушубке, в разбитых лаптях, с истощенным лицом, с сумкой чрез плечо (все они с истощенными лицами, так что эти лица стали специально мужицкие лица). С ним мальчик лет 14-ти, без шубы, в оборванном зипунишке, тоже в лаптях, тоже с сумкой и палкой. Хочу пройти мимо, начинаются поклоны и обычные речи. Нечего делать – возвращаюсь в сени. Они всходят за мною. „Что ты?“ – „К вашей милости“. -
«Что?» – «К вашей милости». – «Что нужно?» – «Насчет пособия». – «Какого пособия?» – «Да на счет своей жизни». – «Да что нужно?» – «С голоду помираем. Помогите сколько-нибудь». – «Откуда?» – «Из Затворного». Знаю, что это нищенская деревня, в которой мы еще не успели открыть столовой. Оттуда десятками ходят нищие, и я тотчас же в своем представлении причисляю этого человека к нищим профессиональным, и мне досадно, что и детей они водят с собою и развращают. «Что же ты просишь?» – «Да как-нибудь обдумай нас». – «Да как же я обдумаю? Мы здесь не можем ничего сделать. Вот мы приедем». Но он не слушает меня. И начинаются опять сотни раз уже слышанные одни и те же, кажущиеся мне притворными речи: «Ничего не родилось, семья 8 душ, работник я один, старуха померла, летось корову проели, на Рождество последняя лошадь околела, уж я куда ни шло, ребята есть просят, отойти некуда, три дня не ели...».
Все это обычное, одно и то же. Жду, скоро ли кончит. Но он все говорит: «думал, как-нибудь пробьюсь, да выбился из сил. Век не побирался, да вот Бог привел». – «Ну, хорошо, мы приедем, тогда увидим», – говорю я и хочу пройти и взглядываю нечаянно на мальчика. Мальчик смотрит на меня жалостными, полными слез и надежды, прелестными карими глазами, и одна светлая капля слезы уже висит на носу и в это самое мгновение отрывается и падает на натоптанный снегом досчатый пол. И милое измученное лицо мальчика с его вьющимися венчиком кругом головы русыми волосами дергается все от сдерживаемых рыданий. Для меня слова отца – старая избитая канитель, а ему – это повторение той ужасной годины, которую он переживал вместе с отцом, и повторение всего этого в торжественную минуту, когда они наконец добрались до меня, до помощи, умиляет его, потрясает его расслабленные от голода нервы. А мне все это надоело, надоело, я думаю только, как пройти поскорее гулять... Мне старо, а ему ужасно ново. Да, нам надоело. А им все так же хочется есть, так же хочется жить, так же хочется счастья, хочется любви, как я видел это по его прелестным, устремленным на меня, полным слез глазам, – хочется этому измученному нуждой и полному наивной жалости к себе доброму жалкому мальчику...».
Не успел Толстой лето передохнуть в Ясной, как снова всем стало ясно, что и на следующую зиму голода не миновать. Тиф начал косить по истощенным деревням. На голод поехали помощники его, а он, утомленный, остался в Ясной, руководя издали их работой и лишь изредка навещая пострадавшие местности для личного руководства.
В это время он усиленно работал над одной из самых сильных вещей своих, над книгой «Царствие Божие внутри вас». Основная мысль этой книги в том, что государство, которое требует от человека таких тяжких жертв и иногда таких жестоких сделок со своей совестью, есть только следствие несовершенства души человеческой. Поэтому освобождение от тяготы государства возможно только одним путем, путем совершенствования своей души. Как награду за этот внутренний труд, человек обрящет светлое царство анархии, где не будет ни экономического неравенства, ни тюрем, ни войн, ни дорогостоящего аппарата власти, где вся жизнь людей будет согрета любовью и будут они свободны, как птицы небесные. Человек разумный не должен участвовать в государственном насилии: не идти в солдаты, не платить налогов, не служить чиновником и прочее. Ничего нового в этом учении не было: эти проклятые вопросы ставились и разрешались так же радикально уже тысячу лет назад. Петр Хельчицкий[86]86
Петр Хельчицкий (ок. 1390–1460) выступал за социальную организацию общества, основанного на равенстве и обязательности труда. Последователи Хельчицкого создали общину чешских братьев.
[Закрыть] со своими моравскими братьями, американцы Адин Балу и У. Л. Гаррисон,[87]87
Уильям Ллойд Гаррисон (1805–1879), американский политический деятель, публицист и поэт, инициатор создания американского общества борьбы с рабством.
[Закрыть] квакеры, шекеры, назарены, целый ряд русских сектантов проповедовали это – предшественников у Толстого было немало, но сила и яркость, с которыми эти вопросы снова поставлены Толстым, были совершенно исключительные. Книга вышла настолько яркой, что в России даже и не пытались печатать ее – она пошла делать свое дело в рукописном виде.
И Толстому казалось, что этот огонь христианской истины уже начинает возгораться. В этом убеждали его те единичные отказы от военной службы, которые в то время стали проскальзывать в России и в Западной Европе. Мысль, что отказы эти были еще во времена Тертуллиана и ничего из них не вышло, не смущала его, пусть первые ласточки замерзли, за ними летят другие: а за ними – весна.
Позиция Толстого выявлялась все более и более: это уже был анархизм чистой воды. Один английский писатель назвал это движение точнее: теархизмом. Но тронуть Толстого правительство уже не решалось: он вырос в глазах культурного человечества так, что это казалось опасным. Тогда гнев правительства обрушился на его последователей: одних сажали в тюрьмы, других гнали в ссылку на далекие окраины, третьих высылали за границу, у некоторых – как у князя Д. А. Хилкова[88]88
Дмитрий Александрович Хилков (1858–1914), князь, общественный деятель, литератор. Разделял взгляды Л. Н. Толстого.
[Закрыть] или самарских сектантов – отнимали детей. И появился у Толстого новый и жестокий противник: радикальная печать. Неустанно высмеивали революционеры в своих листках и книжках его «непротивление злу», не желая видеть, что вся его жизнь была одним сплошным противлением злу, высмеивали его призыв к «неделанию», хотя он призывал только к неделанию глупостей. И их не стесняло то обстоятельство, что у них руки в их фельетонах были развязаны, а он по-прежнему был спеленут по рукам и ногам, и рот его был замазан. И они гордо шли от победы к победе и очень радовались своим успехам среди малограмотных рабочих и желторотых студентов и гимназистов. Но так как Толстой был все же сила противоправительственная, то его назло правительству избирали всюду, где можно, членом почетным и простым, назло правительству всячески выхваляли его и при его появлении где-нибудь устраивали ему, в пику полицейским, головокружительные овации...
А он, как слон, шел жизнью все вперед и вперед, а по пути все ронял и ронял свои неподражаемые толстовские жемчужинки:
«14 августа. – Голубая дымка, роса как пролита на траве, на кустах и деревьях на сажень высоты. Яблони развисли от тяжести. Из шалаша пахучий дымок свежего хвороста. А там, в ярко-желтом поле, уже высыхает роса на желтой овсяной жатве, и работа – вяжут, возят, косят, и на лиловой полоске – пашут. Везде по дорогам и на суках деревьев зацепившиеся, выдернутые, сломанные колосья. В росистом цветнике пестрые девочки, тихо напевая, полят. Лакеи хлопочут в фартуках. Комнатная собака греется на солнце... Господа еще не вставали...
Подходя к Овсяникову, смотрел на прелестный закат. В нагроможденных облаках просвет, а там, как красный, неправильный уголь, солнце. Все это над лесом. Рожь. Радостно. И подумал: нет, этот мир не шутка, не юдоль испытания только и перехода в мир лучший, вечный, а это один из вечных миров, который прекрасен, радостен и который мы не только можем, но должны сделать прекраснее и радостнее для живущих с нами и для тех, которые после нас будут жить в нем...»








