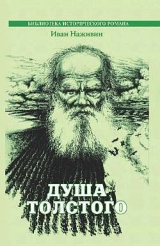
Текст книги "Душа Толстого"
Автор книги: Иван Наживин
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 13 (всего у книги 23 страниц)
XXII
Но вернемся в 1884 г.
Чтобы сгладить мучительные контрасты между своим обеспеченным положением и окружающей нищетой, как в городе, так и в деревне, чтобы дать покой своей чуткой совести, Толстой всячески сокращает свои личные потребности, упрощает свою личную жизнь и старается взять на свои уже немолодые плечи хотя бы часть того черного труда, который несут рабочие люди, – «творящие жизнь», со своим обычным и очевидным преувеличением говорит он, отлично зная, что творят жизнь никак не одни рабочие. Он неутомимо косит, пашет, шьет сапоги – его дочери уже носили сшитые им башмаки, – кладет с помощью знаменитого художника Н. Н. Ге, своего друга, печь какой-то бобылке, сам убирает свою комнату, колет дрова, возит воду и находит во всем этом новые, еще неизведанные радости. О так называемом черном труде среди людей, им не занимающихся, составилось представление как о какой-то каторге. Это совершенно неверно. Ярким доказательством радости труда могут служить прекраснейшие страницы «Анны Карениной», в которых описывается, как Левин косил с мужиками Машкин Верх. И Толстой испил радость и из этой чаши. Радость есть не только в самом тяжелом труде, радость есть во всем – даже в горькой чаше Гефсиманского сада. И никогда не поймет жизни и человека тот, кто не понимает этого. Любимую охоту он бросает и становится вегетарианцем на всю жизнь.
Но контрасты все-таки остаются.
«Живу я нынешний год в деревне как-то невольно по-новому, – пишет он в одном письме. – Встаю и ложусь рано, не пишу, но много работаю, то сапоги, то покос. Прошлую неделю всю проработал на покосе. И с радостью вижу (или мне кажется так), что в семье что-то такое происходит, они меня не осуждают, и им как будто совестно. Бедные мы, до чего мы заблудились. У нас теперь много народа – мои дети и Кузминских, и часто я не могу без ужаса видеть эту безнравственность и обжирание. Их так много, они все большие, сильные. И я вижу и знаю весь труд сельский, который идет вокруг нас. А они едят, пачкают платье, белье и комнаты. Другие для них все делают, а они ни для кого, даже для себя – ничего. И это всем кажется натуральным, и мне так казалось: и я принял участие в заведении этого порядка вещей. Я ясно вижу это и ни на минуту не могу забыть. Я чувствую, что я для них trouble fete,[75]75
Потеха (франц.).
[Закрыть] но они, мне так кажется, начинают чувствовать, что что-то не так. Бывают разговоры – хорошие. Недавно случилось: меньшая дочь заболела, я пришел к ней, и мы начали говорить с девочками, кто что делал целый день. Всем стало совестно рассказывать, но рассказали – и рассказали, что сделали дурное. Потом мы повторили это на другой день вечером, и еще раз. И мне бы ужасно хотелось втянуть их в это – каждый вечер собираться и рассказывать свой день и свои грехи. Мне кажется, что это было бы прекрасно, разумеется, если бы это делалось совершенно свободно...».
А рядом – страда крестьянская.
«Пошел на покос, – пишет он в своем дневнике. – Косили и копнили и опять косили. Очень устал. „Тимофей, голубчик, загони мою корову: у меня ребенок“. Он – пустой, недобрый малый, – уморился, а все-таки бежит. Вот условия нравственные. „Анютка, беги, милая, загони овец“. И семилетняя девочка летит босиком по скошенной траве. Вот условия. „Мальчик, принеси кружку напиться“. Летит пятилетний и в минуту приносит. И понял, и сделал...».
Но его надежды, что в семье что-то происходит, что из этого как будто что-то выходит, не оправдались. Напротив, становилось в Ясной все душнее, все тяжелее и все чаще и острее происходили его столкновения с женой, которая, естественно, отстаивала старый, привычный строй жизни и боялась его увлечений. В порывах отчаяния и тоски он не раз уже угрожал ей, что бросит все и уйдет из дома. И признавался жене, что мечтает, взяв с собой работницу, простую бабу, тайно уйти с переселенцами на новые места и там начать новую, трудовую жизнь. И, наконец, он не вытерпел и 17 июня 1884 г. ушел из Ясной с тем, чтобы никогда больше туда не возвращаться, ушел, бросив жену в последних днях беременности.
«Вечером покосил у дома, – пишет он в дневнике. – Пошел купаться. Вернулся бодрый, веселый, и вдруг начались со стороны жены бессмысленные упреки за лошадей, которых мне не нужно и от которых я хочу избавиться. Я ничего не сказал, но мне стало ужасно тяжело. Я ушел и хотел уйти совсем, но ее беременность заставила меня вернуться с половины дороги в Тулу. Дома играют в винт бородатые мужики – молодые мои два сына. „Она на крокете, ты не видал?“ – говорит Таня, сестра. „И не хочу видеть...“ И пошел к себе спать на диване; но не мог от горя. Ах, как тяжело! Все-таки мне жалко ее... Только что заснул в 3-м часу, она пришла, разбудила меня. „Прости меня, я рожаю, может быть, умру...“ Пошли наверх. Начались роды, – то, что есть самого радостного, счастливого в семье, прошло как что-то ненужное и тяжелое. Кормилица приставлена кормить.
Если кто управляет делами нашей жизни, то мне хочется упрекнуть его. Это слишком трудно и безжалостно. Безжалостно относительно ее. Я вижу, что она с усиливающейся быстротой идет к погибели и к страданиям душевным ужасным. Заснул в 8. В 12 проснулся. Сколько помнится, сел писать. Когда приехал из Тулы брат, я в первый раз в жизни сказал ему всю тяжесть своего положения. Не помню, как прошел вечер. Купался. Опять винт, и я невольно засиделся с ними, смотря в карты...».
Софья Андреевна несколько иначе рассказывает этот трагический эпизод. По ее словам, он вернулся домой только в 4 утра и, не заходя к ней, лег внизу на диване. Несмотря на жестокие боли – начались роды, – она пришла к нему. «Он был мрачен и ничего не сказал мне. А в 7 родилась Саша. Никогда я не могла забыть этой светлой июньской ночи!..»
Он снова поднял на плечи тяжелый крест, который послала ему судьба, и понес его жизнью. Но эти колебания его – уйти или не уйти – продолжались месяцы, годы, и он не знал, как решить. Конечно, это чрезвычайно отзывалось на семье...
Об эту пору он начинает изучать китайских философов и кладет основание народному книгоиздательству «Посредник». Несмотря на свой сектантский, узкий, односторонний характер, который придали ему потом его руководители, «последователи» Толстого, оно сыграло в деле народного просвещения значительную роль: копеечные книжечки его, часто подписанные именами выдающихся писателей и мыслителей, – Толстой, Гюго, Паскаль, Эпиктет,[76]76
Эпиктет (ок. 50 – ок. 140 г.), римский философ-стоик. «Беседы» Эпиктета содержат моральную проповедь внутренней свободы человека.
[Закрыть] Сократ, Платон, Чаннинг,[77]77
Вильям-Эллери Чаннинг (1780–1842), американский богослов и писатель.
[Закрыть] Эмерсон,[78]78
Ралф Уолдо Эмерсон (1803–1882), американский писатель и эссеист. Эмерсон скорее проповедник морали, подчеркивающий необходимость независимых убеждений и жизненной энергии: счастье не в материальном преуспеянии, а «внутри нас».
[Закрыть] Торо,[79]79
Генри Дейвид Торо (1817–1862), американский писатель: в 1845 г. удалился в лес, выстроил хижину и прожил в ней 2 1/2 года, занимаясь физической работой, писанием сочинений и созерцанием природы (о ней он в основном и писал).
[Закрыть] Диккенс, Джон Рескин,[80]80
Джон Рескин (1819–1900), английский писатель, теоретик искусства.
[Закрыть] Марк Аврелий и прочее, и прочее, и прочее – разошлись по России во многих миллионах экземпляров...
И по-прежнему он кипел душой: его дневники, письма, беседы того времени – это совсем не «спокойная, радостная жизнь», которой он ожидал, а какая-то неопалимая купина страдания, которая горит, не сгорая. И опять и опять он терял силы и срывался.
«Случилось то, что уже столько раз случалось, – пишет в декабре 1885 г. графиня своей сестре. – Левочка пришел в крайне нервное и мрачное настроение. Сижу раз, пишу, входит: я смотрю – лицо страшное. До тех пор жили прекрасно: ни одного слова неприятного не было сказано, ровно, ровно ничего. „Я пришел сказать, что хочу с тобой разводиться, жить так не могу, еду в Париж или в Америку...“ Понимаешь, Таня, если бы мне на голову весь дом обрушился, я бы не так удивилась. Я спрашиваю удивленно: „что случилось?“. „Ничего, но если на воз накладывают все больше и больше, лошадь станет и не везет“. Что накладывалось, неизвестно. Но начался крик, упреки, грубые слова, все хуже и хуже и наконец, я терпела, терпела, не отвечала ничего почти, вижу, человек сумасшедший, и когда он сказал, что „где ты, там воздух заражен“, я велела принести сундук и стала укладываться. Хотела ехать к вам хоть на несколько дней. Прибежали дети, рев. Таня говорит: „Я с вами уеду. За что это?“ Стал умолять остаться. Я осталась, но вдруг начались истерические рыдания, ужас просто, подумай, Левочка – и всего трясет и дергает от рыданий. Тут мне стало жаль его, дети, 4: Таня, Илья, Леля, Маша ревут на крик; нашел на меня столбняк, ни говорить, ни плакать, все хотелось вздор говорить, и я боюсь этого и молчу и молчу три часа, хоть убей – говорить не могу. Но тоска, горе, разрыв, болезненное состояние отчужденности – все это во мне осталось. Понимаешь, я часто до безумия спрашиваю себя: ну теперь за что же? Я из дому шагу не делаю, работаю с изданием до трех часов ночи, тиха, всех так любила и помнила это время, как никогда, и за что?...
Я все эти нервные взрывы и мрачность и бессонницу приписываю вегетарианству и непосильной физической работе... Топленьем печей, возкой воды и пр. он замучил себя до худобы и до нервного состояния...».
И как трогательна и жутка в то же время та картина, которую он сам зарисовывает в одном из писем этого времени:
«... В самое Рождество случилось, что я пошел гулять по незнакомым пустынным зимним деревенским дорогам и проходил весь день и все время думал, каялся и молился. И мне стало лучше на душе с тех пор. Я твердил одно: Отец наш, всех людей, Отец не земной, а небесный, вечный, от которого я изшел и к Которому приду, свята да будет для нас сущность (имя) Твоя (сущность Твоя есть любовь). Да будет царствовать Твоя сущность, любовь, так, чтобы, как на небе любовно, согласно совершаются движение и жизнь светил, – воля Твоя, – чтобы так же согласно, любовно шла наша жизнь здесь по Твоей воле. Пищу жизни, т. е. любовь к людям, отношения с людьми, дай нам в настоящем, и прости, сделай, чтобы не имело на меня, на мою жизнь влияния то, что было прежде, и потому я не вменяю никому из людей, что прежде они сделали против меня. Не введи меня в искушение, извне меня соблазняющее, но главное, избави меня от лукавого, от зла и во мне. В нем гордость, в нем желание сделать то, что хочется, в нем все несчастия, – от него избавь...» И так далее.
Исходя кровью, пятидесятисемилетний Толстой одиноко блуждает «по незнакомым пустынным зимним дорогам», и молится, и зовет, и хмуро молчит над ним зимнее небо, но ему кажется, что кто-то слышит его, и тревога его души на некоторое время стихает.
«... Левочка вернулся 1 Ноября, – пишет Софья Андреевна сестре. – Мы все повеселели от его приезда, и сам он очень мил, спокоен, весел и добр. Только он переменил еще привычки. Все новенькое – что ни день. Встает в семь утра, темно. Качает на весь дом воду, везет огромную кадку на салазках, пилит длинные дрова и колет и складывает в сажень. Белый хлеб не ест; никуда положительно не ходит. Сегодня я возила его в санках снимать портрет к фотографу...»
Но все это опять не надолго. Он уже не может остановиться на своем пути, – не может... – а жизнь в лице его самых близких воздвигает пред ним все новые и новые препятствия. Богатства его – правда, весьма и весьма относительные[81]81
Посетивший Ясную индус-проповедник Баба Барати в своем журнале «Light of India» писал об обстановке Толстого, как о «the most wrethed»(«caMoft жалкой» (англ.). Богатством и роскошью казалось все это только в сравнении с нищетою крестьян.
[Закрыть] – все больше тяготят его, и он ищет освобождения от этого гнета, мечтает о раздаче всего имущества бедным, об отказе от всяких литературных прав. Это, разумеется, встретило со стороны семьи самый резкий отпор, и ему было заявлено в самой решительной форме, что в этом случае над ним будет учреждена, вследствие его психического расстройства, опека за расточительность. Таким образом, ему грозил дом умалишенных. Он вынужден был изменить свое решение: он предложил графине взять все у него и распоряжаться имуществом, как она знает.
– Но если ты считаешь это злом, – отвечала она взволнованному мужу, – как же хочешь ты навалить все это на меня?
Опять ничего путного не вышло и – мука продолжалась, настоящая мука, и нельзя не отметить, что иногда грешный мир с удивительным уважением и даже нежностью относился к тревогам этой беспокойной совести. Вот маленькая иллюстрация к этому.
В Ясной кто-то стал с огородов красть капусту. Поставили караул и поймали вора: это была баба Матрена, которая, в ответ на упреки, сказала, что ей нечего есть. Под караулом Матрену отправили в полицию, где и был составлен протокол. Как-то раз Толстой шел утром в поле. Его внимание привлекла большая толпа, собравшаяся около старой, съехавшей набок избы. Там слышался плач и причитания. Он подошел и спросил, в чем дело.
– Матрену в тюрьму увозят... – отвечали из толпы.
– Матрену, старуху, в тюрьму? – удивился он. – За что?
– За вашу капусту...
– За какую капусту? Что такое?!.
Ему растолковали все. В это время вывел урядник из избы Матрену, чтобы везти ее в тюрьму. Толстой заявил ему, что он прощает старуху и просит отпустить ее. Урядник ответил, что он не может отменить приговор мирового судьи и отпустить Матрену. Тогда Толстой упросил отложить отправку бабы до следующего дня, а сам поспешил к властям. Приведение приговора было немедленно остановлено, была подана несколько запоздавшая апелляция от Матрены, и чрез две недели дело о краже капусты было назначено к слушанию в уездном мировом съезде.
На суде было доказано, что Матрена поймана на месте преступления, сама Матрена чистосердечно во всем созналась, и сам прокурор ходатайствовал о смягчении наказания. Судьи после долгого совещания вынесли неожиданную резолюцию: оправдав Матрену в похищении капусты, они признали ее виновной в... самовольном срывании овощей и приговорили ее к денежному взысканию в пять рублей. Прокурор не опротестовал этого приговора, и пять рублей уплатил за Матрену мировой судья, постановивший приговор первый о заключении ее в тюрьму...
Как ни бунтовал Толстой против нового суда по поводу истории с яснополянским быком, все же суд этот, как видим, мог иногда быть и не так уж плох, и этот приговор его о «самовольном срывании овощей» приятно сохранить в его истории: если пятна есть и на солнце, то звездочки есть и в ночи. И, вероятно, чувствуя эти звездочки везде, Толстой, несмотря на все муки свои, все же по-прежнему крепко любил жизнь, настолько крепко, что в одном письме к Н. Н. Страхову об эту пору у него сорвалось удивительное признание: «я никогда не верил и не понимал этого страха перед метампсихозой, который руководит Буддою». Да, он не боялся вернуться в жизнь, к яркому солнцу Троицына дня, и комаром, и ласточкой, и вянущей черемухой, – только бы вернуться!..
XXIII
Как во всякой жизни печали перемежаются радостями, – иначе ни у кого не хватило бы сил жить, – так и Толстому посылала иногда судьба радости – отдыхи на его тяжелом пути. Такою несомненной радостью в это время было для него общение с крестьянином Тим. М. Бондаревым. Он – сектант-субботник и за проповедь свою был сослан в Сибирь. Там, в далекой ссылке, он написал свое оригинальное сочинение «Торжество земледельца», которое, как и его письма, произвело на Толстого очень сильное впечатление. Толстой говорит, что Сютаев и Бондарев обогатили его мысль и многое уяснили ему в его мировоззрении.
Во главу своего жизнепонимания Бондарев ставил заповедь, выраженную в Ветхом Завете: «в поте лица твоего снеси хлеб твой». Исполнения этого закона он требовал от всех людей без исключения, – не потому, что это написано в Библии, а потому, что только это спасет людей от бедственности их теперешней жизни. Все будут работать и есть хлеб своих трудов, хлеб и предметы первой необходимости не будут предметами купли и продажи, не будет людей, гибнущих от нужды, и «не будет того настроения мысли человеческой, по которому все усилия человеческого ума направляются не на то, чтобы облегчить труд трудящихся, а облегчить и украсить праздность празднующих. Участие в хлебном труде и признание его головой всяких дел людских делает то, что сделал бы человек с телегою, которую глупые люди везли бы вверх колесами, когда он перевернул бы ее и поставил на колеса. И не сломает телеги, и пойдет она легко. А наша жизнь с презрением и отрицанием хлебного труда, и наши поправки этой ложной жизни – это телега, которую мы везем вверх колесами. И все наши поправки этого дела не попользуют, пока не перевернем телеги и не поставим ее, как ей стоять должно». Так говорил Толстой в предисловии к книге Бондарева «Торжество земледельца», а в другом месте он говорит о ней еще сильнее: «Как странно и дико показалось бы утонченно образованным римлянам I столетия, если бы кто-нибудь сказал им, что полуграмотные, неясные, запутанные, часто непонятные письма странствующего еврея к своим друзьям и ученикам будут в сто, тысячу, в сотню тысяч раз больше читаться, больше распространены и больше влиять на людей, чем все любимые утонченными людьми поэмы, оды, элегии и элегантные послания сочинителей того времени. А между тем это случилось с посланиями Павла. Точно так же странно и дико должно показаться людям теперешнее мое утверждение, что сочинение Бондарева, над наивностью которого мы снисходительно улыбаемся с высоты своего умственного величия, переживет все те сочинения, которые описаны в этом лексиконе, и произведет большее влияние на людей, чем все они взятые вместе. А между тем я уверен, что это так будет».
Бондарев совсем не был и не стал толстовцем. Это был ум независимый. Проповедь любви, на которой Толстой базировал все, он, например, смело отвергал и считал лицемерием, а к Новому Завету относился вообще с полным пренебрежением. И Толстой в письме к нему должен был признать, что «любовь без труда есть один обман и мертва, но нельзя сказать, чтобы труд включал в себя любовь. Животные трудятся, добывая себе пищу, но не имеют любви – дерутся и истребляют друг друга. Так же и человек».
Труд Бондарева по цензурным условиям того времени нельзя было напечатать, – он разошелся по России в большом количестве рукописных списков: мысль человеческая все же никак не подчинялась мановениям начальнической руки.
Вопрос о земледельческом труде еще больше приковывает внимание Толстого к земельному вопросу, правильное разрешение которого так важно для устроения жизни трудящихся масс. Решение этого вопроса он нашел у горячо любимого им американского экономиста Генри Джорджа, взгляды которого он начинает проповедывать со все большей и большей энергией. Как известно – или, точнее, как неизвестно, – Генри Джордж выступил с проектом национализации всей земли и единым уравнительным налогом с ее ценности, – по мнению Толстого, выгоды от этой реформы были бы огромны: во-первых, не будет людей, лишенных возможности пользоваться землей; во-вторых, не будет праздных людей, владеющих землями и заставляющих работать на себя за право пользования землей; в-третьих, земля будет в руках тех, кто работает на ней, а не тех, кто не работает; в-четвертых, народ, имея возможность работать на земле, перестанет закабаляться на заводы и фабрики и разойдется из городов по деревням; в-пятых, фискальный аппарат значительно упростится и удешевится, и отпадет целая масса чиновников-дармоедов; и в-шестых, и, по его мнению, главное, люди неработающие избавятся от греха пользования чужим трудом, в котором они часто и не виноваты, так как с детства воспитаны в праздности и не умеют работать, и от еще большего греха всякой лжи и изворотов для оправдания себя в этом грехе, и избавятся люди работающие от греха зависти, осуждения и озлобления против неработающих людей, и уничтожится одна из причин разделения людей.
Не думать на эти темы в России в то время было невозможно: все чуткие люди ясно понимали, что надвигается что-то грозное. И он внимательнее и внимательнее всматривается в народ, в эту стихию, видит и отмечает в своих записях то светлый лик его, то темный. Но темный лик его он по-прежнему старается забыть, не думать о нем. Но и это невозможно: смутные волны моря народного захлестывают все чаще и грознее уютный и нарядный приют Ясной Поляны.
«Дома было много приходивших мужиков, – пишет он из Ясной жене в Москву. – Всегда была бедность, но все эти годы она шла, усиливаясь, и нынешний год она дошла до ужасающего и волей-неволей тревожащего богатых людей. Невозможность есть спокойно даже кашу и калач с чаем, когда знаешь, что тут рядом знакомые мне люди, дети ложатся спать без хлеба, которого они просят и которого нет. И таких много. Не говоря уже об овсе на семена, отсутствие которых мучит этих людей за будущее, т. е. ясно показывает им, что и в будущем, если поле не посеется и отдастся другому, то ждать нечего, кроме продажи последнего и сумы...».
И он ясно чувствует ту беду, которая такой страшной грозой разразилась над нашими головами: «Закрывать глаза можно, как можно закрывать глаза тому, кто катится в пропасть; но положение от этого не переменится. Прежде жаловались на бедность, но изредка, некоторые, а теперь это общий один стон. На дороге, в кабаке, в церкви, по домам – все говорят об одном: о нужде. Ты спросишь: что делать? Как помочь? Помочь семенами, хлебом тем, кто просит, – можно; но это не помощь, это капля в море, и кроме того сама по себе эта помощь себя отрицает: дал одному, трем – почему не двадцати – и не тысяче, не миллиону? Что же делать? Чем помочь? Только одним: доброй жизнью. Все это не от того, что богатые забрали у бедных: это маленькая часть причины. Причина та, что люди – и богатые, и средние, и бедные – живут по-зверски, каждый для себя, каждый наступая на другого. От этого горе и бедность. Спасенье от этого только в том, чтобы вносить в жизнь свою и потому в жизнь других людей другое уважение ко всем людям, любовь к ним, заботу о других и наибольшее возможное отречение от себя, от своих эгоистических радостей. Я не тебе внушаю или проповедую, я только пишу то, что думаю, – вслух с тобою думаю. Я знаю, и ты знаешь, и всякий знает, что зло человеческое уничтожится людьми, что в этом одном задача людей, смысл жизни. Люди будут работать и работать для этого, почему же мы не будем для этого самого работать? Расписался бы я с тобой об этом, да почему-то мне кажется, что ты, читая это, скажешь какое-нибудь жестокое слово, и рука не поднимается писать дальше...».
Об эту пору он пишет «Власть тьмы», свою первую пьесу для театра, если не считать маленьких пьесок, которые он писал раньше для домашних спектаклей и которые так и остались ненапечатанными. Цензура запрещает «Власть тьмы» и для сцены, и даже для печати: «цинизм выражений, невозможные для нервов сцены и т. п.» – таков официальный предлог. Но на самом деле власть все более и более боится растущей популярности странного графа. Запрещение пьесы, конечно, вызывает особый интерес к ней, она пошла по рукам в рукописях, начались «нежелательные толки»; правительство вынуждено снять с пьесы запрещение, пьесу печатают и, благодаря всему этому шуму, превратившемуся в рекламу, она расходится в три дня... Потом ее пропускают и на сцену, но пугаются и снова запрещают. В начале 1887 г., благодаря этому беспрерывному скандалу, пьесой заинтересовался сам Александр III, было назначено при Дворе ее чтение и, когда последнее слово было прочтено, после долгого молчания Александр III сказал:
– Чудная вещь!
Так оценил царь пьесу с ее художественной стороны, но он поразительно не заметил главного, того, в какому ужасе живет его народ.
Разумеется, после этого все стали восторгаться пьесой чрезвычайно, но на сцене она все же могла появиться, несмотря на монаршее восхищение, только много лет спустя: напряженная и страстная борьба глупцов с гением продолжалась. Вообще Толстой становился для Петербурга все более и более нестерпимым, и одного имени его было достаточно, чтобы вызвать там противление, а если можно, то и запрет: продолжая заниматься педагогикой, он просит разрешить ему для опыта заниматься в городской школе с ребятами – разрешения ему не дают. Его дочери открывают в Ясной Поляне школу – ее закрывают, а тульский губернатор, который сочувствовал Толстому, переводится в другой город. Составляет Толстой с огромной затратой сил и времени народный календарь – цензура уродует его всячески, и календарь может появиться только в этом изуродованном виде. В 1887 г. он заканчивает свой большой религиозно-философский труд «О жизни» – цензура сжигает книгу, но она выходит в переводе графини и профессора Тастевен в Париже.
Болея душой за несчастный народ, положение которого – в этом он совершенно прав – ухудшалось прямо с катастрофической быстротой, Толстой основывает первое в России общество трезвости. Правительство требует представления устава, Толстой отказывается, и дело рушится, хотя в самых широких слоях народа общество встретило очень горячий отклик: все понимали, что водка Россию до добра не доведет... Это дело с обществом трезвости чрезвычайно интересно еще и с другой стороны. По мысли Толстого всякий поступающий в общество должен был подписать торжественное обещание не пить и других не уговаривать пить. И вот «темные», то есть последователи его, заартачились: хотя цель общества, конечно, симпатична, но с другой стороны, это торжественное обещание похоже на клятву, а не сказано ли в Евангелии «не клянись совсем». И некоторые так и не подписали. Вообще «темные» очень зорко следили за поведением Толстого и, чуть замечая какое уклонение его от стези праведности, тотчас же торопились призвать его к порядку. На святках 1890 г. толстовская молодежь так развеселилась в Ясной, что увлекла за собой в это веселье и старика. Узнав об этом, г. Бирюков написал Толстому письмо о том, что известие о шумном веселье в Ясной произвело на него, г. Бирюкова, очень тяжелое впечатление. Впрочем, – успокоил г. Бирюков Толстого, – это известие о веселье не уменьшило его уважения и любви к Толстому «ни на йоту». Слухи об этом веселье в Ясной проникли и в газеты, которые отнеслись к этому с неменьшей строгостью, чем г. Бирюков, а многие почитатели, вроде г. начальника станции Воробьева, потребовали даже от Толстого объяснений. И он должен был объясняться...
Вообще представлять себе жизнь Толстого в это время одним сплошным триумфальным шествием было бы в высшей степени неверно: всегда найдется достаточно людей, а особенно среди русских, которые постараются омрачить всякое торжество. Так, в это время – в связи с его борьбой с пьянством в народе – Толстой поместил в газетах горячий протест против традиционного пьянства русской интеллигенции в Татьянин день, в день университетского праздника. К Толстому посыпались ругательные письма и даже телеграммы, в которых пьяные интеллигенты писали ему: пьем за ваше здоровье... Говорили даже, что студенты готовят враждебную Толстому демонстрацию, но из этих добрых намерений ничего, по-видимому, не вышло.
А он продолжал неутомимо вести свою линию, все шире и глубже раскрывая все эти бесчисленные условные лжи культурных кругов. Одну за другой он пишет комедию «Плоды просвещения», книгу об искусстве и знаменитую «Крейцерову сонату», которая, разумеется, была сразу запрещена правительством и пошла гулять по России в списках. Разрешения печатать ее добилась графиня лично от Александра III в 1891 г. Эта вещь произвела чрезвычайный шум. По словам Н. Н. Страхова, люди знакомые при встрече, вместо обычно вопроса «как ваше здоровье?», спрашивали: «читали ли вы „Крейцерову сонату“? Но утверждать, что книга эта произвела существенные изменения в образе мыслей или в психологии современников, у нас, конечно, нет решительно никаких оснований: поспорили, погорячились и – забыли. Но „темные“ сохранили такие „документы эпохи“: „Позднышев человек умный, – пишет один гимназист III класса. – Он мог бы удержать свою жену от падения, но вследствие какого-то озлобленного нежелания не удержал. Думаю, что в моей будущей жизни того не случится, что описано в „Крейцеровой сонате“; рассудок должен всегда сдерживать порывы человека. За это произведение Толстому большое спасибо“. Другой – тоже гимназист – утверждает: „Крейцерова соната“ открыла мне глаза на истинный смысл существующих в нашем обществе связей между мужчиной и женщиной. Связи эти – одно скотство. Это ужасно, но справедливо. И я все свои силы души употреблю на то, чтобы избегнуть подобной, недостойной человека связи». И другие философы III и IV класса – слог выдает их с головой – заявляют не менее твердо: «Крейцерова соната» заставила меня сознательно относиться к женщине», «эта книга изменила мой образ жизни», «Толстой направил меня этой книгой на новый путь, с которого я уж, наверное, не собьюсь и твердой поступью пойду в моей будущей жизни»... Думаю, что, прочитав эти отзывы своих читателей, Толстой повторил бы то, что говорил он об христианских общинах: «Господи, прости мои согрешения, но что-то тут не то...». Впрочем, он становится все терпимее к миру и к царящей в нем глупости и 19 августа 1890 г., например, записывает: «Когда молишься „оставь нам долги наши“, надо вспоминать хорошенько свои грехи, свои глупости. Ну, я сержусь на тупость людей, а давно ли я мечтал о лошадях, о том, что царь мне подарит Засеку, окружающую Ясную Поляну?... Спасаясь от этой глупости, он уходит в мир мудрецов и читает и отмечает, как всегда, прочтенное и степень впечатления, которое оставила в нем книга: Евангелие все, по-гречески, – огромное, книга „Бытия“, по-еврейски, – очень большое, Генри Джордж, „Прогресс и бедность“ – очень большое, Паркер,[82]82
Теодор Паркер (1810–1860), американский политический деятель, писатель, проповедник. Верил в прирожденную доброту человеческой природы, протестовал против гнета традиции во имя свободы личной совести.
[Закрыть] «Речи на религиозные темы» – большое, проповеди Робертсона[83]83
Уильям Робертсон(1721–1793), английский богослов, историк.
[Закрыть] – большое, Фейербах, «Сущность христианства» – большое, Паскаль, «Мысли» – огромное, Эпиктет – огромное, Конфуций и Менций – очень большое, книги о Будде и Э. Бюрнуфа[84]84
Эжен Бюрнуф (1801–1852), знаменитый французский востоковед, автор капитальных трудов о Будде.
[Закрыть] – огромное... Как прежде, остро, со свойственным ему «пронзительным любопытством» вглядывается он в людей и их жизнь и роняет удивительные замечания:
«... Еще человек, и еще, и еще. И все новые, особенные. И все кажется, что этот-то вот и будет новый, особенный, знающий то, чего не знают другие. И все то же, все те же слабости, все тот же низкий уровень мысли...
Никак не отделаешься от иллюзии, что знакомство с новыми людьми даст новые знания, что чем больше людей, тем больше ума, доброты, как чем больше углей, тем больше тепла. С людьми ничего подобного: все те же, всегда те же. И прежние, и теперешние, и в городе, и свои, и чужие, русские, ирландцы и китайцы. А чем больше их вместе, тем скорее тухнут эти уголья, тем меньше в них ума, доброты...»
И иногда крик страха и отчаяния:
«Неужели же люди, теперь живущие на шее других людей, не поймут сами добровольно, что этого не должно и не следует, а дождутся того, что их скинут и раздавят?...».
А дома одна тяжкая семейная сцена идет за другой – и все из-за собственности. Яснополянский управляющий изловил мужиков, воровавших лес. Их присудили, конечно, в острог. Они явились к графине просить о помиловании, но та не захотела сделать для них ничего. А ночью произошла бурная сцена между Толстым и женой, и он опять говорит, что единственное спасение для него – это уйти из этого дома... И после долгой муки решают на компромиссе: разделить все имущество между наследниками и таким образом освободить Толстого от собственности. Так и делают, но и это не избавляет его от душевных страданий.








