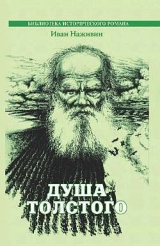
Текст книги "Душа Толстого"
Автор книги: Иван Наживин
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 20 (всего у книги 23 страниц)
XXXV
Под потоками крови огни революции постепенно потухали. Правительство, не справившееся с Японией, справилось со своим народом. Оно торжествовало. Но напрасно: болезнь была только загнана внутрь. Раз как-то я вышел в свой сад, где у меня работали босяки. Один из них, Алеша Кривой, спросил, нет ли чего новенького в газетах. Я сказал, что опять как будто пахнет войной.
– Вот дал бы Бог! – сказал он.
Я удивился: это зачем еще нужно?!
– А как же? Как только война опять, так опять «вставай, подымайся, рабочий народ...» – сказал он. – Только теперь поведем уж дело умнее...
– Это как же умнее? – спросил я.
– А так, что всех под метелочку теперь вырежем, кого надо...
Но войны не было, и жизнь как будто вступала понемногу в свою прежнюю колею.
В 1906 г. тяжело заболела графиня. В Ясной началась тревога. Появились доктора. Больную могла спасти только спешная операция. Толстой не верил в нужность медицинского вмешательства. Он, как рассказывает его сын Илья, считал, что приблизилась великая и торжественная минута смерти, что надо подчиниться воле Божией и что всякое вмешательство врачей нарушает величие и торжественность великого акта смерти. Когда доктор определенно спросил его, согласен ли он на операцию, отвечал, что пусть дело решают больная и дети, а что он устраняется и не будет говорить ни за, ни против.
– Если будет операция удачная, позвоните мне в колокол два раза... – сказал он детям, готовясь уйти в лес. – А если нет, то... Нет, лучше не звоните совсем, я сам приду...
Он ушел в лес и ходил там один и молился.
Чрез полчаса, когда операция была кончена, Илья Львович с сестрой Марией побежали искать его. Он шел им навстречу испуганный и бледный.
– Благополучно, благополучно! – закричали они.
– Хорошо, идите, я сейчас приду... – сказал он сдавленным от волнения голосом и опять ушел в лес.
После пробуждения графини от наркоза он вошел к ней, но скоро вышел в подавленном и возмущенном состоянии.
– Боже мой, что за ужас! – говорил он. – Человеку умереть спокойно не дадут. Лежит женщина с разрезанным животом, привязана к кровати, без подушки... И стонет, больше, чем до операции. Это пытка какая-то...
Только чрез несколько дней, когда графиня начала поправляться, он успокоился и временно перестал осуждать докторов. Но – остался все же при своем...
Смерть обошла Ясную на этот раз стороной, и снова началась ее широкая, гостеприимная, немножко безалаберная жизнь. В Москву старики на зиму больше уже не переезжали. Но посетители ехали и сюда со всех сторон, и вечерами в огромной столовой велись всегда оживленные беседы, в которые Толстой вносил свои неожиданные, яркие искорки-мысли. И хотя он и восставал против того преувеличенного места, которое отводится в жизни культурных кругов искусству и литературе, но тем не менее чаще всего именно на эти темы сбивался разговор в уголке вкруг лампы с огромным абажуром. Суждения Толстого в этих областях были всегда неожиданны и очень оригинальны.
– Читаю Гёте и вижу все вредное влияние этого ничтожного, буржуазно-эгоистического, даровитого человека на то поколение, которое я застал... – говорит он. – А в особенности бедного Тургенева с его восхищением перед «Фаустом» (совсем плохое произведение) и Шекспиром, и, главное, с той особенной важностью, которую приписывают разным статьям: Лаокоонам, Аполлонам и разным стихам и драмам. Сколько я помучился тогда, когда, полюбив Тургенева, желал полюбить то, что он так высоко ставил. Изо всех сил старался и никак не мог! Какой ужасный вред – авторитеты, прославленные великие люди да еще ложные!..
– Диккенс – мировой гений... – говорит он в другой раз. – Он оживляет даже неоживленные предметы: море смеется... У нас ему подражают Наживин, Горький[109]109
Привожу этот отзыв, записанный Д. П. Маковицким, только для того, чтобы показать, как неожиданны были суждения Толстого во всех областях даже для близких людей, – в данном случае для меня. – Примеч. автора.
[Закрыть] ... Теперешние мо лодые писатели не знают чувства меры. Они дают говорить своим героям столько и таких вещей, которых они не могли бы говорить. Пушкин раз сказал одной даме: «а вы знаете, ведь Татьяна отказала Онегину и бросила его. Этого я никак не ожидал от нее». Пушкин создал ее такою, что она не могла поступить иначе. У Горького же герои поступают так, как он заранее предпишет им. И у него нет ни одного доброго лица. У Чехова пропасть их, то же у Достоевского, у Диккенса, у Гюго. У Горького не чувствуется доброты, нежности... И Байрона вот я не мог до конца дочитать: его герои говорят то, что он вперед решил вложить им в рот.
Но, несмотря на все эти разговоры, чувствовалось, что литература, вся, была для него, как какой-то уже потерянный рай, но зато никто кроме него не чувствовал так тот подлинный рай, в котором он жил и которым ненасытно наслаждался:
«Ходил гулять. Чудесное осеннее утро, тихо, тепло, зеленя, запах листа, – заносит он в свой дневник. – И люди, вместо этой чудной природы, с полями, лесами, водой, птицами, зверями устраивают себе в городах другую, искусственную природу, с заводскими трубами, дворцами, локомобилями, фонографами... Ужасно и никак не поправишь».
Но потихоньку надвигались те сроки, те развязки, от которых не уходил ни один смертный. Вдруг тяжело заболела и умерла в Ясной любимая и самая ему близкая из всей семьи дочь Марья Львовна. Он ходил, – рассказывает его сын Илья, – молчаливый и жалкий, напрягал все свои силы на борьбу со своим горем, но никто не слышал от него ни одного слова ропота, ни одной жалобы, – только слова умиления... Когда понесли гроб в церковь, он оделся и пошел провожать, но в церковь не пошел, а у выхода из парка остановился, простился с покойницей и пошел по пришпекту домой. «Я посмотрел ему вслед, – пишет Илья Львович. – Он шел по тающему мокрому снегу частой, старческой походкой, как всегда, резко выворачивая носки ног, и ни разу не оглянулся...»
Через два дня Толстой записывает в свой дневник: «Нет, нет, и вспомню о Маше, но хорошими, умиленными слезами, – не об ее потере для себя, а просто о торжественной, пережитой с нею минуте, от любви к ней...» И через месяц он пишет так: «Живу и часто вспоминаю последние минуты Маши (не хочется называть ее Машей, так не идет это простое имя тому существу, которое ушло от меня). Она сидит, обложенная подушками, я держу ее худую, милую руку и чувствую, как уходит жизнь, как она уходит. Эти четверть часа – одно из самых важных, значительных времен моей жизни...»
Потеря эта была для него тем чувствительнее, что только одна Марья Львовна умела дать отцу тепло. Выше я рассказывал, как сдержанны были отношения между молодыми братьями Толстыми сперва и между Толстым и его детьми потом. Только одна Марья Львовна делала из этого правила исключение. «Бывало, подойдет, погладит его по руке, приласкает, скажет ему ласковое слово, – говорит Илья Львович, – и видишь, что ему это приятно, и он счастлив и даже сам отвечает ей тем же. Точно он с ней делался другим человеком... И вот со смертью Маши он лишился этого единственного источника тепла, которое под старость ему становилось все нужнее и нужнее...»
И, оставив свою Машу на тихом сельском кладбище, старенький и одинокий Толстой снова пошел в неведомые дали жизни, уже совсем один. Снова устраивает он у себя школу для крестьянских ребят, – выше я рассказывал о его занятиях в ней над Евангелием, – пишет свои пламенные статьи, и правительство, которое, в упоении победы над революцией, не стесняет себя уже решительно ни в чем, не смеет переступить порога этой старой усадьбы, не смеет тронуть этого худенького, шамкающего старичка, который один говорит на всю Россию, на весь культурный мир то, что никто говорить не смеет. Его нападения становятся все беспощаднее и беспощаднее, клейма, которые кладет он на преступные лбы эти, горят огнем, но у противников его против него есть только одно оружие, слово, и, Боже мой, до чего жалки они в обращении с этим оружием! Пресловутый Иван Кронштадский, очередной, но неудавшийся кандидат в чудотворцы, лечивший – пятьсот рублей за визит – богатых купцов от запоя и встречаемый в своих погромно-чудотворно-медицинских турне губернаторами, выступает против «рыкающего льва» с обличительной статьей. Святитель упрекает его в отречении от Христа, в обожествлении телефона, телеграфа и всяческой технической культуры, он грозит ему гневом Божиим, точно гнев этот находится в кармане его рясы, и муками ада. И это было все, что у них нашлось! Потом, впрочем, святитель сочинил и молитву еще, в которой просил Господа поскорее убрать с земли богохульника-графа.
Но нельзя сказать, что эти выступления пастырей и властей остаются совсем уже без успеха. В Уфе в это время жил какой-то двойник Толстого; местный фотограф выставил ради курьеза его портрет у себя в окне, но проходивший мимо офицер оскорбился видом еретика, разбил стекло и изорвал портрет: это можно было сделать безнаказанно и даже получить одобрение от начальства. Какой-то простачок шлет в Ясную ругательное письмо с портретом Толстого: к голове старика пририсованы рога дьявола... Сыплются письма с эпитетами «старый дурак» и «подлец» – справа за «поругание святыни и подрыв основ», слева за то, что в Ясной живут, по распоряжению графини, стражники. Иногда слепая злоба эта брызжет ему прямо в лицо. Встречает он на шоссе двух пьяных крестьян, и один из них кричит ему: «ваше сиятельство, дай Бог скорее тебе околеть!» и завязывает ругательства. Толстой подъехал к ним и спрашивает: «За что ты на меня? Что я тебе сделал?» Тот, который ругался, замолчал, а другой стал уверять, что они ничего не говорили. «Да как же не говорили? – сказал Толстой. – Ведь я слышал...» Тогда другой заорал: «Да что ты пристал? Что ты в меня из ружья, что ли, выстрелишь? Ступай ты...» И опять он грязно выругался...
XXXVI
С начала 1908 г. Толстой был опять тяжело болен. Получив известие из Ясной, что ему лучше, я поехал навестить его. Я нашел его изменившимся. По утрам он бывал еще довольно свеж и бодр, но к вечеру перенесенная болезнь и годы брали свое. Он чувствовал себя нехорошо и не скрывал этого. И было заметно, как ослабела его память.
– Я забываю все, что мне не нужно помнить, но зато очень хорошо помню то, что не надо забывать... – говорил он. – Ах, как хорошо!
И временами ясно чувствовалось, что он не совсем уже наш, что он все более и более уходит. И тоскливо сжималось тогда сердце.
В Ясной было немало разговоров о готовившемся чествовании по случаю его восьмидесятилетия. Юбилей этот был старику чрезвычайно неприятен.
– Раньше, бывало, мелькнет где в газетах Л. Н. Т., остановишься и прочтешь... – сказал он. – А теперь, как только Л. Н. Т., так скорее прочь...
Вечером зашел общий разговор о современной литературе. Толстой сидел в стороне, усталый и, видимо, больной. Ему подали карточку какого-то посетителя. Он ушел и, поговорив с гостем около получаса, вернулся и рассказал нам, что это немец из Прибалтики, что у него опасная болезнь сердца и что доктора предсказывают ему скорую смерть.
– Он спросил меня, как ему лучше употребить этот остаток жизни... – рассказывал Толстой. – Я рассказал ему притчу о яблоне, – она как-то мало заметна в Евангелии среди других притч, но она очень важна. Садовник пришел к хозяину сада и говорит, что одна из яблонь не дает плода и что поэтому ее лучше срубить и сжечь. Хозяин отвечал, что надо подождать еще год и еще, а тогда, если она не принесет яблоков, можно будет и срубить. Каждый день нашей жизни это только отсрочка, данная нам хозяином, и мы должны торопиться принести плоды...
На другой день Толстой пошел, как обыкновенно, гулять и, увидав около станции написанные на снегу всякие гадости – обычное украшение наших публичных мест, – стер все это и, склонившись над снежной поляной, палкой написал на снегу: «братья, любите друг друга...»
Между тем юбилейная волна вздувалась все грознее. Толстой прямо страдал от этого неперестающего шума вкруг его имени. «То, что вы пишете о моем ужасном юбилее, наверное, не так тяжело для вас, как это тяжело для меня, – писал он мне. – Я делаю все, чтобы прекратить этот шум, но вижу, что я бессилен...» Он чувствовал во всем этом шуме много лжи, он понимал, что его имя просто делают тараном для борьбы с ненавистным правительством, что во всей этой суете много стадного, нездорового, но он действительно ничего сделать не мог: его просьбы, его воля, его отчаяние во внимание не принимались...
Только один проект чествования вызвал его одобрение. Один из «темных», старик, написал в газеты письмо, что самый лучший способ чествовать Толстого в это страшное время казней и бесправия – это посадить его в тюрьму. Газеты не посмели напечатать этого письма. Толстой пришел от него в восторг: «Действительно, ничто так не удовлетворило бы меня и не дало бы мне такой радости, как именно то, чтобы меня посадили в тюрьму, в хорошую, настоящую тюрьму, вонючую, холодную, голодную...»
Но правительство не решилось на такое празднование юбилея Толстого, а общество, не уважив прямой воли Толстого и не обращая внимания на его болезнь, – появились обмороки, потеря памяти и даже потеря сознания, – продолжало шуметь и витийствовать. И с другой стороны тоже не стеснялись: «Третьего дня получил письмо с упреками за мое богатство – записывает он в дневнике, – и лицемерие, и угнетение крестьян, и, к стыду моему, мне было больно. Нынче целый день грустно и стыдно. Сейчас ездил верхом, и так желательно и радостно показалось уйти нищим, благодаря и любя всех. Да, слаб я, не могу постоянно жить духовным „я“. А как не живешь им, то все задевает. Одно хорошо, что недоволен собой и стыдно, – только бы не гордиться этим...»
«Пережил очень тяжелые чувства, – пишет он в другом месте. – Слава Богу, что пережил. Бесчисленное количество народа, и все это было бы радостно, если бы все не отравлялось сознанием безумия, греха, гадости, роскоши, прислуги и – бедности и сверхсильного напряжения труда кругом. Не переставая, мучительно страдаю от этого и один. Не могу не желать смерти. Хотя хочу, как могу, использовать то, что осталось...»
Чрезвычайного напряжения шум вкруг его имени достиг, когда появилась его статья против смертных казней «Не могу молчать!». Он говорил, что жить человеческой жизнью среди этих виселиц нельзя, и требовал намыленной веревки и на свою шею. Статья эта появилась сразу чуть не на всех языках мира. В одной Германии она была напечатана сразу в двухстах газетах. Русские газеты решились напечатать статью только в извлечениях, и на них посыпался дождь штрафов. В Севастополе издатель газеты напечатал статью целиком и расклеил ее по городу, за что и был немедленно арестован... Но были и протесты против этой статьи и самый яркий из них был сделан неизвестной русской женщиной: в самый день юбилея в Ясную была прислана почтовая посылка, которая заключала в себе веревку и письмо такого содержания: «Граф, – ответ на Ваше письмо. Не утруждая правительство, можете сделать это сами, нетрудно. Этим доставите благо Вашей Родине и нашей молодежи.
Русская мать». Одни строили для него из газетных листов какой-то Олимп, в котором он не нуждался, другие посылали ему веревки, а он хворал и чувствовал приближение смерти: все слышнее в необыкновенной симфонии этой жизни слышатся вдали черные, рыдающие аккорды последнего реквиема.
«Тяжело, больно, – записывает он 11 Августа. – Последние дни неперестающий жар, и плохо, с трудом переношу. Должно быть, умираю. Да, тяжело жить в тех нелепых, роскошных условиях, в которых мне привелось прожить жизнь, и еще тяжелее умирать в этих условиях: суеты, медицины, мнимого облегчения, исцеления, тогда как ни того, ни другого не может быть, да и не нужно, а может быть только ухудшение душевного состояния. Отношение к смерти никак не страх, но напряженное любопытство. Об этом, впрочем, после, если успею.
Хотя и пустяшное, но хочется сказать кое-что, что бы мне хотелось, чтобы было сделано после моей смерти. Во-первых, хорошо бы, если бы мои наследники отдали все мои писания в общее пользование; если уже не это, то непременно все народное, как-то: «Азбука», «Книги для чтения». Второе, хотя это из пустяков пустяки, то, чтобы никаких не совершали обрядов при закопании в землю моего тела. Деревянный гроб, и кто хочет снесет или свезет в Заказ, против оврага, на место зеленой палочки. По крайней мере, есть повод выбрать то, а не другое место...
Да, «все в табе и все сейчас», как говорил Сютаев, и все вне времени. Так что же может случиться с тем, что во мне и что вне времени? Ничего, кроме блага...»
Но смерть опять отступила, и наступило, наконец, 28 августа, и на Ясную Поляну обрушилась целая лавина. Я долго колебался: лавина чего? И по совести не могу сказать ничего иного, как лавина бумаги. Были письма, телеграммы, адреса со всех концов света: от известных и неизвестных, от членов английского парламента и от слепых детей, от рабочих и от студентов, от кооператоров и аристократов, от крестьян и журналистов и прочее, и прочее, и прочее. Были тут, конечно, и искорки живой, подлинной любви и понимания, но совершенно несомненно много было тут стадной истерики, кукишей правительству, желания поблистать душой перед самим собой, пошуметь, сделать себя значительным. Письма крестьян, например, своим явно газетным красноречием заставляли настораживаться: «живи на славу литературы и на просвещение нас, слепых», – пишет, например, один будто бы крестьянин, а другая, крестьянка, витийствует: «Шлю благодарность за Ваш труд и любовь к народу. Золота я не имею, а если и найдется лепта для сооружения Вашего памятника, то я уверена, что не хватит на всем земном шаре капитала, чтобы купить те живые камни, что Вы ковали для своего памятника, ибо эти камни есть живые слова, которые останутся в сердцах людей. Слово Ваше не умрет во веки веков. С почтением остаюсь Вас уважающая по убеждению христианка, а по званию крестьянка». Все это – не крестьянское красноречие. И достаточно внимательнее присмотреться к стихам, присланным какою-то бедной слепой девочкой, чтобы понять, что многие чествовали не действительного Толстого, а какого-то Толстого воображаемого: ее обращение: «о, гений земли православной, писатель России державной...» – говорит ясно, что стихи ее попали не по адресу. Но не будем останавливаться над всем этим слишком подробно: жалкие слова человеку прощать надо – говаривал другой русский, великан Достоевский. Может быть, вернее сказать, что прощать надо всякие слова: это игрушки, которыми играет дитя, чтобы не плакать.
Некоторые приветствия трогали Толстого, но скоро он оставил все:
– Прочтешь – умиляешься... – говорил он. – А потом и умиление-то мое мне надоело...
Искреннее, правдивее звучали налитые кровью проклятия врагов его, которые мелькали в лавине этих восхвалений. Нужно ли говорить, что святители занимали тут первое место? Особенно отличился христианским смирением своим епископ Гермоген, который писал: «Окаянный, презирающий Россию, Иуда, удавивший в своем духе все святое, нравственно чистое, нравственно благородное, повесивший сам себя, как лютый самоубийца, на сухой ветке собственного взгордившегося ума и развращенного таланта...» и прочее. Были с низов и письма, пропитанные глубокой горечью: «сейчас тебя ругают, – пишет один такой изверившийся, – а со временем будут на тебя молиться и будут обирать тобою народ...»
Когда весь шум этот спал немного, я поехал в Ясную. Предо мной раскинулась знакомая картина: долина быстрой Воронки, а за речкой, вся облитая ярким утренним солнцем, вся в багрянце осени, – было 3 октября 1908 – безбрежная Засека. И я бодро зашагал по твердой, уже прихваченной морозцем дороге.
Вот и знакомые белые башенки у входа в яснополянский парк. Из парка вышли два каких-то странника в подрясниках и скуфеечках и знакомая старческая, уже сильно сгорбленная, фигура. Странники низко поклонились ему и пошли своей дорогой. Я подошел к Толстому, расцеловался с ним, всмотрелся в него: похудел немного как будто, но ничего тревожного.
– Ничего, ничего... – отвечал он на мой вопрос о здоровье. – Умираю потихоньку... Все отлично. Ну, а вы как?
Я сказал, что был в Москве у доктора Г. М. Беркенгейма (лечившего иногда и Толстого) и что он угрожает мне долгим лечением.
– Григорий Моисеевич милый человек, – сказал тихо Толстой, – но... ничего он не может. Оставьте все это: и над вами, и над Григорием Моисеевичем есть Кто-то, Который лучше знает, когда вам болеть, когда выздороветь... Вот недавно хворал я, были доктора и смотрел я на них: до такой степени ничего они не могут, что даже стало их жалко...
– А я привез вам печальные новости... – сказал я. – Только что арестовали в Москве ваше «Учение Христа для детей» и «О значении русской революции»...
Он покачал головой.
– Ну, уж теперь недолго, и я избавлю их от всяких неприятностей... – сказал он.
– Ну, нет: вы уйдете, а неприятность-то останется... – сказал я. – Вы для них вечная неприятность, Лев Николаевич...
– Пожалуй. Только все же беспокойства меньше будет...
Погуляв немного в парке, мы пошли домой. Он ушел к себе работать, а я стал просматривать все эти адреса, письма и телеграммы, которые стеклись сюда массами за время юбилея. И сразу наткнулся на очень красочную черточку: группа русских и англичан, живущих в Шанхае, послала Толстому приветствие и направила его по адресу: Москва, Льву Толстому. Московский почтамт возвратил пакет отправителям обратно с надписью: «место жительства адресата неизвестно». В угоду начальству захотелось щегольнуть своим хамством на всю вселенную...
– Вот вы были против празднования вашего юбилея... – сказал я Толстому, когда после работы он опять вышел ко мне. – А посмотрите, сколько все же любви к вам обнаружилось за это время...
– Да, да... – отвечал он. – Но если у меня были еще сомнения, что я пустой и ничтожный человек, то этот шум вкруг моего имени окончательно рассеял их. Поневоле вспомнил ЛаоЦзы, который говорил, что человек истинно мудрый не привлекает к себе внимания толпы. Должно быть, все-таки много всяких пустяков сделал я в своей жизни...
Вечером мы говорили о том мраке, который окутал в те тяжелые, пореволюционные годы народную жизнь. Он с горечью видел все растущее развращение народа, эти грабежи, бесчисленные убийства, эти виселицы и расстрелы, это все увеличивающееся озлобление. Я позволил себе не совсем согласиться с ним.
– Мне кажется, что вы слишком мрачно смотрите на народ... – сказал я. – Несомненно, худшая часть народа усиленно развращается, растет число пьяниц, убийц, грабителей, палачей, но ведь есть и обратное течение в народе... И я думаю, что печальная действительность только усилит и укрепит этот духовный рост народа...
– Да, да, вы правы... – радостно, как показалось мне, согласился он. – И в том правы, что все к лучшему: tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes...[110]110
Все идет к лучшему в наилучшем из миров (франц.).
[Закрыть]
Работа у него кипела. Две переписчицы едва успевали переписывать то, что он им передавал. А около двух часов, как всегда, он уехал на свою обычную прогулку. Вечером же он чувствовал себя совсем утомленным, молча играл в шахматы, и было прямо жаль поднимать какой-нибудь разговор. Но он сам потом оживился.
Разговор опять зашел о нравственном разложении народа. Я стал рассказывать ему о жизни современной деревни. Он чрезвычайно заинтересовался моими наблюдениями. Между прочим я сказал, что, оставаясь правдивым, я, к сожалению, не могу не притти к заключению, что огромную роль в развращении народа сыграла современная народная школа. Грамота на основе серьезного нравственного воспитания, конечно, великое благодеяние, но такого нравственного фундамента жалкая, дрянная современная русская школа не дает и дать не может, а голая грамотность является лишь превосходным средством для удовлетворения разыгравшихся среди городской «цивилизации» аппетитов и всяческого развращения.
– Да, все, что вы говорите, это Wasser auf meine M?hle,[111]111
Мне на руку (нем.).
[Закрыть] но смотрите: достанется вам за эти дерзости! – сказал он.
Он был прав: досталось. Он не раз говорил, что восставать в наше время против правительства дело совсем легкое, но очень трудно восставать против верований и предрассудков кругов «культурных».
На утро, когда я встал, Толстой уже вышел на свою обычную короткую утреннюю прогулку. Я поспешил наверх, чтобы успеть повидать его, пока он не сядет за работу. Он возвратился с прогулки свежий, бодрый, ласковый и, узнав, что я тороплюсь в Москву, присел со мной на несколько минут...
Вскоре я простился. И невольно сжалось сердце: не навсегда ли?








