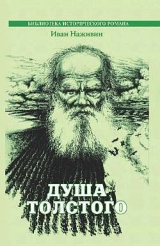
Текст книги "Душа Толстого"
Автор книги: Иван Наживин
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 23 страниц)
XII
Так подошел Толстой к двум событиям своей жизни, одно из которых – его ссора с Тургеневым – ничтожно и не имело никакого значения в его жизни, несмотря на весь поднятый вокруг этого случая шум, а другое – его женитьба – было чревато самыми важными последствиями.
Столкновение между ним и Тургеневым было совершенно неизбежно: несмотря на разительную противоположность этих двух людей во всем, они как-то странно и как будто даже болезненно тянулись друг к другу, писали один другому письма, уверяли друг друга в своем уважении и высокой оценке и, чувствуя, что у них ничего не вытанцовывается, все же продолжали неизвестно зачем налаживать то, что не налаживалось и наладиться не могло. Тургенев – это милое, задумчивое русское озерко, над которым дремотно склонились березы и в которое смотрится ласковое, безмятежное небо; хорошо посидеть на его бережку, погрезить, подышать; но нырнуть тут нельзя: в озерке нет глубины. Толстой – это море, которое может и смеяться, но может и разбивать корабли. Толстой – это дикарь, огромный, прямой, угловатый, детски откровенный; Тургенев внешне и внутренне европеец, человек, который прежде всего придает большое значение внешним покровам человека и жизни, не особенно заботясь о том, что под этими покровами скрыто. И характерно, что Тургенева не любил и другой великан русской и мировой литературы, Достоевский, который так непочтительно изобразил его в «Бесах».
Их общий друг, А. А. Фет, так описывает это столкновение двух знаменитых современников его, которые гостили у него в имении.
«Утром... в восемь часов гости наши вышли в столовую, в которой жена моя занимала верхний конец стола за самоваром, а я, в ожидании кофея, поместился на другом конце. Тургенев сел по правую руку от хозяйки, а Толстой по левую. Зная важность, которую придавал в это время Тургенев воспитанию своей дочери, жена моя спросила его, доволен ли он своей английской гувернанткой. Тургенев стал изливаться в похвалах гувернантке и, между прочим, рассказал, что гувернантка с английской пунктуальностью просила Тургенева определить сумму, которую дочь его может расходовать для благотворительных целей.
– Теперь, – сказал Тургенев, – англичанка требует, чтобы моя дочь забирала на руки худую одежду бедняков и, собственноручно вычинив оную, возвращала по принадлежности.
– И вы это считаете хорошим? – спросил Толстой.
– Конечно, это сближает благотворительницу с насущной нуждой...
– А я считаю, что разряженная девушка, держащая на коленях грязные и зловонные лохмотья, играет неискреннюю, театральную сцену...
– Я вас прошу этого не говорить! – воскликнул Тургенев с раздувающимися ноздрями.
– Отчего же мне не говорить того, в чем я убежден? – отвечал Толстой.
По словам графини Софьи Андреевны, Тургенев сказал:
– Стало быть, вы находите, что я дурно воспитываю свою дочь?
Толстой заметил, что личностей он не касается. Тургенев побледнел и прежде, чем Фет мог помешать ему, этот европеец сказал:
– Если вы будете так говорить, то я вам дам в рожу!..
Он вскочил из-за стола и, схватившись руками за голову, вышел в другую комнату. Сейчас же он вернулся и извинился перед хозяйкой за свой «безобразный поступок». И гости тотчас же разъехались».
Толстой с дороги написал письмо Тургеневу с вызовом на поединок и послал к себе в имение за... пулями и ружьями: в письме к Тургеневу он писал, что не желает стреляться пошлым образом, то есть, чтобы выстрелить из пистолетов мимо и запить всю эту комедию шампанским, – нет, уж если стреляться, то стреляться. И пусть Тургенев привезет свои ружья...
Начинается длительная канитель с письмами, всякие сплетни досужих людей, подливающих масло в огонь, объяснения и, наконец, все, слава Богу, кончается и рассасывается без применения ружей, а со временем, через долгие годы, заканчивается даже попыткой примирения, которая опять привела к натянутым посещениям, неискренним письмам и взаимной тяготе.
Все это, взятое вместе, – неудачная борьба за лучшее устроение народа в качестве мирового посредника, горячие попытки создать новую, свободную и разумную школу, этот изнуряющий своей пошлостью случай с Тургеневым, а также, конечно, хоть и его блестящий, но внутренне для него тяжелый писательский путь, который забавой для него не был, – все это привело к тому, что он надорвался, заболел и весной 1862 г. решил бросить все и ехать на кумыс в заволжские степи.
Он проехал всю Волгу, весеннюю, радостную Волгу, он с головой утонул в бездонности русских просторов, он смотрел, слушал, вникал в народную жизнь, он говорил с умным и глупым, со стариком и с ребенком, он жадными глотками пил красочную жизнь... И вот он уже живет в башкирской кибитке, среди неоглядной, зеленой, затканной мириадами цветов степи, пьет до одури кумыс, ест жирную баранину и наслаждается этой ширью, этим солнцем, этим богатством дикой и привольной жизни... Опять его жизнь – широкое, полное, солнечное andante, в котором так легко слышен Бог, Бог степей бескрайних, Бог звездных ночей, Бог зеленого молчания...
А там, дома, в Ясной, вокруг Ясной, тем временем продолжается борьба маленьких человечков с большим. Толстой и раньше получал множество писем с угрозами, а теперь, когда появился этот его журнал, хотя бы и только педагогический, когда появилась эта его новая школа, когда все более и более обращала на себя всеобщее внимание его беспокойная, не как у всех, жизнь, начальство стало все более и более подозрительно коситься на эту белую усадьбу в тени старого парка. Кто-то пустил слух, что революционные прокламации, которые появлялись от времени до времени в Туле и по деревням, печатаются в Ясной. И вот вдруг в тихую усадьбу нагрянул обыск. Это было целое нашествие: тройки с колокольцами, обывательские подводы, исправник, становые, сотские, понятые, жандармы. Бедные дамы чуть не в обмороке. Все разрыто, раскрыто, перевернуто вверх дном, читают интимные письма, читают дневники. В конюшне ломом взламывают полы. В пруду сетью ловят проклятый типографский станок, вместо которого попадаются только невинные караси и раки. Школа вывернута наизнанку. И – ничего. Тогда, громыхая колесами и заливаясь звоном колокольчиков, несутся по всем окрестным школам, все ставят вверх ногами, арестовывают учителей, забирают тетрадки мальчишек...
«Какое это огромное счастье, что меня не было дома! – говорил потом Толстой. – Ежели бы я был, то наверное теперь судился бы, как убийца...». Он кипит негодованием: народ вокруг него, ничего не понимая, смотрит на него теперь, как на преступника, поджигателя, фальшивомонетчика, который только по плутоватости своей ловко на этот раз вывернулся. Среди помещичьих усадеб стоит стон восторга: наконец-то! Толстой громко говорит, что жить в России нельзя, что он распродает все и переселяется в Англию. А когда он узнает, что жандармский полковник, уезжая, пригрозил новым обыском, он заявляет:
– У меня в комнате заряжены пистолеты, и я жду, чем все это разрешится...
Случайно встретив государя Александра II на прогулке в Александровском саду в Москве, Толстой подает ему жалобу на все это безобразие. Государь принял его просьбу и, кажется, потом присылал к нему флигель-адъютанта с извинениями.
И понемногу Толстой успокоился.
В это время – ему было уже тридцать три года – судьба столкнула его с семейством придворного врача Берса. Фет так характеризует эту семью:
«Я нашел любезного и светского обходительного старика доктора и красивую, величавую брюнетку, жену его, которая, очевидно, главенствовала в доме. Воздерживаюсь от описания трех молодых девушек, из которых младшая обладала прекрасным контральто. Все они, несмотря на бдительный надзор матери и на безукоризненную скромность, обладали особым привлекательным оттенком.
Одна из этих девушек, средняя, Соня, которой предстояло сыграть в жизни Толстого такую огромную роль, рассказывала так о начале знакомства со своим будущим мужем:
«Мы были еще девочками, когда Толстой стал бывать в нашем доме. Он был уже известным писателем и вел в Москве веселый, шумный образ жизни. Однажды Лев Николаевич вбежал в нашу комнату и радостно сообщил нам, что только что продал Каткову своих „Казаков“ за тысячу рублей. Мы нашли цену очень низкой. Тогда он объявил нам, что его заставила нужда: накануне проиграл как раз эту сумму в „китайский биллиард“, и для него было делом чести немедленно погасить этот долг. Он намеревался написать вторую часть „Казаков“, но никогда не выполнил этого. Его сообщение так расстроило нас, девочек, что мы ходили по комнате и плакали...
Мы думали, что он интересовался нашей старшей сестрой, и отец мой был в этом вполне уверен до самой той минуты, когда Лев Николаевич попросил у него моей руки. Это было в 1862 г. Мы поехали с матерью в августе месяце чрез Ясную Поляну к нашему деду. Мать наша хотела навестить сестру графа, и поэтому мы, три сестры и наш меньшой брат, пробыли несколько дней здесь. Никого не удивило, что граф был необыкновенно приветлив с нами: наше знакомство было очень старое, и граф всегда был очень мил с нами. Ивицы, имение нашего деда, отстояло в 50-ти верстах от Ясной Поляны. Чрез несколько дней туда приехал вслед за нами и Лев Николаевич, и, одним словом, здесь разыгралась сцена, подобная той, которая описана в «Анне Карениной», когда Левин пишет на столе свое объяснение в любви, и Китти сразу угадывает его. И до сих пор еще я не могу понять, как я разобрала тогда эти буквы. Должно быть, правда, что одинаково настроенные души дают один и тот же тон, подобно одинаково настроенным струнам...». Но писал Толстой совсем не то, что Левин. Сперва он написал начальными буквами: «В вашем семействе существует ложный взгляд на меня и на вашу сестру Лизу; разрушьте его с Танечкой». И, когда Софья Андреевна отгадала это и утвердительно кивнула головой, он написал еще: «Ваша молодость и потребность счастья слишком живо напоминают нынче мне мою старость и невозможность счастья». Больше ничего между ними сказано не было, но оба поняли, что Рубикон перейден.
Но по обыкновению он заколебался. «Я боюсь за себя: что, ежели и это желание любви, а не любовь? Я стараюсь глядеть только на ее слабые стороны и все-таки люблю...». 28 августа, в день своего рождения, когда ему исполнилось тридцать четыре года, он снова укоряет себя в дневнике: «скверная рожа, не думай о браке, твое призвание другое, и дано зато много...». Но, наконец, колебания его кончились, он сделал предложение и получил согласие. Как Левин потом, он дает своей невесте прочесть свой чрезвычайно откровенный дневник. Это чтение потрясло молоденькую Соню, и она плакала долгие ночи и думала уже о разрыве. Но любовь, хотя и раненая, победила, вскоре состоялась их свадьба в придворной церкви Кремля, и молодые уехали в Ясную.
XIII
Несмотря на большую разницу в летах – Толстой был почти вдвое старше своей молодой жены, – они жарко слюбились. Первые месяцы их любви были далеко не безоблачны, но эти мелкие, мимолетные раздоры, кажется, только для того и были, чтобы подчеркнуть это слепое, через край бьющее счастье. Толстой, вечно противоречивый, дал нам две версии этих «медовых» месяцев: одну в «Анне Карениной», в которой чрезвычайно много автобиографических черточек из этого периода его жизни, а другую – в страшной исповеди Позднышева, в «Крейцеровой сонате». Завеса над интимной жизнью молодых супругов до известной степени поднялась только тогда, когда жизненная трагедия их, стариков, уже подходила к концу. Изнемогая под тяжестью взводимых на нее со всех сторон – но без всякого права – обвинений, бедная Софья Андреевна испытывала вполне понятную потребность оправдаться и, натура страстная, несдержанная, а под конец и определенно замученная жизнью и больная, иногда в интимных беседах она приоткрывала завесу над своей брачной жизнью и рассказывала о том, что встретила она на первых шагах в Ясной Поляне. Может быть, со временем ее интимные записки будут опубликованы полностью и мы узнаем крестный путь этой женщины – путь всякого человека есть, в конце концов, крестный путь – во всех подробностях, но и то, что удалось узнать до сих пор, заставляет сказать с полной определенностью и без малейшего колебания: если и виновна, то заслуживает всякого не только снисхождения, но и сострадания. Пыталась рассказать она о своей драме и в художественных произведениях, которые еще не опубликованы, а может быть, и уничтожены и о которых она не раз говорила, бедная женщина, людям, которые никак уж не могли претендовать на звание близких ей людей, хотя бы по годам только, как это было, например, со мною. Так, в одной из таких своих записей она рассказывает в художественной форме, в третьем лице, как герой ее романа, возвращаясь после свадьбы с молодой женой к себе в имение, тут же в карете предъявил ей, потрясенной, впервые свои супружеские права, как потом, когда она, вся розовая и нежная, только что вступила на порог своего нового дома, кто-то из доброжелателей, указывая на одну из баб, которые мыли полы, молодую и красивую, шепнул тихонько:
– А эта вот сударушкой твоего муженька была...
И потому, когда один из биографов Толстого уверяет нас, что обмен письмами с какою-то пустенькой девицей имел для Толстого громадное значение, мы вправе спросить этого возвышенного летописца, не большее ли значение имела для него эта вот Акулина или Матрена, которая потом мыла полы в его доме и в первый же день пребывания молодой его жены в этом доме ударила эту жену в сердце отравленным ножом воспоминания? Женщина может занять собой годы жизни человека и не оставить в его душе никакого следа и может только легкой тенью скользнуть в отдалении и наложить свою печать на его душу до гроба...
Нет, даже медовый месяц их далеко не был безоблачным. Потом, как говорят, жизнь их протекла без малейшего неверного шага, и Софья Андреевна не раз подчеркивала свою безупречность.
– Пусть кто-нибудь скажет, что он пожал руку графини Толстой хоть один раз более нежно, чем это следовало... – сказала она мне раз, когда в стенах белого яснополянского дома уже бушевала последняя буря.
Но – искушения были и искушения сильные: страшный дьявол, как признавал Толстой в старости, автобиографичен. Это те тени, без которых не может быть картины...
Семейное счастье поглотило Толстого настолько, что в октябре уже он совсем прекращает свои школьные занятия, а вскоре и свой педагогический журнал, который шел очень плохо и ничего, кроме убытка, не давал. Опять с головой уходит он в хозяйство – юфанствует, – и молодая жена всячески помогает ему и одна ведет контору и кассу. Разумеется, и в способах ведения хозяйства он то и дело совершает всякие открытия. Так, ему становится вдруг ясно, и он торопится поделиться этим с Фетом, что всякие управляющие и приказчики только помеха делу: «Попробуйте прогнать все начальство и спать до 10-ти часов, и все пойдет наверное не хуже». Неизвестно, последовал ли этому радикальному совету тихий Фет. Временами на Толстого, недоверчивого, подозрительного, налетают порывы ревности к какому-то несуществующему сопернику, «который вполне стоил бы ее», но «малейший проблеск понимания и чувства, и я опять весь счастлив и верю, что она понимает вещи, как и я». И, как всегда, стучатся в его сознание черные мысли о смерти, и он записывает: «я качусь, качусь под гору смерти... А я не хочу смерти, я хочу и люблю бессмертие...» Но не тусклое бессмертие любит он, он ошибается, он любит яркую, поющую, огневую жизнь с ее «Троицыным днем, вянущей черемухой, кумачом и горячим солнцем». Он так любит ее во всех ее проявлениях, что весной, как только солнце спускается за далекие леса, он забывает хозяйство, молодую, беременную первым ребенком жену, свои творения и с ружьем бежит в лес, чтобы насладиться весенними запахами, лесной тишиной и каруселью влюбленных вальдшнепов в сиреневых сумерках, когда над темной лесной пустыней загорается лампадой первая звезда. А то унесется он на пасеку, наденет сетку и целыми часами проникновенно всматривается в жизнь пчел. Все это не бессмертие, это больше, чем бессмертие, это – жизнь, то есть, если угодно, самый влекущий, единственно влекущий человека лик бессмертия.
А в голове его уже роятся и настойчиво просятся на бумагу образы величайшего произведения его, «Войны и мира». Сперва он хотел писать «Декабристов», но, исследуя исторические причины этого яркого эпизода нашей истории, Толстой естественно пришел к эпохе наполеоновских войн, которая поразила его своим ярким колоритом и величественным значением. И потихоньку «Декабристы» умерли, и начались сладкие муки творчества над этой русской Илиадой, муки, которые иногда прерывались светлыми взлетами и чувством своей силы и торжества: «коли можно было бы успеть 1/100 долю исполнить того, что понимаешь, но выходит только 1/10 000 000. Все-таки это сознание, что могу, составляет счастье нашего брата. В нынешнем – 1864-ом – году с особенной силой это испытываю».
Творческая работа его на время прерывается: на охоте с борзыми он падает с лошади и вывихивает себе руку. Руку вправляют, но неудачно, и мучительное лечение, для которого пришлось даже ехать в Москву, продолжается целых три месяца. Наконец, он поправляется и снова с головой уходит в свой роман, изучает материалы, едет на Бородинское поле, роется в библиотеке Румянцевского музея, пишет и перечеркивает, перечеркивает, перечеркивает, и молодая жена его, то беременная, то кормящая, то опять и опять беременная, переписывает набело его каракули, он снова вымарывает все, она снова переписывает, каким-то чудом, колдовством угадывая то, что эти иероглифы значат. И этот, тогда хорошенький, яснополянский Шампольон[40]40
Жан Франсуа Шампольон – французский ученый. Изложил принципы дешифровки иероглифического письма древних египтян.
[Закрыть] до конца дней мужа сохранил эту таинственную способность читать то, чего никто, даже сам автор, прочесть не мог. И даже в старости часто бывало, что Толстой, досыта поломав голову над расшифрованием какой-нибудь своей страницы, в конце концов звал на помощь жену:
– А ну-ка, Соня, прочти, что я тут такое написал...
И та всегда угадывала.
Ах, эти толстовские черновики! Какая это великая школа для всякого писателя! Сколько перечеркиваний, сколько исправлений, какой напряженнейший труд! Мало того, что он часто по двенадцати раз заставлял переписывать законченные, казалось, главы, – уже когда начинался набор, часто в типографию летела из Ясной Поляны телеграмма, чтобы там исправили какое-нибудь одно слово. И интересно, что, безумствуя так над своими творениями, он никогда не обращал никакого внимания на самый слог, который был и остался до конца тяжелым и неуклюжим, как ни у одного писателя в мире... А в результате – безбрежное обаяние.
Раз у Толстого была какая-то очень спешная работа. Он попросил своих гостей помочь ему закончить ее. «Нас рассадили по парочкам, – рассказывает его старый друг, графиня Александра Андреевна Толстая, – на отдельных столах, каждую даму с кавалером. Составилось шесть пар. Мне достался A. M. Кузминский, и мы сидели отдельно в маленькой гостиной, другие же все в большом зале. Он диктовал, а я писала. Совсем неожиданно вдруг стали попадаться такие неуклюжие фразы, что я невольно вспомнила „непроходимые болота“, как выразился раз о Толстом Тургенев, и не могла решиться ни переступить болота, ни передать печати в этом виде; Кузминский, хотя и согла шался со мной, но считал невозможным простым смертным поправлять Толстого...
И, наконец, начало великого произведения появилось в печати, и – заговорила критика. Без скрежета зубовного и без смеха нельзя теперь читать все эти пошлости, которые были обрушены присяжными критиками на гениальное произведение. Вот несколько из этих выпадов, подписанных тогда известными, а теперь совершенно забытыми именами.
«Если бы к слабой опытной мудрости гр. Толстого придать силу таланта Шекспира или даже Байрона, – вещает г. Шелгунов, – то, конечно, на земле не нашлось бы такого сильного проклятия, которое бы следовало на него обрушить». Другой газетный пророк старается: «... Благодаря отсутствию всякого плана и всякой логической концепции между рассказываемыми событиями, роман Толстого можно разогнать не на четыре, а на двадцать четыре тома. Хватит ли только у публики терпения дождаться конца? А гр. Толстой, кажется, не намерен церемониться и, как слышно, написал уже пятый том...». Еще бессмысленнее и грубее выпад другого такого же наставника: «В том виде, как роман написан, он представляет ряд возмутительных, грязных сцен, которых смысл и значение явно не понимаются автором. Он в таком умилении от своих героев, что ему кажется каждый их поступок, каждое их слово интересным: на этих страницах видишь уже не героев, а умиление самого автора, восхищающегося людьми, которых вид заставляет содрогаться от ужаса и негодования... С начала до конца у гр. Толстого восхваляются буйства, грубость и глупость. При чтении военных сцен романа постоянно кажется, что ограниченный, но речистый унтер-офицер рассказывает о своих впечатлениях в глухой и наивной деревне. Невозможно не чувствовать однако же, что тут и рассказчик, и слушатели совсем другие, поэтому рассказ беспрерывно и больно задевает, как те фальшивые ноты, которые заставляют судорожно искажать лицо и скрежетать зубами». И даже знаменитый М. Е. Салтыков-Щедрин, который думал, что обличения помпадуров-губернаторов есть очень важное общественное дело, размахнулся по «Войне и миру» и заявил, что эта книга напоминает ему болтовню бабушек и нянюшек...
Были, конечно, и похвальные, и даже восторженные отзывы, но и они, в общем, были поверхностны и далеко не ухватили огромного значения для русской литературы и жизни этого произведения, которое они пытались «истолковать». Тем из критиков, которые, в качестве знатоков дела, развязно заявляли, что это даже и не роман совсем, Толстой с величайшим достоинством, заслуживающим всякого подражания, говорил: «Не роман? Прекрасно. Но и „Мертвые души“ Гоголя не роман, и „Записки из мертвого дома“ Достоевского не роман, – так что же? Если это не роман, то это та форма, в которой мне заблагорассудилось высказать то, что я хотел высказать...»
Если толстовские черновики лучшая из школ для всякого писателя, то точно так же исторический обзор критической литературы о его первых трудах тоже школа для них, и школа совершенно необходимая. Без смеха и отвращения нельзя читать всю эту стряпню. Во всяком случае, молодой автор, ознакомившись с деятельностью критики на примере хотя бы одного Толстого, хорошо сделает, если не будет собирать о себе газетных вырезок. Лучший девиз для него, единственно верное правило, это: будь верен самому себе и – никого не слушай. Толстой пошел как раз этим путем и, может быть, отчасти поэтому и стал Толстым.
Жизнь его все ширилась, углублялась, слава крепла, и все слышнее были из туманных далей будущего трубные звуки триумфального марша. Ясная Поляна в это время – большое, сытое, солнечное гнездо, в котором жизнь, подчиненная поэтическому ритуалу старого русского быта, кипит любимым и успешным трудом и любовью. А вокруг, над этими полями, тяжко повисла угрюмая хмара голода. Эти противоречия жизни тревожат чуткое сердце Толстого: «Предстоящее народное бедствие голода, – пишет он в одном письме, – с каждым днем мучает меня все больше и больше... У нас за столом редиска розовая, желтое масло, подрумяненный мягкий хлеб на чистой скатерти, в саду зелень, молодые наши дамы в кисейных платьях рады, что жарко и тень, а там этот злой чёрт, голод, делает уже свое дело, покрывает поля лебедой, разводит трещины по высохнувшей земле и обдирает мозольные пятки мужиков и трескает копыта у скотины. Право, страшные у нас погода, хлеба и луга...».
И тяжкие вопросы, вызванные этими противоречиями розовой редиски и мозолистых пяток, тревожат его уединение.
«Всемирно-народная задача России, – пишет он в это время в своем дневнике, – состоит в том, чтобы внести в мир идею общественного устройства без поземельной собственности. „La propri?t? c'est le vol“[41]41
«Собственность – кража» (франц.).
[Закрыть] останется большей истиной, чем истина английской конституции, до тех пор, пока будет существовать род людской. Это истина абсолютная, но есть и вытекающие из нее истины относительные – приложения. Первая из этих относительных истин есть воззрение русского народа на собственность. Русский народ отрицает собственность самую прочную, самую независимую от труда и собственность, более всего стесняющую право приобретения собственности другими людьми, собственность поземельную. Эта истина не есть мечта – она факт, выразившийся в общинах крестьян, в общинах казаков. Эту истину понимает одинаково ученый русский и мужик, который говорит: пусть запишут нас в казаки, и земля будет вольная. Эта идея имеет будущность. Русская революция только на ней может быть основана. Революция не будет против царя и деспотизма, а против поземельной собственности. Она скажет: с меня, с человека, бери и дери, что хочешь, а землю оставь всю нам. Самодержавие не мешает, а способствует этому порядку вещей...».
А в минуты отдыха он читает Мольера, «с непрестанным восторгом» читает «гениальнейшего из людей» Шопенгауэра,[42]42
Артур Шопенгауэр (1788–1860) – немецкий философ, представитель волюнтаризма.
[Закрыть] изучает Канта[43]43
Иммануил Кант (1724–1804) – родоначальник немецкой классической философии. Центральный принцип этики Канта, основанный на понятии долга, – категорический императив.
[Закрыть] и бесится над произведениями ненавидимой им Жорж Санд: «Что за превратная дичь с фразами науки, философии, искусства, морали, – записывает он в дневнике. – Пирог с затхлым тестом и на гнилом масле, с трюфелями, стерлядями и ананасами...».
Подыгрывая себе на гитаре, он поет чувствительные романсы, – «скажите ей, что пламенной душой...». Принимает участие в шумных балах и маскарадах, которые устраиваются в Ясной на святках, занимается скульптурой, улучшением породы скота и птицы, сажает по вырубкам леса, выступает на военном суде защитником солдата, которому грозит смертная казнь за оскорбление офицера, едет на роскошную охоту к соседям, где были собраны сотни дорогих собак и лошадей, где все охотники и псари были в дорогих кафтанах и на привалах рекой лилось шампанское...








